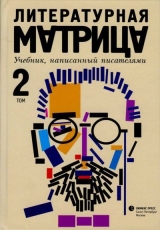
Текст книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Автор книги: Андрей Рубанов
Соавторы: Людмила Петрушевская,Дмитрий Быков,Роман Сенчин,Максим Кантор,Александр Кабаков,Павел Крусанов,Ольга Славникова,Александр Етоев,Герман Садулаев,Мария Степанова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Поначалу это «откровение», это «чудо истории» радует своим бесстрашием («Какая великолепная хирургия!»), своей несвоевременностью («Ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины…») Но три зимы, как будто слившиеся в одну (в той части романа, где описывается революция, мы видим в основном зиму), утомляют Живаго. Утомляют тем, что «все производное, все относящееся к обиходу, к человеческому порядку… пошло прахом». После отъезда Лары – или нет, после партизанского отряда, после самой восточной точки пространства – в романе начинает твориться с героем нечто иррациональное. Мы больше не видим его «изнутри». Да и сами 1920—1930-е годы описаны, в противоположность годам революции, как жаркая, «летняя, ослепляемая солнцем Москва» – и вот нам уже кажется, что произошло нечто гнусное и необратимое. Смерть Живаго усиливает это впечатление. Так вот к чему клонит автор!
Но Пастернак разрушает и эту систему – эпилогом. Освободительная война изменила друзей Живаго, сделала их мудрее, проще и серьезнее. Да и Живаго не бесследно, как выяснилось, жил на этой земле: остались его стихи. Итак, есть вещь, перед которой революция бессильна. Что это за вещь такая? Это, конечно, не может быть ни человек, ни человеческая семья, ни тем более общество. «Это язык!» – говорит Пастернак. В уста всех героев вложена выразительная и интеллигентная пастернаковская речь. Язык у Пастернака зависит только от настроения, состояния говорящего, а не от того, какие конкретно внешние события происходят. То же можно сказать о природе и о женщине: для Живаго поэзия, женщина и природа – стороны одного явления.
Выходит, Пастернак и в романе, и в своей историко-философской мудрости, остается, главным образом, лирическим поэтом. Где Толстой стремился к объективности – там Пастернак пытается личным творческим усилием спасти мир. Так как там, товарищ Пастернак, насчет роли личности в истории, а?
Проницательный Константин Федин, объявивший роман «гениальным, чрезвычайно эгоцентрическим, гордым, сатанински надменным» [338]338
Отзыв Федина зафиксирован в дневнике К. И. Чуковского 1 сентября 1956 г.: «…Роман, как говорит Федин „гениальный“. Чрезвычайно эгоцентрический, гордый сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный – автобиография великого Пастернака» (Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969. Т. 2. М., 2003. С. 285). – Прим. ред.
[Закрыть], прав. Хотя ни Юрий Живаго, ни сам Пастернак не страдают манией величия и не объявляют себя Богом, «особые отношения» творца и Творца, определение творчества как доказательство бытия Божия – все это в романе есть. Да весь роман написан об этом. Не нам судить, впал ли Пастернак в грех гордыни (а если и впал? подумаешь!). Нам важна эта тема для ответа на вопрос, почему же все-таки Пастернак погиб после всей этой чудовищной истории с отказом от Нобелевской премии. По-моему, дело обстояло так: Пастернаку надоело сидеть «внутри» своей лирики. Ему захотелось выбраться наружу. Прокомментировать. Построить теорию на основе собственных опытов с жизнью и поэзией. За это он и был наказан (или, наоборот, вознагражден). Помните лягушку-путешественницу? Летишь – молчи! Придумал мир, живешь в нем – молчи! Никому не выдавай, что автор – ты!
Пастернак не стерпел, выдал. И умер. Потому что на самом деле его взгляды были куда крамольнее и разрушительнее для советского строя, чем он сам о них думал. Индивидуализм, наличие миссии, собственной творческой цели – хуже вооруженного сопротивления. В романе «Доктор Живаго» налаженный быт, рожающая женщина, написанная строчка, вообще всякое созидание требуют небывалых усилий; а тот, кто созидает среди разрушения – больший контрреволюционер, чем белые.
Живаго – и Пастернак – всем своим существованием отрицают смысл любых перемен. Они стоят в оппозиции к времени. И закономерно гибнут.
9
Конец 1950-х и 1960-е годы – время больших мировых перемен, настоящая революция. Люди начали летать в космос. Получили реальную возможность грохнуть с размаху всю планету, совершив коллективное самоубийство (мирный и немирный атом). Стало можно заниматься сексом, не рожая (бурное развитие контрацепции), стало возможным, сойдя с ума, вернуться обратно (изобретение психотропных веществ). Столь многие границы растаяли в воздухе, как дым! Могла ли поэзия остаться прежней? Чего уж там: не могла.
Пастернак – последний из наших «стариков»; последний из великих поэтов, писавших наивно.
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача.
Быть притчей на устах у всех.
(«Быть знаменитым некрасиво…», 1956)
Ну, это отлично, и это афористично, «Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать», и поспорить тут не с чем, и отмахнуться невозможно. Тема, конечно, взята достаточно емкая. Крепкий текст, ничего не скажешь. Но… Выше я уже говорила – Пастернаку нужна была объединяющая идея, без нее не мог, иначе реальность оглушала его, иначе он не мог справиться; ему нужно было чувствовать себя заодно с миром, быть жизни братом, а Богу сотворцом. Обстоятельства при этом могли быть в меру неблагоприятными (угрозы, тревоги – чем хуже, тем лучше! – впрочем, с по-настоящему сокрушительными бедами ему не довелось столкнуться), но внутри у Пастернака должен был царить мир.
А никакого мира внутри, по большому счету, не бывает.
Вернее, он бывает, но не как точка устойчивого равновесия, а как… временное перемирие.
Поэты, пришедшие сразу вслед за Пастернаком, это понимали очень хорошо.
Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time
Marble-heavy, a bag full of God,
Ghastly statue with one gray toe
Big as a Frisco seal
And a head in the freakish Atlantic
Where it pours bean green over blue
In the waters off the beautiful Nauset.
I used to pray to recover you.
Ach, du. [339]339
Папа, надо было тебя убить. / Ты умер раньше, чем я успела, – / Каменный мешок богом набит, / Призрачная статуя, палец серый – / Огромный, как тюлень из Фриско, / А голова – в Атлантике капризной. / Синяя борозда – на зеленую борозду / В океане у светлого городка. / Я молюсь – тебя жду! / Вдруг вернешься? Тоска. / Ach, du! (Перевод Василия Ьетаки). – Прим. ред.
[Закрыть]
Это американский поэт Сильвия Плат, «Daddy» (1962) [340]340
Плат,Сильвия (1932–1963) – американская поэтесса, написавшая также автобиографическую книгу «Под стеклянным колпаком». В 1982 г., посмертно, ей была присуждена Пулитцеров-ская премия – за собрание стихов, изданное в 1980 г. ее мужем, английским поэтом Тедом Хьюзом. В 2008 г. издательство «Наука» выпустило полное «Собрание стихотворений» С. Плат (серия «Литературные памятники») в переводе В. Бетаки. – Прим. ред.
[Закрыть]. Почувствуйте разницу. Да, стихи наигранные, нервные, в них нет мудрости и «обретенного ответа», нет гармонии. Любить их трудно и не обязательно. Но с насколько более эмоциональным, изощренным, насколько менее наивным высказыванием мы имеем дело здесь. Можно не понимать, о чем здесь вообще идет речь, – но очевидно, что это на порядок сложнее и актуальнее, истеричнее и историчнее, чем пастернаковская «мировая гармония». Ведь любая гармония (впрочем, как и любое самоубийство) есть, отчасти, самообман. Правда, возможно, в том, чтобы выдерживать беспокойство и прорываться, несмотря на страх, за пределы.
Или наш – пока еще «наш» – Бродский, 1964 год:
Ни волхвов, ни осла, ни звезды, ни пурги,
что младенца от смерти спасла,
расходясь, как круги от удара весла.
(…)
Спи, рождественский гусь. Засыпай поскорей.
Сновидений не трусь между двух батарей,
между яблок и слив два крыла расстелив,
головой в сельдерей.
Вот вам и больница (дурдом), и Рождество! («Новый год на Канатчиковой даче»). С позиций ангелов и пастухов, говорите? Теперь приходится смотреть с позиции рождественского гуся… Пастернака спасали доктора, а Бог держал его «как изделье», бережно; здесь же поэт – жертва произвола судей, докторов (Бродского ведь упрятали в психушку не потому, что он был психом) и собственного страха…
Никакой гармонии. Никакой наивности.
10
На этом разговор о Пастернаке можно бы и завершить. Но надо сказать еще одну важную вещь. Пастернак – сама суть, квинтэссенция русской стихотворной традиции, со всеми ее плюсами и минусами. Именно стихи, написанные Пастернаком и по-пастернаковски, всегда будут популярны в нашем Отечестве:
– его трогательное внимание к женщине;
– его способность поэтизировать собирание грибов и прочий быт;
– его уважительное отношение к власти, когда она строга, и пренебрежительное – когда она слаба;
– его внешние «лирические восторги» при внутренней нормальности и спокойствии;
– его чувство вины и творческая гордость;
– его классические размеры, ясность и строгость поздней лирики;
– его раннее «чем случайней, тем вернее», его огромный словарный запас;
– его сезонность, не выходящая, впрочем, за рамки климата средней полосы России;
– его человечность и порядочность, ограниченность и благородство;
– его несовершенство – все эти качества, к счастью и к сожалению, до сих пор характеризуют «магистральный» путь русской поэзии. Будем же мириться/бороться со всем этим барахлом/добром, чтобы поэзия наша, решительно обновляясь, оставалась прежней.
Ольга Славникова
ДАР ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Владимир Владимирович Набоков (1899–1977)
У читателя, особенно молодого, привыкшего к предложениям максимум из пяти слов («Подчеркните подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя», – звучит у меня в ушах сахаристый голос моей «русички»), – у такого, повторяю, читателя, открывающего книгу Владимира Набокова, может сильно закружиться голова. Фраза, начавшись году в 1910-м под Петербургом, завершается в Берлине в середине 1930-х годов. Фраза держит на себе столько метафор и смыслов, точно грамматическая конструкция ее сделана из титана. «Зачем все это? – спросит балбес, которого от Набокова затошнило. – Разве нельзя проще?» Извините, нельзя.
Есть разница между удовольствием и счастьем. Последнее не сводится к первому. Человек, чья жизнь полна удовольствий, может при этом барахтаться в темной мути и не видеть выхода – и не верить, что выход есть. С другой стороны, жизнь скудная, трудная может быть пронизана таким светом, что человек становится неуязвим. Никакие бытовые неудачи, никакое безденежье его не достают. Удовольствие конечно – счастье бесконечно.
Простая, развлекательная литература служит удовольствию. Литература подлинная дает человеку счастье. Она меняет систему ценностей: мир, пропущенный через призму художественного, радует больше, чем деньги, и, когда денег нет, остается с тобой. Подлинная литература защищает своего читателя от мерзостей жизни. Таковы книги Владимира Набокова.
Владимир Владимирович Набоков родился 22 (10) апреля 1899 года в Петербурге, в семье богатой и родовитой, а сверх того – счастливой. Отец писателя, Владимир Дмитриевич Набоков, был одним из видных деятелей партии кадетов – партии интеллигентных либералов, стоявшей не за интересы отдельного класса, а за либерализацию российских законов и равенство всех граждан перед законом. Мать, Елена Ивановна, урожденная Рукавишникова, происходила из семьи староверов, разбогатевших на коммерции и вполне освоившихся в фешенебельном культурном Петербурге. Отец и мать писателя любили друг друга всю жизнь, сколько каждому из них было отпущено. Свет этой любви распространялся на детей – их в семье Набоковых было пятеро, Владимир старший. Точка во времени и пространстве, где отец писателя сделал предложение его матери (во время велосипедной прогулки, на крутом подъеме дороги около усадьбы Выра), – всегда вызывала у Набокова творческое и человеческое волнение.
Несмотря на потерю имений, на эмиграцию и бедность в эмиграции, личная судьба писателя, заряженная с детства семейным счастьем, повторила родительскую судьбу. В Берлине, на одном из эмигрантских благотворительных вечеров, он встретил Веру Слоним, которая стала ему женой, музой, помощницей, матерью горячо любимого сына Дмитрия. По словам очевидцев, Владимир и Вера Набоковы и в шестьдесят с лишним выглядели как молодые влюбленные.
Счастье – это нечто большее, чем сумма жизненных обстоятельств. Счастье по-набоковски хорошо иллюстрирует история с огромным наследством, которое писатель получил, когда ему было семнадцать лет. Дядя Владимира Набокова, Василий Иванович Рукавишников, оставил ему «…миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь». Это цитата из автобиографического романа «Другие берега», где Набоков сообщает, что не испытал «добавочного удовольствия» от «вещественного владения» усадьбой и окрестностями, которыми «и так владела душа». Соответственно, «когда большевистский переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь», Набоков все-таки не расстался с главным сокровищем. Он вывез в эмиграцию все впечатления, краски, образы, которыми было пропитано его русское детство. Эти богатства пошли на стихи, на пьесы, а главное – на удивительную прозу, благодаря которой Владимир Набоков занял высокое место в русской и мировой литературе.
Как и многие великие прозаики, Набоков начинал как поэт. Петербург его юности буквально вскипал стихотворчеством: казалось, там все были поэты. Набоков продолжал писать стихи в Крыму, куда семья Набоковых бежала от Октябрьского переворота, после в Кембридже, где учился с 1919 по 1922 годы. Затем Владимир Набоков перебрался в Берлин, где жила тогда его семья. В Берлине он «застрял» до 1937 года, там же были написаны и поставлены в эмигрантских русских театрах его первые пьесы, там продолжился «жар стихотворчества» – причем к юношеским своим опытам автор уже относился критически. «Невозможно определить (но, кажется, это случилось уже за границей) точный срок перемены в отношении к стихотворчеству, – когда опротивела мастерская, классификация слов, коллекция рифм. Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть! Ложные навыки держались крепко, сжившиеся слова не хотели расцепиться. Сами по себе они были ни плохи, ни хороши, но их соединение по группам, круговая порука рифм, раздобревшие ритмы, – все это делало их страшными, гнусными, мертвыми». Право на уничтожение собственной юношеской стихотворной мастерской Владимир Набоков передает главному герою романа «Дар» Федору Годунову-Чердынцеву. Как все автобиографические герои прозы Набокова, Годунов-Чердынцев находится с автором в близком родстве: не сам Набоков, а, пожалуй, его брат-близнец, младше на несколько минут (что всегда определяет отношения между близнецами), прошедший сходный, а все-таки отличный от авторского, жизненный путь. О романе «Дар» ниже: он, собственно, будет главной темой этой статьи.
Стихи Набоков писал всю жизнь, и некоторые ценители видят в нем прежде всего поэта (как сам Набоков ставил стихи Ивана Бунина выше его «парчовой прозы»). Но по-настоящему преодолеть «классификацию слов» и обрести высокую свободу письма Набокову удалось именно в прозе. Здесь важно знать, что творчество Набокова делится (а может быть, и разламывается) на два больших периода. Первый – когда Набоков писал по-русски. Это было в Берлине, затем в Париже – до 1940 года, когда Набоков с семьей перебрался в США.
Тогда Набоков публиковался под псевдонимом Сирин – от русской сказочной птицы сирин [341]341
Сирин (греч.Seiren – Сирена) – в древнерусской литературе и народных сказаниях: фантастическая сладкоголосая птица, которая, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей пением и этим разгоняет печаль и тоску. – Прим. ред.
[Закрыть], надо полагать. Настоящую опору воздуха под крыльями писатель чувствовал, когда пестовал и обогащал свой русский (отказавшись, между прочим, учить в Берлине немецкий, чтобы русский не засорился). Это была громадная, кропотливая работа, подобная, быть может, работе селекционера. Как селекционеру требуется для результата, чтобы сменялись поколения живых существ, с которыми он экспериментирует, так и писателю требовались поколения слов – что выражалось в последовательности единиц прозы: рассказов и романов. Набоков-Сирин написал сборники рассказов (основные – «Весна в Фиальте», «Возвращение Чорба»), романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние», «Защита Лужина», «Подвиг», «Приглашение на казнь», особняком стоящую повесть «Соглядатай» и, наконец, роскошный «Дар». Свой последний европейский роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight») Набоков писал уже по-английски. Почему так произошло?
Представим себе Берлин середины и конца 1920-х годов. Жизнь здесь дешевле, чем в любой другой европейской столице, и потому сюда стекаются обнищавшие русские эмигранты. Русская колония в Берлине составляет как бы отдельный город с населением в несколько сотен тысяч человек. Здесь кипит культурная жизнь: выходит русская пресса, создаются русские издательства. За невозможностью получить всю русскую читательскую аудиторию (СССР превратился для эмигрантов в белое, а точнее, в мглисто-серое пятно), Берлин дает молодому автору наилучшие возможности публиковаться и набирать известность. Набоков-Сирин за короткое время становится лидером молодой эмигрантской литературы. Известно высказывание Бунина по поводу выхода «Машеньки»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня». Но это была, как сейчас говорят, широкая известность в узких кругах. И дело даже не в недостатке славы: Набоков, самоуверенный и самодостаточный, и без «распиаренности» знал, чего на самом деле стоят его произведения. Дело было в нехватке средств на жизнь. Набоков нигде не служил (в самом начале берлинской жизни проработал в банке рекордно короткий срок: три часа). Помимо публикаций прозы и стихов, источником дохода для Набокова служили переводы и частные уроки английского и французского, тенниса и бокса. Вера Набокова время от времени находила себе место секретарши. Годы шли, положение становилось все хуже. Из-за инфляции жизнь в Берлине сильно вздорожала, русская колония совсем поредела, издательства стали убыточными. Владимир Набоков возлагал надежды на переводные издания своих книг, но надежды оправдывались слабо: никакие художественные достоинства не становились аргументом в пользу русского писателя. Набоков лихорадочно искал место преподавателя в англоязычной стране, готов был ехать хоть в Южную Африку – но раз за разом получал отказ. Кроме того, переводы Набокова на английский были крайне неудачны: переводчики своим неуклюжим слогом убивали в его прозе жизнь, как убивает радиация или химическая отрава жизнь в лесу, в реке. Набоков пытался сам редактировать себя по-английски, но редактура, даже авторская, оказывалась бессильна. Тогда он принял решение перейти со своего послушного, красочного, выпестованного русского на тугой и «второсортный» английский.
Тут надо сказать, что язык как средство обычного общения и язык литературы – совершенно разные субстанции. В обычном понимании Набоков, когда начинал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», владел английским блестяще. Еще в Петербурге, в своей семье, он был окружен нарядной, бодрой, праздничной Англией, которую родители-англоманы создавали для себя и своих детей. Вместо русских сказок у маленького Владимира были английские детские книжки, и по-английски он начал читать раньше, чем по-русски. После, уже в Кембридже, он понял, что Англия его детства мало похожа на реальную Англию: то была сказочная страна, где первенствовало воображение, и эта сказочная страна располагалась все-таки в России. Так и с английским языком: Набоков свободно говорил, писал, переводил, но воображение его работало по-русски. В английском языке он знал все слова, но не чувствовал, как они отражаются друг в друге, как при ударе друг о друга высекают искру. Поэтому он опасался, что английская проза у него получится «с акцентом». Кроме того, Набоков жил в эмигрантской среде и «аборигенов», то есть европейцев, знал внешне. Этого внешнего знания было недостаточно, чтобы свободно создавать литературного героя. Не случайно писатель Себастьян Найт, о котором речь в первом англоязычном романе Набокова, все-таки русский по отцу и детство, как и сам Набоков, провел в России. И позже, уже освоив по-писательски и английский язык, Набоков все равно мог «танцевать только от печки», которой была Россия или, в лучшем случае, эмигрантская Европа. Его самый трогательный и теплый англоязычный роман «Пнин» («Pnin») посвящен русскому профессору, ставшему гражданином Америки. А главный герой самого американского романа Набокова «Лолита» («Lolita»), Гумберт Гумберт, имеет происхождение смешанно-европейское, то есть все равно выделяется на американском фоне чужаком – какими и были в Соединенных Штатах русские эмигранты.
Разъезжая по Соединенным Штатам с лекциями (существенная часть гонораров поглощалась дорожными расходами), Набоков писал жене: «По дороге меня пронзила молния беспредметного вдохновения, страшное желание писать, и писать по-русски, а нельзя. Не думаю, что кто-либо, не испытавший моего чувства, может по-настоящему оценить его мучительность, трагичность. Английский язык в этом смысле иллюзия и эрзац. Я сам в обычном состоянии – то есть занятый бабочками, переводами или академическими писаниями – не совсем учитываю грусть и горечь моего положения». Из цитаты видно, чего стоила Набокову смена языка.
И все-таки он стал «великим американским писателем». У него не было другого выхода, чтобы сохранить себя и выжить. Сегодня нельзя оценить потери, которые понесла при этом русская и мировая литература: вообще потери, которые несет писатель, оставшись один на один с жизнью, нигде и никем не учитываются. Так или иначе, Набоков с семьей эмигрировал в Америку, ускользнув от расползавшейся по Европе гигантской коричневой тени Гитлера, и стал эмигрантом в квадрате. Впрочем, англоязычные книги Набокова вполне тянут на отдельное наследие отдельного крупного писателя. По-английски Набоков написал исследование «Николай Гоголь» (которое читается скорее как проза); романы «Пнин» («Pnin»), «Лолита» («Lolita»), «Другие берега» («Speak, Метогу»), «Под знаком незаконнорожденных» («Bend Sinister»), «Бледное пламя» («Рак Fire»), «Ада, или Страсть» («Ada, or Ador»), «Прозрачные вещи» («Transparent Things»), «Смотри на арлекинов!» («Look at the Harlequins!»), перевел на английский «Слово о полку Игореве» и «Евгения Онегина».
Судя по всему, в Соединенных Штатах Набоков был счастлив. Несмотря на драматическую смену языка, несмотря на изнурительные, особенно поначалу, поиски работы – все-таки счастлив. Набоков преподавал в колледже Уэлсли литературу и русский язык (не мог получить там постоянное место, с ним каждый раз заключали годовой контракт), затем был приглашен в Корнелльский университет. Вплоть до грандиозного успеха «Лолиты» издавался по-английски очень скромно. Иллюстрацией американского счастья Набокова могут служить его отношения с бабочками. Страсть Набокова к бабочкам зародилась в раннем детстве, в Выре, где будущий писатель поймал своего первого сфинкса, где в одной из комнат хранилась поблекшая отцовская коллекция. Бабочки стали для Набокова и предметом страстного научного интереса, и постоянным источником творческой писательской энергии. С детства он мечтал открыть новый вид бабочек. Дальнее торфяное болото в окрестностях Выры, с которым у юного энтомолога связывались особенные надежды, в семье Набоковых называли Америкой. Мечта осуществилась в настоящей Америке. Вот картинка – воплощение счастья: профессор Набоков, уже «толстяк в трусиках», гоняется за бабочками где-нибудь в Юте или Аризоне, а Вера Набокова, с пистолетом в руке, охраняет мужа от змей.
Скандальный успех романа «Лолита» принес Набокову материальную независимость. История Гумберта Гум-берта, питавшего извращенную страсть к своей маленькой падчерице, в Соединенных Штатах попала под запрет. Роман был издан в парижском издательстве с сомнительной репутацией, вызвал горячие споры (одни увидели в «Лолите» порнографию, другие высокую литературу); тираж на некоторое время был арестован. Однако Грэм Грин [342]342
Грин,Грэм (1904–1991) – английский писатель. – Прим. ред.
[Закрыть]назвал «Лолиту» одной из лучших книг года, запрет был снят, и в результате «Лолита» стала американским бестселлером, побив по тиражам «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Сразу издатели выстроились в очередь к Набокову, желая теперь напечатать все, что он написал. Права на экранизацию «Лолиты» были проданы за сто пятьдесят тысяч долларов (громадная сумма для конца пятидесятых – начала шестидесятых); режиссером фильма стал Стэнли Кубрик, сценарий написал сам Набоков. Теперь писатель мог оставить преподавательскую деятельность. Свою последнюю лекцию в Корнелле он прочитал 19 января 1959 года.
В 1962 году Набоковы возвращаются в Европу. Оставшиеся ему полтора десятилетия писатель прожил в швейцарском городке Монтре на берегу Женевского озера, в отеле «Палас». Чем объясняется возвращение? Возможно, тем, что Набоков хотел отмотать жизнь назад, перестать быть эмигрантом в квадрате. В результате он стал эмигрантом в кубе. Писатель признавался, что в Монтре он испытывает такую же ностальгию по Америке, какую испытывал в Европе по России. Почему отель, почему разбогатевшие Набоковы не приобрели в Европе достойную недвижимость? Вероятно, отсутствие своего дома стало за жизнь непреодолимой привычкой. Вероятно также, что Набоков так отстаивал свою свободу. Роскошный отель с многочисленной обслугой чем-то напоминал детство писателя в Выре и в особняке на Большой Морской. Желая вернуться в детство, тем самым в каком-то смысле вернуться в Россию, Набоков, кроме того, следовал примеру горячо любимой матери (к тому времени давно покойной, умершей в европейской эмигрантской нищете). «Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице», – писал Набоков о беззаботных российских годах в «Других берегах». Кто хоть немного понимает в писательском труде, тот согласится, что житейская беззаботность – синоним творческого рая. Под конец жизни Набоков этого достиг.
Дата смерти Набокова – 2 июля 1977 года. Писатель похоронен в Кларане близ Монтре. Сейчас странно думать, что Набоков не дожил какого-нибудь десятилетия до триумфального возвращения в Россию, в которое верил и не верил, о котором мечтал всю жизнь. В 1988 году в журнале «Урал», где я работала тогда, был опубликован роман «Дар», впервые в СССР. Восьмидесятидевятилетний Набоков вполне мог курировать эту свою публикацию. Я могла говорить с ним по телефону. Считается, что жизнь не знает сослагательного наклонения. Однако Владимиру Набокову случалось воображением и Пушкина оживлять: «Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение: шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть; я не в силах был оторваться от соседней ложи, я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши… по спине пробегали мурашки, вся Отел-лова ревность не могла меня отвлечь. Что, если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения… Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала „Анчар“, „Графа Нулина“, „Египетские ночи“… Действие кончилось; грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи» («Дар»).
Представим и мы, что Владимир Набоков, большой мешковатый старик, с загорелой дочерна лысиной, в горных ботинках, продолжает свою охоту на бабочек где-нибудь на альпийских склонах, а вечерами читает собственные книги, обнаруживая там все новые гармонии и смыслы.
Роман «Дар» – центральное произведение Владимира Набокова. Писатель отвергал простую «маршрутную» мысль о человеческой жизни как о пути, представляя жизнь как «круглую крепость», окруженную со всех сторон загадочной бездной. Вероятно, и слова «творческий путь» к Набокову также неприменимы; тут подходит идея не линейного, но вращательного движения, близкая самому автору. «Дар» – сердцевина этого вращения: через роман проходят все тематические радиусы прозы Набокова.
Главный герой романа, молодой эмигрант, поэт Федор Годунов-Чердынцев, приходится Набокову, как было сказано выше, младшим братом-близнецом. Многое из биографии Набокова было отдано Годунову-Чердынце-ву, в преобразованном виде, но близко к реальности. Действие происходит в Берлине, в литературной и окололитературной эмигрантской среде. Роман начинается с того, что у Годунова-Чердынцева выходит первая книга стихов. Сюжетный стержень романа – развитие и возмужание литературного дара героя. На этот стержень наматываются цветной спиралью все другие темы «Дара». Казалось бы: развитие поэта – разве это сюжет? Не путешествие, не борьба за власть, не раскрытие преступления. Но стержень оказывается сделанным из того же титана, из которого построены несущие конструкции набоковских фраз. И тут следует обратиться к первой важнейшей теме Набокова: об отношении искусства к действительности.
В Петербурге подросток Набоков учился в прогрессивном и либеральном Тенишевском училище. Преподаватель литературы Владимир Гиппиус задал классу сочинение на тему «Лень». Набоков сдал пустой лист – и получил за этот арт-жест от умного Гиппиуса хорошую отметку. Что именно сдал Набоков учителю, что представляла собой эта пустая страница? Белизна бумаги и стала тем пахотным полем, на котором Набоков проработал всю жизнь – с таким вложением сил и с такой отдачей, какая не снилась завзятым трудоголикам. В лучшие, самые плодотворные годы Набоков мог писать по двенадцать – пятнадцать часов в сутки. При чем тут лень? Дело в том, что Набоков отрицал глобальную ценность «потного» пролетарского труда, труда ради куска хлеба – в противоположность большевикам. Набоков видел подспудную связь между большевизмом и дарвинизмом, объясняющим происхождение видов, в том числе происхождение человека, борьбой за существование. «Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование – какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. (…) Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха» («Другие берега»).
По Набокову, все в живой природе обнаруживает художественную избыточность. Писатель видит это на примере своих любимых бабочек. В «Даре» главному герою рассказывает об этом отец, знаменитый ученыйэнтомолог: «Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая необъяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (…) он рассказывал об этих магических масках мимикрии; о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся моделью и для множества других подражательниц».








