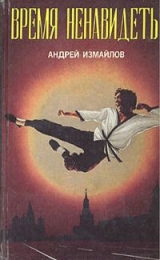
Текст книги "Время ненавидеть"
Автор книги: Андрей Измайлов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Ушел немец! Сытник не слышал – валялся невменяемым сивушным кулем. Сквозь сон пробивалось: тарахтенье, лязг, лай, взрывы, стрельба. Но очнуться не мог. Очнулся только тогда, когда стало тихо. Потрескивало. Уютно потрескивало – костром на заимке. Сытник зашевелился, усовывая голову под телогрейку – от света. Уютно, тепло… Дымно! Он хлебнул гари и подскочил. Вокруг горело, щелкало, оседало с тихим шуршанием. Ушли! Бросили!.. Сытник брел по пустой, разбитой улице. Очумело пялился на рваный огонь – в крови бродила не перегоревшая за ночь сивуха.
Тень прыгнула из проулка и встала перед ним. Сытник еще ничего не понял. Всмотрелся. Узнал и блаженно заорал:
– A-а! Попался, шныреныш! – нелепо, некоординированно захватал руками в поисках оставленного у матраса винтаря. – Сейчас я т-тебя! Я т-тебя, шныреныш!..
Тень не двигалась. Блеснули зубы в отсвете огня. Улыбка была чуть – губами, не глазами. Глаза смотрели льдисто, с любопытством: ну-ну? Автомат дал очередь – в упор, в Сытника. Не в Сытника – поверх головы.
Тогда Сытник айкнул, присел, рванулся.
Он убегал – от шныреныша. Уже не от шныреныша, не от пацана, который три года назад попортил Сытнику физиономию. Шныреныш раздался, вытянулся, а сейчас и вовсе занимал все пространство за спиной Сытника. Ничего не было позади – только шныреныш, только этот гонящий ужас. Шаги за спиной. Шаги, строго выдерживающие дистанцию. И насмешливое любопытство в глазах, когда Сытник останавливался в изнеможении. Глотку шпарило судорожными глотками воздуха.
– Не стреляй! Не стреля-ай!
Где-то перекликались, топали, плескали воду, гасили.
«Это они,наши!» – колотилось в Сытнике.
«Не наши»– колотилось в Сытнике.
Для Сытникова они – не наши.Он бежал от этого перекликания, этого топота, этого плеска. Оглядывался – сзади все то же насмешливое любопытство, изымающие душу шаги. Страх!
– Ы-ых-ых! Ых-х! – Сытник чуял: конец! Загнал, шныреныш!
Был тупик. Сытник вильнул в развалины дома. Шаги – следом. Сытника волокло по длинному коридору – Дом был вскрыт миной, с вывалившимися внутренностями. Опрокинутый буфет, втоптанные тряпки, скрученная винтом кровать с тяжелыми шарами на спинках.
Один шар срубило ударной волной – он попал под ногу Сытника, лежал напоказ, как последний шанс. Сытник, подавшись вперед, схватил шар и бросил руку назад, за спину, не оглядываясь. Зазвенело!
Шар угодил в раму с портретом, который непонятно как сохранился на стене. Шныреныш слегка отклонился – шар разбил портрет, слабо отскочил, ткнулся об пол.
Все! Стена. Обои крупного рисунка: коричневое с золотом, виноградные грозди. Сытник силился подняться по стенке, выдирая ногтями полосы обоев. Поднялся, повернулся – та же дистанция, насмешливое любопытство, льдистость. Ствол автомата стал подниматься – медленно, слишком медленно.
– Стреляй! Стреляй!
Грузно, осыпая обломки, куски штукатурки, кто-то заторопился на крик. Из коридора в дверь, отрезанную для Сытника, ввалился второй – в копоти, с дорожками пота на щекастом, нездорово полном лице:
– Святослав! Не смей!.. Не смей, я приказываю! – Брезентовая сумка на боку, стеклянный звяк. – Не смей, Святослав!
Тот повел стволом в сторону толстяка:
– Тише, Яклич! Тише! Это мое дело. Это нашес нимдело! – снова нацелился в Сытника.
– Святослав! – воззвал толстяк, беспомощно запнувшись на пороге. – Это же пленный! Пленный!
– Не-ет! Это не пленный! Это, Яклич, Сытник. Клим Сытник. Ты помнишь Сытника, Яклич?
Толстяк помнил Сытника. Сытник тоже узнал толстяка:
– Доктор! Я пленный! Помоги! Пленный я! Доктор, скажи ему! Пленный я!
– Не-ет… – спокойно, как бы даже вразумляя, сказал Святослав, не выпуская Сытника из-под прицела. – Пленные, они сдаются. А ты вот убегаешь, шариками кидаешься.
– Я сдаюсь! Сдаю-у-усь! – Сытник вскинул руки.
– Святослав! Святослав, не надо! – взвыл толстяк. – Он сдается! Ты не имеешь права!
– Логично! – он снова улыбнулся: чуть, губами.
Толстяка обманул спокойный тон, улыбка. И Сытник обманулся защитой – той, которую он в отчаянии искал у доктора.
– Не имею. Никакого права, – сказал Святослав. И нажал на спусковой крючок.
Сытника исполосовало очередями, прибило к стене. Он оползал толчками – срываясь с одной автоматной очереди, зацепляясь за следующую, ниже. Еще ниже. Все!
Стена была взлохмочена дырами, виноградные грозди – коричневые с золотом – слизнула густая неровная красная полоса.
– Святосла-ав! – кричал доктор, по-бабьи зажав уши ладонями, зажмурив глаза. – Святосла-а-ав!!!
Эхо стихло. Доктор убрал ладони, открыл глаза.
Святослав закинул автомат за спину.
– Идем?
– Ка-ак?! – затрясся толстяк-доктор. – Ка-ак же ты мог?!
– Wie die Saat, so die Emte! – проговорил Святослав тем же вразумляющим тоном. – Идем!
Нижнесаксонский выговор был безупречен, поговорки он тоже знал прекрасно. Глаза… теперь улыбались и глаза – удовлетворенно, безмятежно.
Доктор заглянул в них и испугался.
***
– Wie die Saat, so die Emte! – проговорил Долганов, растирая плечо. – Перевожу для малограмотных: что посеешь, то и пожнешь. Она заслужила.
– Кто боится мужчины, тот бьет женщину! – глухо сквозь накатившую ненависть сказал Гребнев. Вызвал: – Поговорим?
– Конечно! – согласился Долганов. – У нас с вами разговор еще не окончен. Он как раз становится интересным. Только говорить мы будем не так, как вы себе представляете. – Снова потер плечо. – Одноногий Сильвер из вас не получится. Он метал костыль куда эффективней. Но вы тоже ощутимо… Вот этого не надо! – предупредил Долганов (отметил, что Гребнев бесконтрольно собрался, набрякнув расслабленными руками). – Не надо вот этого, не надо… – Долганов на расстоянии от Гребнева показал: гибко свернулся, закрывшись весь. – Знаем, занимались, держим себя в форме. Она далека от вашей, но, учитывая гипс, было бы глупо. А что вы так разволновались? Это моя жена. Осталась при своей фамилии, но жена. У нас с ней свои отношения. Она относится ко мне, я – к ней. А вы к ней не относитесь. Совсем. Это не вы, а я должен волноваться – вдруг да узнать, что верная подруга жизни крепко, хм, дружит с журналистом, согласен, без страха, но, согласитесь, не без упрека. Не так ли?
Волей-неволей выискрилось в глазах у Гребнева раздражение. «Ну, Валентина! Год молчать немей немого, что замужем! Зато потом сразу обрушить стереоинформацию! Гребневу: есть муж! Мужу: есть такой Гребнев! Ну, Валентина!».
– И от кого узнать?! – Долганов прочел в Гребневе раздражение, – Не от жены, нет. От, хм, преемника?
– От кого-о?
– Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна, – «справочным», язвительным тоном продекламировал Долганов. – У вас неправильно набран номер. Справки по телефону… Ах, да! По какому же телефону справки-то?.. Но не по этому, гарантирую. Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна! У вас неправильно набран номер, неправильно набран номер, неправильно набран номер… Преотлично! – Он перешел на тон вразумляющий: – Согласитесь, когда уважаемый человек, директор турбазы набирает номер журналиста, с которым намеревается провести деликатную беседу, а в ответ получает весьма официальное обращение к собственной жене, то… – перевел дух. – Не смотрите вы на торт. Не смотрите так.Кстати, про ваш компот. Большая редкость, я говорил. Да, вы правы, как говорит комментатор Маслаченко. Не представляете, с каким трудом я вытягивал из ОРСа приказ-наряд на этот компот. Только для турбазы, только для интуристов! Только этим и пронял.
А вот вышло так, что и вам перепало. Вкусно? На здоровье!.. Так что о характере ваших отношений с уважаемой товарищ Артюх Валентиной Александровной нетрудно догадаться. Но это же тогда многое меняет, Павел Михайлович! – нарочито радостно воскликнул Долганов, радостно и припо… – Какой там директор турбазы, какой там журналист, какая там деликатность! Свои же люди! Дружим, хм, семьей! Впору на огонек друг к другу заглядывать… Да, вы правы, как говорит комментатор Маслаченко. Заглянул. Дня три назад. Вас шокирует? А что прикажете делать, если хозяин, как достоверно известно, сидит дома в гипсе, но ни в какую на звонок не реагирует, не открывает. Боится, что ли? Меня? С чего ему меня бояться? – унижал Долганов, актерствуя, подчеркивая жесты, мимику, интонацию. – Свои же люди!.. Да что вы в торт уставились?! Глаз не отвести! Бесполезно ведь… Итак, хозяин меня не боится, не с чего. Может быть, хозяин так плотно сидит в своем гипсе, что встать не может? Поможем! Сами откроем! Ключом. Вас шокирует? Своим ключом, своим, Павел Михайлович! Имущество семьи неделимо до определенного момента. Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна не посвящала вас? Жаль, жаль. Так что своим ключом. Где там сидит наш больной? А он не сидит. Вот те на! Но не мог же он надолго отлучиться в гипсе?! Преотлично! Значит, есть резон подождать. У вас уютно, Павел Михайлович… Нет, не сейчас. Дня три назад. Тогда я и устроился.
– С комфортом? – обвинил Гребнев.
– Да, благодарю.
– Ванну, не думали принять? Побриться? Спеть? – по нарастающей обвинял Гребнев.
– Что? А, у вас какие-то неконтролируемые ассоциации, Павел Михайлович. Нет, ванну и побриться – нет. Я брезглив. И петь предпочитаю хором. Но не с кем… Да, вы правы, полистал у вас какие-то наброски скуки ради. Ничего интересного. А вас нет и нет. Преотлично! Я человек дела, мне время дорого. Не дождался я вас, Павел Михайлович, долго ходите-бродите. Но повидаться решил непременно. Надо же все точки над i поставить. Надо же хоть раз преемника поглядеть. Не чужие… Дайте-ка я торт все же от вас отодвину. А то ведь только стенку загадите.
Долганова прорвало. Он говорил заряженно, упруго. И ненависти к Гребневу у него было много больше, чем у Гребнева к нему. Долганов актерствовал, излагая то, что излагал:
В сумочку к жене залез? Залез! А как еще с вами, если вы так?!
В квартиру без приглашения забрался? Забрался! А как еще с вами, если вы так?!
Жене под дых заехал? Заехал! А как еще с вами, если?!.
Долганова прорвало. Говорило оскорбленное мужское достоинство. Да так отрешенно и самозабвенно говорило, что Долганов упустил миг – Валентина взметнулась с пола и вцепилась ему в волосы.
Она давно очухалась от нокаута, и если бы Долганов не стоял к ней спиной, то понял бы: затаилась, слушает, ловит миг… И поймала!
Кошмар! Еще одна безобразная сцена! Энергия в Валентине неиссякаемая.
Она плевалась словами, уже знакомо для Гребнева – горлово выхрипывала бессвязности, знакомо для Гребнева – пантерно уходила от перехватывающих рук Долганова. Таскала, таскала за волосы. Рвущая боль лишила Долганова самообладания. Они кружились на месте, опрокинули столик – торт увесисто ляпнулся всем своим крррэмммом в пол.
Гребнев опять сидел бессильным зрителем, лишенный и второго костыля, запущенного в Долганова. Сидел зрителем, хотя видеть бы он всего этого не видел! И не слышал!
Из бессвязностей Валентины, если связать, получалось:
– Свинья! Какая же ты свинья! Хранитель очага вшивый! А кто тебя с гимнасточкой застукал позавчера?!. Кобелируй хоть по всей турбазе, а меня не приплетай! «Я хоть сейчас, лапа. Но жена! Не можешь даже представить. Юрист! Так обмотает, так затеребит. Век не отмыться. Ни мне, ни тебе. Нет, не думай! Она – собака на сене. Уже год спим врозь, хоть и вместе. Правда, лапа. Так с ней решили». Свинья! Решили?! Это меня от одного твоего прикосновения корчит, не то что от… Юрист тебя обмотает, затеребит?! Да я тебе и нужна только как юрист! Одним только мельником сколько мне мозги морочил?! Махинатор вшивый! Хранитель очага вшивый! Муж вшивый!
Так связывалось, если перепускать междометъя и восполнять смысловые пробелы. И еще один пробел восполнился – опять проползла долгая секунда: точно так же Валентина плевала словами третьего дня. «Слушай, Гребнев! Ты бы разобрался со своими бабами!». Усекла Долганова с гимнасточкой – все! Звонить Гребневу. Чтобы – обнявшись и в пропасть. И будь что будет. А он: «Ты была? У… нас». Вот на него, на Гребнева, и выплеснулось. Потом еще и напоролась на интимно-недвусмысленное бадигинское: «Посмотри мясо! А то я в ванной!». Ничего себе, досталось Валентине!..
Между тем Долганов все-таки освободился, потеряв клок волос. Стиснул Валентину в охапку, волоком протащил к двери, вытолкал:
– Домой! Я кому сказал, домой! – приказно, отрывисто. – Там поговорим. Домой!
– Дом-мой?! – давя слово, смешала Валентина это слово в кашу из отвращения и удивления. – Дом-м-мой?!!
Долганов вытеснил ее за дверь и щелкнул замком, заперся. У Гребнева. С Гребневым.
За дверью сначала – тихо. Валентина не сразу взяла в толк, думала, что Долганов уйдет вместе с ней. Потом – опять осада, трезвон, беспорядочные колотушки. Потом – голоса в подъезде, на этажах. Белый шум. У кого там? Что там? И – хлопок пружинистой двери подъезда. Улетела.
Долганов остался.
Гребнев тоже думал, что Долганов уйдет вместе с Валентиной. Долганов остался.
– Еще какая точка над i не поставлена?! – угрожающе спросил Гребнев, сделав костыльный мах навстречу Долганову. Пока шла очередная безобразная сцена, Гребнева озарило: у него же две пары костылей, две! Выскреб из-под тахты, пока длилось семейное разбирательство. Успел встать. – Предупреждаю, я ведь тоже брезглив. Есть еще точка над i?
– Есть, – бесцветно, как-то никак сказал Долганов. – Мельник. Авксентьев Трофим Васильевич. Злостный хулиган. С неясным военным прошлым.
– Вам Парин об этом сообщил? После вашей встречи с избирателями? В финской баньке? То есть в восстановительном центре?
– Отнюдь. Это я Парину сообщил. После встречи с избирателями. Да, вы правы, в финской баньке. В восстановительном центре. Он у вас очень не любит неприятностей.
– Я их люблю.
– У вас они будут. Если вы… – И внезапно прорвало уже без всякого актерства, без шутовства: – Слуш-шайте, вы! Пе-рес-тань-те вал-лять Вань-ку! – По слогам, дыша в лицо.
… Мы легко забываем свои ошибки, если они известны лишь нам одним. Нет, это не испанцы. И не Долганов. Это Ларошфуко. Продолжая: если ошибки вдруг стали известны кому-то еще, их будут помнить, еще как помнить. И напоминать. Тому, кто их совершил. Еще как напоминать! Но Долганов никогда не признает своих ошибок, он их просто не делает. И тогдатоже. Гребнев понимает?
Гребнев не понимал, но лицо хранил – ни в коем случае даже и тени недоумения! Долганов снова сам вел его. Долганов говорил, исходя из того, что Гребнев знает.Гребнев не знали пытался мысленно про– буриться сквозь первый, верхний пласт того, что говорил Долганов.
Долганов говорил:
– Любой самодостаточный человек поступил бы так же. В той ситуации. И вы тоже, уверен! Да-да! Если бы вам было столько же, сколько мне… И потом! Дело даже в простом сопоставлении: кто ценней объективно? Не субъективно, нет! Убью, но и убьют. Без вариантов. Я – одного, двух. Но и меня тут же. Фатально и бессмысленно. Всегда должен быть смысл! Я со ступинцами три года бил немца, когда к ним, к ступинцам, вместе с вагоном свалился. Три года! И в этом был смысл, была цель. Победить! А тогда,с чекмаревцами, оставалось только одно – погибнуть. Может ли это быть целью? И есть ли в этом хоть какой смысл?
Гребнев прощупывал нить: тогда– это война, что-то не то и не так сделал Долганов тогда.Что именно? Гребнев не знает. Долганов же говорил, полагая: знает!
– … И не было бы всего сегодняшнего. Ни «Кроны», ни такого притока туристов. И район бы плелся где-то в хвосте любых сводок. Надо ли объяснять, кто поднял район на нынешний уровень? Думаю, не надо. Так, значит, был смысл, получается? Тогда… Не вопрос! Был!
… Теперь этот ваш мельник. Да, чист! Знаю. И знал. И тогда тоже. Но подай я голос по тем временам в защиту подследственного и… Не знаю, не знаю… Вы того времени помнить не можете. По книжкам разве, и тех нет. Анкета бы аукнулась на долгие годы, на всю жизнь. Вообще, неизвестно, куда бы я тогда делся. А в результате что было бы? Знаю точно, чего бы не было! Всего того, что сегодня есть! Не у меня, нет! У района, у области, у всех нас!
… И потом! Мельника ведь так и не посадили, не сослали. Ведь за него поручились. Как молол, так и мелет! Ему – что анкета, что не анкета. И потом! Даже и не поручились бы за него – так ведь был Указ. Вы этого помнить не можете. Сентябрьский Указ Верховного Совета в 1955 году. Об амнистии. Конечно, не все под него попадали, кто… Но ваш мельник бы попал… Десять лет? Пусть десять лет! Что для мельника изменилось? Как молол, так и мелет. Да и те. Тогда.Кто погиб. Они кто? Учитель, агроном, тракторист? Мало у нас сегодня учителей, агрономов, механизаторов? Много! Личностей мало. Чтобы настоящая Личность и чтобы могла сделать то, что другим не под силу.
Гребнев понимал: про Личность – это Долганов про себя. Про умелого и неординарного хозяйственника с размахом и фантазией. Который сделал много и сделает еще. И немало!
– … И еще сделаю! И немало! Сколько бы ни рыли под меня, ни копали, ни звонили… соратникам– поисковикам. Отрыли? Откопали? Да одним щелчком я вас пошлю в эту вырытую вами же яму. И сверху присыплю. И притопчу. Преотлично! За оскорбление, за клевету, за надругательство над памятью… Побудительные мотивы мне для вас найти – искать не надо! Уважаемая Артюх Валентина Александровна. Порочить видного человека, параллельно отбивая жену. Аморалка – самое малое, что вас ожидает. В том случае, если хоть один вяк прозвучит. Журналист ведь работник идеологического фронта? Объяснить, что такое аморалка для идеологического работника? И последствия? Преотлично! Я не говорю о том, что никто не поверит невнятному вяканью, но еще и…
Гребнев слушал и думал. Думал и слушал. Слушал и понимал, почему Долганов ранее не уходил, хотя его не раз и не два и не в самой вежливой форме приглашали на выход. Да без этой последней точки над i мыслимо ли было Долганову уйти?!
Гребнев слушал и думал. Думал, что нестыковка. Гребнева всегда отвращали самые интригующие детективы своими последними страницами – теми, где умный-умный собирал всех в кружок и втемяшивал им простым, немудреным текстом: как, кто, что, зачем. Не столько всем собравшимся в кружок (они и так созрели за триста-четыреста страниц, только намекни – все поймут), сколько читателям. Оно так, читатель только и ждет, когда ему все втемяшат – и того, чего он, читатель, не знал, не подозревал, ибо только на последних страницах и обнаруживается. Оно так.
Но Гребнев – не читатель. И Долганов – не умный-умный. Нестыковка. С какой радости или печали Долганова понесло? Да, из того, что он сказал, не все понятно, но ясно, что он, Долганов, большая сволочь. Что-то такое случилось тогда,и Долганов уверен, уверяет себя и Гребнева, что любой на его месте поступил бы так же. (Как? Конкретно, как?! Гребневу неважно теперь. Важно, что это было. И было это плохо).И Долганову, не вникая в подробности, надо было за все не тортом в физиономию запортить и даже не костылем. Сволочь с идеей! Даже из того, что Долганов сказал, даже из этого…
Мельник, по Долганову, под амнистию попал бы! А то, что амнистия объявляется только для преступников, – это как?! И если амнистирован, то, значит, был осужден, – это как?! И если преступник, то попробуй требовать к себе отношение как к честному, ни в чем не повинному, – это как?! Чего там! Авксентьев был признан без вины, отпущен. За него поручился командир отряда. И что?! Сам же Долганов его склоняет на все лады Парину: не все ясно с военным прошлым. Сам же Долганов, у которого – вот выясняется! – не все ясно с военным прошлым! Что же там такое?
Если верить саге о Долганове, накорябанной Париным, то действительно три года геройски партизанил, действительно первым, одним из первых вошел в город, действительно пацаном прошел через все, что и взрослому не всегда под силу.
Парин осторожен – на таком материале, о том времени не стал бы врать или даже просто умалчивать. Себе дороже обойдется, если всплывет. Значит, Парин ничего такого не знал и не знает. И никто не знает.
И Гребнев не знает. Только строит версию, свой вариант. Версия и есть лишь версия. Нужно полное знание, и потому Долганов неуязвим. Хоть и приоткрылся… И уязвим как раз Гребнев, когда и если вякнет какую-то там версию. Мол, сам слышал от Долганова. Слышал Гребнев плохо – опять звон в ушах нарастал, глушил. Вот сволочь!
Но с чего эту сволочь понесло на манер умного– умного с последних страниц?!
– А пленку вы, Павел Михайлович, я вам настоятельно советую, сотрите. Можете поверх музыку записать. Хорошую музыку, ритмичную. Гимнастику под нее делать будете. Преотлично для здоровья… Сотрите, сотрите. Некуда музыку будет писать – пленка нынче дефицит. Это я вам как умелый хозяйственник авторитетно заявляю. Вот эту пленку, вот эту! – Долганов указал своим веским пальцем на магнитофон. – Этого совсем не надо. Никому не надо. Ни вам, ни мне, ни мельнику вашему, ни городским, ни районным… Никому! – подступился к магнитофону, перемотал немного назад, нажал.
– «А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. Паренек тот совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было…».
– Видите? Пра-ав Трофим Васильевич. Каждого понимать надо. Своя правда была. Мельник безграмотный – и то понял. Другой вопрос, как он добрался до меня. Но ответ я найду. И глядите – добрался, но понимает. А вы никак не хотите! Я же вам уже говорил: немного есть того, что стоило бы хранить вечно. Испорченный желудок гарантирую. А вы Ваньку валяете, светски беседуете.
Гребнева прошибло! Пробурился! Понял!Вот тебе и эффект плацебо!.. Цебо-цебо-бо-бо-бо!
Долганов пришел к нему как раз в тот момент, когда шла расшифровка! И как раз прозвучало – мельник о следователе! Возможно, Долганов и не планировал столь долгой, светской беседы. Возможно, Долганов просто устроил бы «маленький мужской разговор» про Валентину – сильный ход! Ведь Гребнев, наверное, не стал бы тогда писать о мельнике. Получалось бы, что он гадит мужу Валентины, гадит сознательно за то, что Долганов – муж Валентины. Поди докажи обратное хотя бы самому себе! Не докажешь. И не стал бы писать. Или стал бы?..
Но Долганов сам открыл дверь чужим ключом, сам пришел в чужую квартиру. И сам получил по мозгам прямо с порога: «А паренек тот – что ж, паренек…».
Мы легко забываем свои ошибки, если они известны лишь нам одним. Ларошфуко. Эрудирован Долганов. Да, забываем, если не напомнят. Если только делаешь вид, что забыл, то каждая частность даже по совершенно иному поводу замыкается на того, кто делает вид, что забыл. (Бегущий в толпе – мнящий, что только на него все и смотрят). «А паренек тот…». Сколько было Долганову тогда? Тринадцать? Четырнадцать? Мельник – про следователя, а Долганов – не про него ли, не про Долганова ли?! Про кого же еще!
Ай, да паренек! Ай, да следователь! Через тридцать пять лет, а докопал! Косвенно, а докопал! Сам в этом принял участие, пусть опосредствованно, через Авксентьева, а докопал, расшевелил! И не знал мельник ничего о Долганове, и следователь-распашонок ничего о Долганове не знал. А докопал, расшевелил! Вот это эффект! Плацебо! Не таблетка, а разговоры о ней!
Долганов получил по мозгам, войдя в квартиру и услышав запись, на ходу перестроился. Не дурак! Если у Гребнева за душой не только Валентина, но и «неясное военное прошлое» Долганова, то маленького мужского разговора не хватит. Не те козыри против паренька-распашонка, принятого Долгановым на свой счет.
Вот Долганов и сменил тактику. «Охмурял». Не дурак!.. Дурак! И сволочь!.. Но что же там такое произошло? Тогда?
– Ну, так я вам еще раз напомню! – прощально сказал Долганов. – Ich kann gewip Wurst machen aus Ihnen! Я из вас запросто могу сделать котлету. В немецком – не котлета, а колбаса, но сути это не меняет. Могу. А вы – нет. Кстати, хотя бы в силу моей депутатской неприкосновенности. Надеюсь, у вас нет сомнений, что меня сегодня изберут? У меня – нет.
– Как зуб? – напоследок спросил Гребнев не без вызова.
– Успокоился, благодарю. К слову, что за таблетку вы мне всучили? Это конечно не… как вы там лопотали?., это я понял. Но, надеюсь, не отрава?
– Глюконат кальция. Совершенно безвредно! – заверил Гребнев. – Зато с эффектом плацебо. Знаете, что это такое? Полюбопытствуйте на досуге, в чем эффект! – вероятно, в голосе у него проступило нечто.
– Непременно! – Долганов, уже выйдя на лестничную площадку, склонился в церемонном вызывающем полупоклоне. Но в глазах не было победы, была реакция на нечто,проступившее в голосе Гребнева. Спохватился, отслеживая назад: не раскрылся ли? не зря ли раскрылся хоть в той степени, в какой раскрылся? и стоило ли?
Гребнев с силой захлопнул дверь, чтоб по носу задело. Не задело. А жа-аль! В чем же такомраскрылся Долганов? В слишком многом, чтобы безошибочно заключить: сволочь! В слишком малом, чтобы доказательно объявить всем; это – сволочь!
На том и расстались. Обоюддозадаченные. Полный дискомфорт в душе.
… Самое смешное, но очень логичное в своей нелогичности, – первое, что сделал Гребнев, это полез в Даля.
«Вот, к примеру, колбаса».
Он ему покажет – колбасу! Ишь, немецкий богаче!..
«КОЛБАСА, кишка, начиненная рубленнымъ мясомъ съ приправами, б. ч. изъ свинины. На колбасахъ штаны проел! – дразнят приказныхъ. Коли бъ у колбасы крылья, то бъ лучшей птицы не было! (Ага! Даже у Даля есть! Вариант «лучшей рыбы»! А этот… говорит!). Колбасный, к колбасе относящ. Колбасник – кто делаетъ или продаетъ колбасы… Бранное или шуточное прозвище немцев…».
– У, кол-лбасник! – выразился Гребнев. – Знаток языка!
«Сотрите, сотрите!».
Так Гребнев и стер!
«Не советую!».
Так Гребнев и прислушался к совету! Да он этого колбасника!.. Он… он сейчас такого понапишет! Про все! У-у, кол-лбас-сник!
***
«Солнце поднималось, сначала заслоненное лесом, просеянное сквозь стволы бликами. Потом взобралось на верхушки самых высоких деревьев, оттолкнулось от них и прошествовало еще выше, выше. Как и вчера, и позавчера, и каждый день, год, десятилетия. Освещая щедро и нежно-зеленый ковер поля, раскинувшегося до горизонта, и спелые волны этого поля, и зябнущую, усталую черноту отдавшей урожай земли, и одеяльную ослепительную покойную снежность – до весны.
Весна-лето-зима-осень. Хлеб. Солнце поднималось, шествовало привычным путем, всматриваясь с высоты, все ли в порядке? Зеленый-желтый-черный-белый. Весна-лето-осень-зима. Да, все в порядке! Будет хлеб!
А как там мельница, всматривалось солнце. Невидимо струит свои воды речка Вырва, цепляется за край плотины, переваливает через нее. И шумит, вертится колесо древней мельницы. Да, все в порядке! Будет хлеб!
А как там хозяин, мельник? Как там Трофим Васильевич Авксентьев, всматривалось солнце. И мельник выходит на лужайку, притеняясь от яркого солнца, из-под руки смотрит в чистое бездонное небо:
– Все в порядке, ярило! Здравствуй!
– Здравствуй, старина! С днем рождения!..».
…– Сейчас ты отпадешь! – заорал Кот с порога. Стрелки его непотребных усов, буде лицо циферблатом, топорщились «без пяти час». – Гр-ребнев-в! С тебя причитается!
С Гребнева причиталось.
Газета свежая. Понедельник. Только-только сегодняшняя.
«Как подлинный народный праздник начался день 20 июня 1982года, вошедший красной датой в наш советский календарь. Нынешние выборы проходили в обстановке огромного политического и трудового подъема, под знаком активной подготовки к 60-летию образования СССР, в атмосфере решимости претворить в жизнь одобренную на майском Пленуме ЦК КПСС Продовольственную программу.
В шесть утра гостеприимно распахнулись двери всех избирательных участков нашего города. К полудню проголосовало 90 процентов избирателей…».
– Не здесь читай! Не видишь, это Парин! «Гостеприимно распахнулись», «обстановка огромного подъема!..». Долганов, Долганова избрали, кого же еще! В количестве одного человека! Да ты третью полосу посмотри, третью!..
Третья полоса. «А все-таки она вертится!».
Гребнев лихорадочно перепускал куски текста, воспринимая лишь отдельные слова и слова: из года в год… живая страница истории… разлапистые великаны… могуч мельник… заповедная…
«… кольцует годы под бугристой кожей-корой стареющий исполин у порога мельницы, укрывает ее просторной тенью, заботится – и пора бы. Потрескалась мельница, серой бледностью покрылись бревна от летнего зноя и зимней стужи.
Но по-прежнему бодр и полон сил хозяин мельницы восьмидесятилетний Т. Авксентьев. Он горд за нее. А все-таки она вертится! Годы, кажется, не властны над ним. Вот и мельница состарилась, а он, несмотря на возраст, возится с железом, камнем, деревом – ладит, чинит, латает. И она вертится!
И еще долгие годы будет вертеться! Вторую жизнь заслуженной ветеранше подарит бережная реставрация и капитальный ремонт, выполненный под руководством вновь избранного депутата райсовета, директора турбазы «Крона» С. Долганова. Сотни, тысячи отдыхающих придут к помолодевшей, захорошевшей мельнице «У Трофима». И встретит их у порога радушный, гостеприимный хозяин Т. Авксентьев:
– Заходите, гости добрые! Здесь у нас корчма, а здесь – только осторожно, лестница слабая! – покажу вам, как зерно в муку превращается. А здесь, в печи – на ваших глазах из муки, из теста: каравай! Пышный, душистый, настоящий! Хлеб-соль! Хлеб– соль!».
Как же так?! Как же так?! Как же так?! – монотонно перестукивалось в голове Гребнева.
«… и поднимается солнце. Глядит из поднебесья: все ли в порядке? Да! Поле, лес, мельница – и все-таки она вертится!
К. Пестунов, П. Гребнев.» Двести строк тик в тик. Подлинный былинно-этнографический речитатив.
Гребнев все понял, хотя ничего не понимал из того, что ему говорил Кот, просто не воспринимал. И так все понятно.
– Причитается!.. Сбацал!.. Парин, нет, ты бы его видел! Издергался, как «раскидай»!.. Двести строк, как ты и… Двух зайцев!.. Ему и крыть нечем! Только, говорит, добавьте про вторую жизнь и чтобы Долганов фигурировал (депутат, как-никак)! Я говорю, вы чего! Выборы же еще идут! А потом думаю – ладно! Что у нас может измениться?!. Парин буквально поник! Он уже выговор тебе было навесил, а я ему – бац!.. Причитается!.. Говорил тебе, что чем меньше у журналиста… Главное – была бы фактура!.. Простор для… Фактура твоя, работа моя… Гр-р-ребнев-в! Ты бы его видел, когда я ему – бац!.. Цветет и пахнет!.. И ведь в полчаса! Левой ногой! Представляешь, если бы я все это еще и правой ногой?! Тогда бы вообще все отпали! И ты бы тоже!
Гребнев «отпал», как ему и обещал Пестунов. Гребнев смотрел в текст и видел… ничего он там не видел. Потом посмотрел на заливающегося Пестунова. Был взгляд. Было во взгляде такое, что… Такое! Такое, что…








