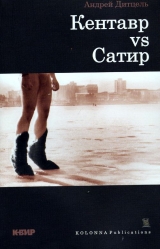
Текст книги "Кентавр vs. Сатир"
Автор книги: Андрей Дитцель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Счастье продолжается
Якобу Лембергу исполнилось восемнадцать. Гости разбрелись по просторной родительской квартире с бокалами вина. Несколько девушек курили и неторопливо покачивались под музыку в комнате, отведённой под танцпол. В библиотеке стоял ящик пива, здесь громко говорили о завтрашней демонстрации – разумеется, антивоенной и антиамериканской. Занятия закончатся раньше, директор обещает два автобуса для выезда в центр. Кто-то предложил, чтобы все пришли в белом – это цвет мира, и к тому же эппендорфской гимназии с её славными традициями пристало как-нибудь выделяться на фоне прочей серости. У одного из гостей всё ещё не было белых джинсов. «Есть такое забытое слово: солидарность», – пристыдили его. Именинник зачем-то вышел на кухню, и никто не замечал, что его отсутствие затянулось.
На десять тысяч человек, как известно, приходится один, который может умереть от стакана молока. Зубчатые колеса и червячные передачи в организме Якоба могли застопориться всего от пары зёрнышек пшеницы или ржи. Поэтому он никогда не ел хлеба или сдобы. В шоколадных шариках, подаренных друзьями, содержались какие-то вытяжки из зерновых, и сейчас Якоб, белокурый и крепко сбитый, в рубашке с расстёгнутыми пуговицами, лежал на полу, пытаясь побороть приступ слабости и дурноты. Разумеется, гости решили, что он дурачится, и не сразу вызвали врача.
Якобу слышится шум дождя и далёкой грозы. Небо заволакивает тучами; плотный туман с редкими красными прожилками просачивается в дом, окутывает непроницаемым коконом. Когда Якоб по-настоящему придёт в себя, – но, конечно, он будет немного помнить и больницу, и беспокойство родителей, и завтраки в белой комнате, и все прочитанные за неделю книги, – снова будет идти дождь. Якоб будет целый день сидеть на подоконнике с подаренной родителями камерой, снимая проезжающие машины и пешеходов. Засыпая, он оставляет штатив перед постелью, а утром просматривает запись в ускоренном режиме. Правда, он и сам не может объяснить, на что именно надеется. Самое интересное, что пока удалось запечатлеть, – как он, ворочаясь во сне, сбрасывает одеяло и, не просыпаясь, снова натягивает его на себя.
Конечно, Якоб много раз экспериментировал с собственной наготой, но записи всегда оказывались скучны. Однажды он забыл закрыть дверь; вошедший отец закашлялся от неловкости – на полу между раздвинутых ног сидящего в кресле сына стояли камера и настольная лампа – и тут же вышел из комнаты.
Даже если бы не злополучный шоколад, никто бы, наверное, не убедил Якоба поехать на демонстрацию. Пусть родители всю жизнь голосуют за зелёных, высеивают на балконе марихуану и терроризируют соседей своей музыкой. И эта бесконечная рефлексия шестьдесят восьмого… Сын не курит, никогда не выпивает больше пары глотков вина, слушает Шуберта, а в его комнате на долгое время задерживается избирательный плакат христианских демократов. Якоб хотел бы во всём быть нормальным. Он даже хотел бы назло родителям любить женщин, но это, к сожалению, выше его сил.
Мама сама отвела его три года назад в подростковую coming out группу. Это оказалось дурацкой и скучной затеей, – как и всё, что приходит в голову родителям. «У меня нет проблем в общении со сверстниками и принятии себя», – подытожил Якоб после первого вечера в центре Магнуса Хиршфельда. «Я читала, что у них замечательная программа и педагоги», – возразила мама и настояла на продолжении.
Якоб добросовестно выполняет задания психолога. Он приходит в школу в серебристой майке с надписью «DIVA» – это упражнение на развитие самооценки – и пишет эссе о своём первом сексуальном контакте.
Впервые это было в тринадцать или четырнадцать по объявлению. Они созвонились, встретились и через час расстались. Якоб отдает себе отчет в вопиющей заурядности опыта и придумывает историю с групповым изнасилованием. Русская банда из Бергедорфа нападает на него в электричке, срывает стоп-кран, вытаскивает из вагона и изощрённо пользуется его молодым и красивым телом в чистом (рапсовом и по-достоевски жёлтом) поле. Обсуждение эссе наконец оживляет скучную, по большому счету, жизнь группы.
Как и все образованные немцы, Якоб произносит фамилию Гоголь с ударением на втором слоге. Правда, в отличие от большинства образованных соплеменников, он знаком с писателем не только по экранизации ZDF, в которой патлатый господин много и усердно молится, а потом рукоблудствует, подглядывая за купающимися деревенскими мальчиками. Якоб прочитал пару рассказов, и ему запомнилось: скучно на этом свете, господа.
В головах у одноклассников ветер. Якоб завязывал виртуальные романы (и более или менее настоящие отношения) со сверстниками, томился от невозможности поговорить о чём либо, кроме H&M и айподов; рвал и метал, прощался и шёл исповедоваться Нэнни, своему бывшему учителю музыки.
Нэнни Отто Вернер когда-то был музыкальным вундеркиндом из горного швейцарского поселка. Лет тридцать назад его слава ещё гремела по всей Европе. Тогда же он поселился в университетском городке гамбургского Ротербаума и зачастил в студенческую столовую. Сначала он знакомился со студентками, которые – Нэнни великолепно владел искусством флирта – с лёгкостью соглашались перейти к нему через улицу на чашку кофе. Через десять лет он постепенно перешёл на зрелых преподавательниц. Нэнни до сих пор пребывает в хорошей форме и частенько приводит к себе домой какую-нибудь дородную женщину из обслуживающего персонала.
Сначала Нэнни стало лень разъезжать с концертами, несколько лет спустя – преподавать в музыкальной школе, позднее – заниматься репетиторством. Сейчас он живет на сбережения или пособие, читает книги о буддизме и называет себя лебенскюнстлером. С переводом этого слова на русский есть определенные трудности. Скорее всего, так можно охарактеризовать человека, сделавшего объектом искусства свою повседневную жизнь.
Нэнни сидит за роялем в комнате, захламленной бутылками колы, бюстами Будды и плюшевыми собачками. На пульт прикреплена вырезка с голой женщиной.
– Мой любезный друг, господин Лемберхь! – обращается он к Якобу. – Нам ли пристало грустить, когда мир наполнен прекрасными звуками! Разреши сопроводить тебя на прогулку по Альстеру. Мы купим мороженое с фисташками, и ты забудешь этого идиотского Михаэля. Или его зовут Торстеном, а Михаэль – это предпредпоследний?
Главное достоинство Нэнни в том, что он задаёт вопросы, не рассчитывая на какой-либо ответ. Он лишь иногда дразнится или передразнивает, например, мягкий гамбургский звук «х» – Хамбурхь, Лемберхь. Можно просто молчать и слушать его болтовню. Так и пройдет пара лет, пока Якоб будет раздумывать о своём призвании, находить и ниспровергать идеалы, снимать из окна своей комнаты хронику бесконечных гамбургских дождей.
Когда он поступит на отделение режиссуры, однокурсники будут долго считать, что Нэнни и есть его друг, – как говорится, друг с определенным артиклем. Почему бы и нет, если они всегда вместе, – взлохмаченный седовласый Нэнни в массивных очках, иногда с тростью, и Якоб – эстетствующий, скрытный, если верить слухам, циник.
Но, конечно, это ерунда. Потому что на самом деле Якоб с недавних пор встречается с русским Серёжей. Вначале была встреча по следам чата, date, прогулка и разговор. Когда они сидели в уютном домашнем полумраке и Якоб положил ему на колени свою руку, русский отодвинулся. Это было что-то неожиданное и новое.
На второй встрече русский завязал Якобу глаза и куда-то повел его через оживленные городские кварталы. «Стоит ли так доверять незнакомым?» – спрашивая себя, Якоб запнулся и едва не упал. Вход в здание, лестницы и переходы. Наконец повязка медленно сползает. Вокруг – мягкий свет и сепия. Фотовыставка рассказывала о жизни слепых чистильщиков обуви.
– Мама, он ищет квартиру, но пока ему приходится жить у своего бывшего парня. А у нас достаточно места…
– Конечно, пригласи его к нам. Если вы не будете ещё громче заниматься сексом…
Якоб фыркает и начинает генеральную уборку.
Серёже как-то неловко, он пока не может представить себе ничего подобного. А Якобу кажется, что вот, нашёлся правильный человек, чего же ещё ждать? Якоб садится за клавиши и начинает играть.
Strangers in the night, exchanging glances,
wondering in the night what were the chances…
Иногда кажется, что этот русский, приходя в гости, легче и охотнее общается с родителями. Вот они распивают с отцом бутылку красного – Якоб верен принципам и почти не прикасается к вину – и спорят о тоталитаризме и демократии… Скорее, скорее забрать его в свою комнату, для себя одного, отключить телефон, Интернет, закрыть окно, оставить его на всю ночь.
– Яша, ты торопишься присвоить меня, – говорит Серёжа в один прекрасный день. – Я лишь недавно расстался со своим экс-другом и пока не готов к новым серьёзным отношениям.
Якоб согласен на отношения несерьёзные, но скоро, очень скоро его терпение иссякнет. Где он, оседлый и предсказуемый человек, с которым можно строить общие планы на жизнь?
Через год Якоб переедет в один из соседних домов к дирижёру средней руки. Когда над Эппендорфом, над югендстилем парадных и крыш, над белыми и розовыми каштанами прекращается дождь и ненадолго показывается солнце, на их балконе можно разглядеть много цветов. Якоб и дирижёр часто ужинают в ресторане на другой стороне улицы. Раз в год они едут отдыхать на море. Уверен, что Якоб аккуратно отвечает на письма, оплачивает счета и по субботам выезжает за покупками. Счастье состоялось.
Вскоре он получит место помощника режиссера в театре и будет особенно охотно работать с русской классикой. Вполне в духе времени Якоб Лемберг выводит Андрея Прозорова латентным гомосексуалом и намекает на проблемы трёх сестёр с наркотиками. Вечерняя газета называет его в рецензии знатоком русской души.
Как известно, все истории заканчиваются в момент пира и свадебки, потому что счастливые семьи – неблагодарный материал для повествователя. И в этой тоже можно было бы поставить точку, если бы не одно досадное происшествие. Ресторан гамбургской кухни на другой стороне улицы, где подавали нежных креветок, угря и, разумеется, немало достойных мясных блюд, разорился.
Новое заведение в этих же стенах открыли сербы – но кто будет ходить ужинать к военным преступникам? Ещё через пару месяцев помещение выкупила турецкая семья. Теперь там продают донер-кебабы и вверх, к белым балконам, увитым розами и плющом, иногда поднимается запах лука и горелого жира.
Но это, по большому счету, мелочь, смотреть на которую нужно философски-снисходительно. Через улицу есть ещё один неплохой ресторан. Итальянский. Счастье никуда не денется.
Счастье продолжается.
Проблема познания
Говорят, что Гоша всегда учился в нашей школьной параллели, но я почему-то заметил его только за год до выпуска, когда классы в очередной раз перетряхнули. Может быть, потому, что такие гладкие и правильные мальчики совсем не бросаются в глаза. Он всегда ходил в одном и том же сером вытянутом свитере, отвечал тихо, а на переменах и вовсе куда-то исчезал. Гошу даже гопы не трогали. Но зато стоило ему появиться на улице со мной или с кем-то из наших общих приятелей – агрессия всего мира вдруг концентрировалась на сопровождающем лице. Гошу физическое насилие неизменно миновало… А вот мои выбитые передние – дань нашей недолгой философической дружбе. Защитник слабых…
« Каждая опасность даёт также преимущество. Центр гортани приносит синтез. Так меч закаляется в огне. Конечно, каждое пламя опасно, но тонкость формы восприятия утверждается пламенем…» Мы читали Блаватскую, Клизовского, Андреева, Агни-йогу и прочую хрень. «Далеко от жизни; не понимаю», – жаловался я. «Ты просто стоишь на низкой ступени развития», – упрекал меня Гоша.
Как-то нас вдвоём занесло на одно из таких сборищ одноклассников – с пивом и просмотром порнухи, – которые мы обычно отвергали, разумеется, как занятие, недостойное людей Новой Эпохи. Гоша не отрывался от видика: «Гляди, он вытащил перед тем, как кончить. Чтобы она не забеременела… Учись!»
Дрочили все вместе, прямо на пол. Гоша выпустил самую мощную и длинную струю – и купался в лучах славы. «Да у тебя просто с неделю ничего не было!» – «Нет, я сегодня уже спускал. Это из-за упражнений на кундалинь!» Подтирать пол должен был проигравший в «Монополию».
Начиная с этого вечера интеграция Гоши в жизнь класса зашагала по сравнению с тем, что было, семимильными шагами. Он даже поехал со всеми на культовую среди выпускников школы базу отдыха; должно быть, в силу соседства с населённым пунктом она называлась – и сейчас, наверное, называется – «Девкино». День заезда, лес и река, пьянящий свежий воздух. Конечно, я замечаю стихийное разделение на парочки, косые взгляды, мелочные сценки ревности. Но дела до этого мне почему-то нет. После небольшой выпивки меня настигает сон.
Просыпаюсь на диванчике веранды, Гоша трясёт меня за плечо: «Там… такое сейчас!» – «Ну что тебе?» – «У нас в классе есть половые отношения, я сейчас во втором корпусе видел». – «Ну и что, мы все взрослые люди, дай поспать…»
Так я и не узнал, что мне предлагали посмотреть.
Приближались выпускные экзамены. Гоша сходил с ума от любви к одной из одноклассниц. Но та вдруг стала уделять внимание мне. Внимание заключалось в том, что иногда мне давали подержать пухлую, пахнущую мамиными духами ручку. Конкуренция между двумя титанами мысли 11-го «А» приобретала зримые формы – мы оба шли на медаль. Сокрушительным ударом для меня стало Гошино выпускное сочинение по литературе, – говорят, в истории нашей школы ещё не было написано ничего сопоставимого по гениальности (я же, разумеется, наваял что-то посредственное и серенькое по «Белой гвардии»). Тему, весьма впечатлившую комиссии всех уровней, Гошечка придумал сам. Кажется, формулировка звучала так: « Русская интеллигенция и проблема познания».
Сокрушительным ударом для Гоши, однако, стал провал вступительных экзаменов в универ и поспешное бегство от армии в институт железнодорожного транспорта, куда отличников брали без экзаменов.
Девочка с пухлой ручкой связалась с каким-то старшекурсником, и Гоша решил, что это обстоятельство должно обновить нашу старую дружбу. Ведь мы оба познали горечь разочарования в женщине. Я не спешил разубеждать его. Наши эзотерические беседы продолжались. Постепенно и без того укороченное имя моего приятеля размякло, как кусок булки в чашке с молоком, и я всё чаще называл его не Георгием и не Гошей, а Гошечкой. Это очень ему шло. Свободолюбивый дух Гошечки и железнодорожный транспорт были излюбленными темами моих поэтических сочинений.
Суровый взгляд из-под очков,
ланиты цвета кабачков.
Печален в мудрости своей
и одинок в кругу людей.
Однажды в два часа ночи дома у моих родителей раздалась трель звонка – даже не трель, а несколько протяжных пулемётных очередей – и отчаянный стук, как будто кто-то оказался в беде. Отец оттеснил меня и сам открыл дверь. На коврике стоял запыхавшийся и до нитки промокший Гошечка. «Вы не поверите, что стряслось!!!» – «Подожди, переоденься, я сделаю тебе чай, и ты обо всём спокойно расскажешь…» Но нетерпение, видимо, было велико, и Гошечка сбивчиво начал прямо с порога… Оказывается, пухлая девочка залетела – а, спрашивается, разве можно залетать на первом курсе? – он узнал это от общей подруги. Никто не знает, женится ли на ней этот тип. Поэтому Гошечка готов признать ребенка своим и жениться на ней сам. Он сделал бы предложение прямо сегодня вечером, но её подъезд был закрыт, и Гоша простоял несколько часов на улице. А теперь не может вернуться к себе домой. Транспорт не ходит.
«Вопрос довольно деликатный, и я советую тебе выдержать паузу. Может быть, настоящий отец – вовсе не скотина? И что это за добрые подруги, которые так обходятся с конфиденциальной информацией?» Что-то мне подсказывало, что Гоша поступает неверно. Пытаясь в этом разобраться сам, я произнёс пламенную речь о чести, достоинстве и ранимости. Кухонный разговор затянулся до утра, предложение сердца, руки и фамилии было отложено; я, кажется, сыграл роль доброго пастыря. Через месяц Гошечка выступил свидетелем на скороспешной свадьбе. Пухлая девочка и её старшекурсник были счастливы.
За свадебным столом Гошечка разоткровенничался. Конечно, он ещё девственник – согласитесь, в таком возрасте это как-то старомодно, – но это его осознанный выбор… «Да, мы с тобой выбрали трудный путь развития», – обратился он ко мне. «Почему трудный? Я как-то не ограничивал себя с сексом…»
Гнев Гоши был страшен. Лучший друг уже трахался – и молчал! Теперь оставалось выяснить с кем… «Знаешь, дорогой, это моя частная сфера. Но у меня были не только девушки…» Гошечка с ужасом передвинул стул, увеличивая дистанцию между нами сантиметров на двадцать. Которые, видимо, должны спасти его от сексуального посягательства…
Второй курс. На пересдаче зимней сессии Гошечка знакомится с какой-то лаборанткой и вскоре взахлёб рассказывает по телефону: «У нас всё по-настоящему… Да, понимаешь, абсолютно всё!»
Весна – и снова, как год назад, Гошечка колотится в дверь. Два часа ночи. «Теперь якак благородный человек должен на ней жениться… Будешь моим свидетелем?» Я нахожу предлог отказать. Наша дружба обрывается, и мы не видимся несколько лет.
Конечно, я старался следить за тем, что происходило с одноклассниками. Знал, что Гоша вылетел из института, откосил от армии и устроился продавать какую-то мебельную фурнитуру. Знал, что после свадьбы они с женой поселились у тёщи – и, кстати, сделали ненароком ещё одного ребёнка.
Прошла целая вечность, – тогда, на первых курсах, это было невозможно себе представить, – десять лет. Я приехал в Новосиб навестить родителей и случайно узнал, что Гоша разводится. Город не настолько велик, чтобы не отыскать в нём человека, – Гоша сразу выехал на мой звонок. Щеки слегка впали, на голове наметилась седина, под глазами обозначились ямки и тени, но, если не присматриваться, всё было как тогда: гладкий и незаметный мальчик в заношенном сером свитере. «Тебе везло. А у меня не сложилось. Ну ничего. Переехал к маме, продаю фурнитуру для мебели…»
Рассказ постепенно начинал наскучивать… Я не выдержал и перебил на середине предложения: «А помнишь проблему познания?»
Гошечка осёкся и задумался.
Первый раз
На самом деле не о пресловутом «первом разе», поскольку он с большой вероятностью случился всё-таки позже, а о честности и белом вине.
В тот исторический промежуток, когда западные границы уже приоткрыли, но Югославия ещё не развалилась – по заминированным мостам ездили красные КамАЗы «Совтрансавто», – мой папа, дальнобойщик, привёз из командировки пятилитровую бутылку белого вина. В плетёной корзинке и с какой-то очень красивой пробкой. В первый же вечер мы дегустировали его. Немного алкоголя мне к этому времени разрешалось. Вкус оказался удивительным, травяным или ягодным. Сейчас я склонен думать, что дело было в ароматизаторе. Но тогда вино показалось просто божественным. Родители решили запечатать бутылку и задвинуть её поглубже в кухонный шкаф – для особенных случаев.
Если не ошибаюсь, дело было в конце лета, которым я часто зависал на новосибирском ипподроме. Я ходил в вечернюю детскую группу, но часто приезжал ещё утром, слонялся по конюшням, просто сидел на трибунах или помогал тренерам. Даже отбивать денники и задавать корм казалось абсолютным счастьем. Таких альтруистов кроме меня было ещё несколько, пара девочек и один парень. С одной девочкой я даже целовался после чинного и мирного дня рождения среди хорошистов и отличников, но уже совсем забыл её. А парня звали Макс. Он тоже жил на Затулинке – городской окраине за речкой-вонючкой Тулой, – но совсем на краю, у гаражей и лесополосы. И учился в ещё более пролетарской школе, чем я. Макс был похож на среднего хищного зверя. До конноспортивной школы ходил на карате. Много дрался. Жил «с мамкой». Умел брать на гитаре три блатных. Вот так, тезисно, по-другому не получается. Я сначала просто не верил и пропускал мимо ушей его истории о тёлках, но как-то его стала поджидать на троллейбусной остановке девушка – с сумасшедшими глазами, чуть постарше нас, – каждый день. «Я ей целку сломал, ну щас ходит за мной везде», – простодушно пояснил Макс.
Судя по обилию вокруг нас девушек с такими глазами, целок Макс успел наломать много. По этой же причине он не вылезал из разборок. Слово «разборки» тогда ещё не вполне вошло в наш язык в нынешнем значении, но разбирались с ним пацаны с четвёртого, двенадцатого и шестого микражей. А также отцы одноклассниц.
Что я думал тогда обо всем этом, казался ли Макс мне, так сказать, героем или подонком? Совсем не могу реконструировать. Я играл в школьном «Что? Где? Когда?», много читал, рисовал со школьными друзьями уточнённые карты Средиземья и прочих параллельных вселенных. Но всё это было чем-то вроде литературы, а Макс казался таким живым. Иногда он даже казался мне ожившим античным героем, красивым и холодным, по ту сторону доброго и плохого.
Он избегал, пару раз увидев, моих хорошо воспитанных одноклассников. В общем-то, он был (и остаётся, наверное) одиночкой. И это странно, что мы по-своему подружились. Длинными, через все Левобережье, прогулками, я пересказывал ему брюсовского «Огненного ангела», а он, в свою очередь, делился со мной все новыми подробностями своей половой жизни. Но, конечно, Макс говорил не только о ебле. Именно у него я переписал первую кассету Цоя. Группа «Кино» повлияла на формирование моего стиля куда сильнее символистской поэзии. То есть я надеюсь, что повлияла.
В самом начале дружбы мы, естественно, определились, что я ещё не ебался, а только дрочу. Макс признавал, что это нормально, и не отрицал, что и сам временами, когда яйца болят, практикует подобное. «Ну а мацал хотя бы кого-нибудь?» – спросил он меня на трибуне манежа во время соревнований по выездке. Мы и без того сидели очень тесно. «Я с пацанами», – нашёл в себе смелость признаться я – и с вызовом посмотрел Максу в глаза. Он, казалось, растерялся: «И тебе нравится… мацать пацанов?» Тут я неожиданно для себя самого проявил ещё большую наглость. Я стал его трогать и гладить – плечи, руки, спину, бёдра. Макс не мешал. Больше того, он сам потянулся рукой к моему паху. По организму бегали сладкие мурашки, что-то мучительно напрягалось, а что-то таяло и расслаблялось. (Я знаю, мне противопоказано писать эротические сцены.) Но здесь нас могли увидеть. Непослушным голосом я спросил Макса, не поедет ли он вечером ко мне, сегодня родители на даче. Он не был против.
Перед отъездом я спрашивал родителей, можно ли будет дать попробовать друзьям то самое вино. «Чуть-чуть, и не увлекайтесь», – заговорщицки сказала мама. Тем самым формальное разрешение было получено. Мы с Максом наспех пожарили яичницу – спортивные впечатления и голод сначала вытеснили мысли о плотском – и разлили к ней югославское.
После первого бокала мы закурили, что, к слову, являлось дома абсолютным табу. После второго, кажется, стали стряхивать пепел рыбкам в аквариум. А дальше я ничего, практически ничего не помню. И это невероятно обидно.
Проснулся я в обеденное, полагаю, время с абсолютно ясной и пустой головой. Один. Отмечу ряд странностей: а) в родительской постели; б) голым, хотя прежде я всегда спал в трусах или трусах-майке; в) на столе красовались остатки ужина, бокал с плавающими окурками и пустая пятилитроваябутылка в плетёной корзинке с очень красивой пробкой; г) вставая, я запнулся о стоящую почему-то на полу бутылку подсолнечного масла.
Сознание обнаруживало два проблеска. Во-первых, мне казалось, что мы с Максом принимали душ и залили санузел. На полу действительно валялись мокрые полотенца. И во-вторых, безотносительно к чему-либо – визуального образа проблеск тоже не содержит – я вроде бы говорил Максу: «Какой у тебя большой член», а он отвечал: «И твой ничего».
Досада из-за того, что я не могу точно восстановить произошедшее ночью, пришла после. Куда серьёзнее в этот момент казалось обстоятельство, что вот-вот могут появиться родители. По квартире раскиданы окурки. И драгоценное вино, вывезенное отцом из Югославии по заминированному мосту, выпито.
Тут зазвонил телефон. Макс интересовался, не болит ли у меня голова. «Ну, знаешь, это… ну ты даёшь…» – сбивчиво продолжил он, но больше никакой ценной информации я не мог из него выудить.
К приходу родителей я успел преодолеть разгром. Я честно указал на пустую бутылку в плетёной корзинке. Мама всплеснула руками… почти пять литров? «Сколько же пришлось на человека?» – спросила она. И сама же, не дожидаясь ответа, принялась перечислять моих близких друзей… Лёша, Дима, Пашечка… « Вы выпили его вчетвером?!»
И тут я в первый и последний раз в жизни так нагло соврал родителям: «Мам, нас было шестеро, ещё Саша и Рустам…»
Мама сказала, что это всё равно плохо, но сразу успокоилась. Папа посмотрел многозначительно: типа, вырос пацан, – но совсем ничего не сказал.
Собственно, это всё. Дорогие мама и папа, примите, если вы это читаете, моё запоздалое раскаяние. За то, что я соврал про вино. И не сказал про подсолнечное масло. На нём в тот вечер жарили карасей. (Но я, честно, не уверен, что смог им воспользоваться.) Вы замечательные, добрые и терпеливые. Вы любите меня таким, какой я есть.
А что касается Макса, то он с тех пор избегал меня. На ипподром стал демонстративно таскать (и тискать) какую-то крашеную малолетку. А потом перестал ходить на занятия. Так мы никогда и не поговорили. Я переживал, ну конечно. Иногда гордился. Если бы память не отрубило, наверняка написал бы рассказ «Совращение натурала». Но, наверное, эта физическая реакция с памятью неспроста: вместо этого получился текст о маме и семейных ценностях. А как-нибудь ещё будет о том, как я стал разрядником по конному спорту.








