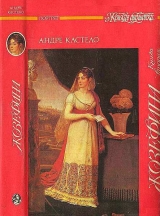
Текст книги "Жозефина. Книга вторая. Императрица, королева, герцогиня"
Автор книги: Андре Кастело
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
«Я видел только вас, восхищался только вами, вожделел только к вам. Жду быстрого ответа, который успокоит нетерпеливый пыл. Н.»
«Будь достойна своего мужа и прояви характер», – писал он в тот же день Жозефине.
Однако в Варшаве Мария заупрямилась. Наполеон молил: «Вы лишили меня покоя! О, подарите капельку радости и счастья бедному сердцу, готовому вас обожать…»
«Будь достойна меня…» И чтобы добиться своего, чтобы уложить к себе в постель эту женщину, сопротивляющуюся ему, он прибегает к отвратительным способам. Прежде всего к шантажу: «Приезжайте. Все ваши желания будут исполнены. Ваша родина станет мне еще дороже, если вы сжалитесь над моим бедным сердцем». Она приехала. Он закатил ей ужасную сцену, раздавил каблуком ее часы, угрожал точно так же обойтись с Польшей, если Мария «отвергнет его сердце». Перепуганная его безумным взглядом, она упала в обморок. Придя в себя, она поняла, что принадлежит ему…
И 23 января, когда г-жа Валевская уже стала его любовницей, – она сама постепенно влюбится в него, а Наполеон будет любить ее, насколько время позволяет это человеку, у которого на руках вся Европа, – он смеется, читая письмо Жозефины, простодушно заявляющей ему: «Я вступила в брак для того, чтобы быть вместе с мужем!» – «Я в невежестве своем полагал, – отвечает он надменно и самодовольно, – что жена существует для мужа, а муж – для отечества, семьи и славы; каюсь в своем невежестве: с нашими милыми дамами всегда научаешься чему-нибудь новенькому».
Письмо настигает Жозефину в дороге: в воскресенье, 15 января 1807, она выехала из Майнца в Париж. Первую ночь она проводит в Гемерсхайме. У нее тяжело на душе, тем более что накануне она рассталась с Гортензией, возвращавшейся в Гаагу.
26-го в Страсбурге императрицу торжественно встречает префект Ше. Вечером 28 января она ночует в Люневильской субпрефектуре, а 29-го, в четверг, пересекает Нанси. После неизбежных приветствия и речей она приказывает экипажам ехать шагом и задержаться у отеля «Империаль», Там она принимает портрет императора, который ей преподносит жена художника Карбоне, и отправляется дальше по дороге на Туль. Вечером ночует в Бар-ле-Дюке, в особняке Удино, где неизменные девушки в белом ждут ее с букетом и приветствием, а на другой день она опять отбывает и ночует в Эперне у г-жи Моэ. Наконец вечером 31 января под артиллерийский салют она прибывает в Тюильри.
* * *
Вот она и вернулась, чтобы впрячься в лямку «достодолжного представительства». Жозефина подчинилась «с ворчанием и слезами», как упрекает ее Наполеон в ответе на письмо, посланное ему женой перед отъездом из Германии, письмо, «которое его огорчило». «Оно слишком грустное, – объясняет он. – Вот как плохо не быть немножечко лицемеркой. Ты говоришь, что твое счастье и есть твоя слава, но это не великодушно; сказать надо: моя слава в счастье ближних, но это не по-супружески; надо сказать: моя слава в счастье мужа, но это не по-матерински; сказать надо бы: счастье моих детей – вот в чем моя слава; а так как народы, твой муж и дети могут быть счастливы, только когда хотя бы отчасти взысканы славой, не следует так уж пренебрегать ею. Жозефина, у вас превосходное сердце, но слабый ум; вы великолепно умеете чувствовать, но рассуждаете куда хуже. Словом, хватит ссориться. Я хочу, чтобы ты была весела, довольна своей судьбой и повиновалась не с ворчанием и слезами, а с сердечной радостью и капелькой удовлетворения».
Через несколько дней она получает новую записку с поля битвы при Эйлау: «Друг мой, вчера произошло большое сражение, победа осталась за мной, но я потерял много людей; потери противника еще более значительны, но это не утешает меня. Несмотря на усталость, пишу тебе эти строки собственноручно, чтобы сказать, что чувствую себя хорошо и люблю тебя». В шесть вечера того же 9 февраля он сообщает жене подробности: «Пишу всего несколько слов, дружок, чтобы ты не беспокоилась. Противник проиграл битву, потеряв 40 орудий, 20 знамен, 12 000 пленных, он невероятно потрепан. Я потерял 1600 убитыми, от 3 до 4 тысяч ранеными.
Твой родственник Таше здоров, я взял его к себе в ординарцы. Корбино убило ядром; я испытывал странную привязанность к этому офицеру, отличавшемуся многими достоинствами; его утрата удручает меня. Моя конная гвардия покрыла себя славой. Д'Альмань тяжело ранен.
Прощай, мой друг. Весь твой».
Жозефина переживает радостный миг, узнав, что 14 марта в Милане родилась девочка, немедленно нареченная Жозефиной и получившая титул принцессы Болонской. Евгений посылает матери волосы ее внучки. «Подарок прелестен, и я не устаю им любоваться, – пишет она сыну. – Они того же цвета, что у ее матери. Это предзнаменование: крошка будет похожа на нее лицом, будет такой же красивой и прелестной, как она».
А вот с Гортензией все хуже и хуже. Гаага, где, по словам королевы, «нет ни городских, ни сельских развлечений, а есть лишь неудобства высокого положения», кажется ей мрачной. У голландцев, торчащих перед нею, и «прямых, как колья», сплошь вытянутые физиономии. Они явно побаиваются своих государей. И в довершение бед король Людовик все больше превращается в отвратительного тирана. Гортензия пишет: «Этот человек (читай: Людовик) все устраивает так, что мы действительно живем как в настоящей тюрьме; иногда я не могу удержаться от смеха при виде трагедий, устраиваемых им из ничего. Теперь он окончательно сбросил маску, потому что мы уже привыкли к самым смешным вещам; к счастью, каждый без труда может судить о моем поведении, но в стране, где меня не знают, видеть, как со мной обращаются, значит иметь повод сомневаться во мне; напрасно я стараюсь ни с кем не встречаться, избегать общения даже с кошкой – он все равно принимает все возможные меры предосторожности, словно в них и впрямь есть необходимость. После шести вечера никто не смеет ни войти, ни выйти. Все превратились в шпионов, и стоит кашлянуть или высморкаться, это уже известно».
Жозефина догадывается, какую драму переживает дочь, и печаль гнетет ее. Окружение тоже не способствует душевной бодрости. Она окружена «настоящими гадюками», по выражению г-жи д'Абрантес, – женщинами, «которые копаются в вашей жизни, чтобы дорыться до какой-нибудь былой ошибки, а уж обнаружив таковую, безжалостно преследуют вас своими порицаниями». К тому же кое-кто из этих дам, роялисток в душе, как, например, г-жа де Ларошфуко, разносят пессимистические слухи. Битва при Эйлау была отвратительной бойней! Наполеона едва не разбили! Его звезда начинает меркнуть! При Жозефине эти дамы ограничиваются туманными намеками, но строят при этом сочувственные мины. Разумеется, Наполеону известно, что происходит: «Я узнал, мой друг, что вредные разговоры, имевшие место в твоем салоне в Майнце, возобновились; пресеки их. Я очень рассержусь, если ты этому не воспрепятствуешь. Тебя расстраивают разговоры людей, которые должны были бы тебя утешать. Настоятельно советую проявить характер и поставить всех на свое место».
Поставить всех на свое место? На это у Жозефины недостает духу. В иные дни – так она и пишет императору – она предпочла бы умереть, чем длить бесконечные разлуки с ним: такое существование – слишком тяжкое бремя для ее слабых плеч. «Твое письмо огорчает меня, – отвечает он. – Зачем тебе умирать? Ты здорова, и у тебя не может быть серьезных причин для тоски. Думаю, что в мае тебе надо перебраться в Сен-Клу, но апрель пробыть в Париже. Мое здоровье в порядке, дела идут хорошо. Даже не думай о путешествии этим летом: жизнь на постоялых дворах и в лагерях не для тебя. Как и ты, я жажду встретиться и пожить спокойно. Я ведь годен на кое-что еще, кроме войны, но долг – превыше всего. Ради своего предназначения я всю жизнь жертвовал всем – покоем, выгодой, счастьем».
Легко ему говорить! А знает ли он, что клан по-прежнему не дает Жозефине житья? Что г-жа Летиция не желает навещать ее? Разумеется, Наполеону все известно, и он пишет матери: «Сударыня, я очень одобряю ваш выезд за город, но по возвращении в Париж вам надлежит для соблюдения приличий ежевоскресно обедать у императрицы за семейным столом. Моя семья – факт политики. В мое отсутствие глава ее – императрица».
Он «всю жизнь жертвовал всем», – написал он жене, но уже через три дня, 1 апреля, больше чем на два месяца обосновался в красивом замке Финкенштайн, «где есть камины». Находится там и приехавшая к нему Мария. Догадалась ли Жозефина, что для «своей польки» Наполеон вновь обрел сердце Бонапарта? «Как обычно, твоя креольская головка немедленно идет кругом, и ты начинаешь терзаться, – пишет он ей 18 апреля. – Не будем больше говорить об этом». Но она продолжает говорить об этом, и 10 мая он отправляет ей такое письмо: «Не понимаю, о каких состоящих со мной в переписке дамах ты говоришь. Я люблю только добрую, вздорную и капризную Жозефиночку, которая ссорится с тем же изяществом, с каким делает все, потому что она всегда мила, если не считать минут ревности. Но вернемся к этим дамам. Чтобы я занялся одной из них, они должны были б быть настоящими розами. Но разве так обстоит с теми, о ком ты говоришь?»
Наполеон все время опасается, что его жена, предоставленная самой себе, забудет роль, которую он ей предназначает: «Мне угодно, чтобы ты приглашала к обеду только тех, кто обедал со мной; чтобы список допускаемых в твой салон составлялся таким же образом; чтобы ты закрыла доступ в Мальмезон и свое окружение послам и иностранцам. Поступая иначе, ты вызовешь мое неудовольствие; словом, не давай окружать себя лицам, которых я не знаю и которые не являлись бы к тебе, будь я рядом».
Г-жа де Шатене рассказывает: «Императрица верила в гадания, в разные чудеса, сны, чуть ли не в привидения». 5 мая ей снился сон. Вдруг она увидела своего внука Наполеона Шарля на коленях перед бронзовой колонной, а затем «у него появились крылья, как у ангела, и он исчез». Наверняка с маленьким Наполеоном стряслась беда! Действительно, через три дня пришла ужасная новость: ребенок только что умер в Гааге от крупа.
10 мая заплаканная Жозефина пускается в дорогу, спеша встретиться с Гортензией. У ворот Брюсселя в замке Лэкен (Озерном) обе женщины смешивают свои слезы. В момент приезда Гортензия кажется живым трупом, и Жозефина «охвачена болью и ужасом». У императрицы очень ограниченная свита, и – что доказывают счета – она ест в обществе лишь Людовика и Гортензии. На завтрак уходит 12 франков, на обед – 24. Жозефина сломлена. Вернувшись в Сен-Клу, она пишет сыну: «Я исстрадалась, милый Евгений, и твое сердце не может не почувствовать, как велико мое горе. Ты знаешь, в каком состоянии наша бедная Гортензия приехала в замок Лэкен. Несколько дней я боялась за нее, но по приезде в Мальмезон она много плакала. Слезы пошли ей на пользу, и я, как мне кажется, могу заверить тебя, что мы ее сохраним. Бедняжка Гортензия, какого прелестного ребенка она потеряла!.. Со дня несчастья я больше не живу – только горюю и плачу. В воскресенье она уехала на воды в Баньер[66]66
Баньер – курортный городок на юго-западе Франции.
[Закрыть]. Корвизар очень рассчитывает на благотворное действие поездки, и только эта надежда вынудила меня отпустить дочь. Здоровье ее восстановится, но сердце останется безутешным – я сужу об этом по собственным терзаниям. Король тоже очень несчастен: ему ведь пришлось разом оплакивать сына и трепетать за жену. Представляешь себе, ее на целых шесть часов парализовало».
В Орлеане, по дороге в Баньер, Гортензия пишет брату такие строки: «Чувства мои мертвы. Он скончался на моих глазах, но Господь не захотел, чтобы я ушла с ним. А ведь я не должна была его покидать. Теперь я не умру: я больше ничего не чувствую и поэтому здорова. Ты не понимаешь, что я потеряла: для меня это уже был друг, никто никогда не будет любить меня так, как он. Когда я обняла его за час до конца, у него уже были закрыты глаза, но он сказал мне: „Здравствуй, мама“. Он едва дышал. Если бы ты видел, как он задыхался! Я до сих пор слышу его хрип! И вот я далеко, я еду на воды, а он остался там! Я в Орлеане. Ты не знаешь одного: раньше я плакала, а теперь больше не плачу; у меня нет больше сердца – оно ушло вместе с ним, а я осталась в тягость всем, никем не любимая, потому что ничего ни к кому больше не чувствую; сам видишь, мне лучше было уйти вместе с ним. Я расскажу тебе все, что он мне говорил, кем собирался стать и как меня любил; часто, глядя на него, я шептала: „Вот кто будет моим утешением“».
Император расстроен сильнее, чем признается Жозефине. «Я представляю, какое горе причинила тебе смерть бедняжки Наполеона, – пишет он ей 14 мая, – а ты поймешь, что испытываю я». Но «дядя Малыш» быстро приходит в себя: «Мне хотелось бы оказаться рядом с тобой, чтобы ты была умеренна и благоразумна в своей беде. Тебе посчастливилось – ты никогда не теряла ребенка, но вероятность этого – одно из условий нашего горестного человеческого существования. Очень хочу знать, что ты благоразумна и здорова. Неужели еще и ты усугубишь мою тоску?» Его поражает острота переживаний Гортензии: «Гортензия ведет себя безрассудно и не заслуживает, чтобы ее любили, потому что сама любила только своих детей. Постарайся успокоиться и не огорчай меня. В каждой непоправимой беде нужно искать утешение». 2 июня он удивляется: «Почему ты хоть немного не развлечешь ее, а только плачешь? Надеюсь, ты возьмешь себя в руки, чтобы я не нашел тебя совсем уж подавленной».
Но прежде чем вернуться, он должен разбить русских. Он проделает это под Фридландом и 15 июня сообщит Жозефине: «Пишу тебе всего два слова, мой друг, потому что очень устал – вот уже много дней живу на бивуаках. Мои ребята достойно отметили годовщину битвы при Маренго. Сражение под Фридландом тоже сделается знаменитым и составит славу моего народа. Вся русская армия обращена в бегство, она потеряла 80 орудий, 30 000 человек убитыми и пленными; 25 русских генералов убиты, ранены или взяты в плен, русская гвардия сокрушена; этот бой – достойный брат Маренго, Аустерлица, Иены; остальное узнаешь из „Бюллетеня“. Мои потери незначительны; я превзошел противника в маневре.
Будь спокойна и довольна».
Жозефина в самом деле несколько успокаивается. Кампания, по-видимому, заканчивается. К тому же общее горе несколько сблизило ее дочь с мужем. Гортензия скептически смотрит на будущее, она спрашивает себя, «надолго ли это», но Людовик, – радостно сообщает Жозефина Евгению, – «трогательно заботится о королеве. Увы, – продолжает она, – это урок, который дорого им стоил, но, надеюсь, окажется полезен. Они почувствуют, что нет ничего выше обоюдной нежности и того счастья, которым, к примеру, наслаждаешься ты». Такое затишье приводит к тому, что через девять месяцев родится будущий Наполеон III. Более того, Людовик начинает проявлять внимание к своей теще и, отбывая на воды, доверяет ее попечению маленького Наполеона Людовика, своего второго сына. «Он очень похож на своего бедного брата, – пишет она Евгению, – у него те же повадки и голос, но радость видеть его рядом не утешает меня в понесенной нами потере».
Для нее это не просто потеря – крушение. Смерть ребенка развеяла все ее надежды, связанные с ним. Разве благодаря ему она не была вправе надеяться, что Наполеон не разведется с нею? Разве он не рассматривал сына Гортензии как своего наследника? Он любил его, и подлинное горе, которое он испытал после смерти мальчика, хотя и старался это скрыть, позволяет Людовику злобно кричать: «Значит, он был-таки его сын!» Муж Гортензии верит в это тем более упорно, что император и не думает переносить на маленького Наполеона Людовика ни нежность, которую питал к его старшему брату, ни права на возможное наследство. Разве с 3 1 декабря он не знает, что у него есть собственный ребенок? Через полгода после этой встреченной им «с большим волнением» новости его предполагаемый наследник исчез, но разве теперь он не в состоянии обеспечить себе преемника от чресл своих?
Эта смерть и это рождение наносят роковой удар положению императрицы, о чем раньше нас уже сказал Луи Мадлен[67]67
Мадлен, Луи – см. главу «Источники».
[Закрыть].
* * *
Читая последние письма Наполеона перед возвращением его из Тильзита, Жозефина несколько забывает о своем горе.
«Королева Прусская в самом деле очаровательна, – пишет он ей 8 июля. – Она напропалую кокетничает со мной, но ты не ревнуй: я клеенка, по которой все только скользит. Мне стоило бы слишком дорого разыгрывать из себя галантного кавалера».
На другой день Наполеон покидает царя и прусского короля и отправляется к себе во Францию. 1 8 он пишет жене: «Друг мой, вчера в пять вечера я прибыл в Дрезден, чувствую себя превосходно, хотя сто часов не вылезал из кареты. Гощу здесь у короля Саксонского, которым очень доволен. Итак, я приблизился к тебе на половину пути. Предупреждаю, возможно, в одну из ближайших ночей я ворвусь в Сен-Клу, как ревнивый муж. Прощай, дружок, буду счастлив увидеться с тобою. Весь твой».
Наконец 27 июля 1807 император в ореоле славы Тильзита прибывает в Сен-Клу. Тотчас же, как она это делала после каждого его возвращения, Жозефина с жадностью расспрашивает Констана. Вопросы сыплются дождем:
– Не тяжело ли далась ему дорога? Весел он или грустен? Здоров или болен?
Они не виделись с самого Майнца, почти полгода. Немедленно – она с замирающим сердцем ждала этого – он заводит речь о смерти ее внука, «о необходимости, которая, возможно, когда-нибудь вынудит его взять себе жену, способную родить ему детей». Жозефина бледнеет, но он продолжает:
– Если бы такое случилось, тебе пришлось бы помочь мне пойти на такую жертву. Я рассчитывал бы на твою дружбу, чтобы оградить тебя от мерзости, неизбежно связанной с таким разводом. Инициативу ты взяла бы на себя, верно? И войдя в мое положение, ты нашла бы в себе мужество сама решить, что тебе следует уйти.
Она обманывает его ожидания и спокойно отвечает:
– Я подчинюсь твоей воле, но сама упреждать ее не стану.
Это было сказано «невозмутимым и довольно достойным тоном, каким она отлично умела говорить с Бонапартом, что неизменно производило впечатление на него», – сообщает нам г-жа де Ремюза.
Жозефина описывает эту сцену Евгению, и тот отвечает:
«Я доволен твоей беседой с императором, если ты ее верно воспроизвела. Говорить с его величеством всегда следует откровенно. Поступать иначе значит не любить его. Если император вновь примется попрекать тебя бездетностью, ответь, что не ему винить тебя в таких вещах. Если он считает, что счастье его самого и Франции требует, чтобы у него были дети, пусть ни с чем не считается. Но он должен пристойно обойтись с тобой, назначить тебе достаточное содержание и позволить тебе жить в Италии с твоими детьми».
Вскоре после этого Наполеон говорит на ту же тему с Гортензией. Королева приехала навестить отчима, потому что Людовик требует возвращения в Гаагу маленького Наполеона Людовика. Император вздыхает:
– Отец требует его к себе, ему еще нет семи, и я не вправе его задерживать. Он единственный сын в семье; если он вернется в Голландию, он может умереть, как умер старший, и тогда вся Франция заставит меня развестись. Страна не верит моим братьям, к тому же они все честолюбцы. Евгений не носит моего имени, и, несмотря на все мои усилия обеспечить Франции покой, после моей смерти воцарится полная анархия. Только мой сын может устроить всех, и если я до сих пор не развелся, то лишь по причине своей привязанности к вашей матери: развода желает вся страна. Это наглядно проявилось по смерти вашего сына, которого считали и моим. Вы знаете, насколько нелепо подобное предположение. Так вот, даже вы не смогли убедить Европу в том, что он не от меня. Вот какие слухи ходят о нас, – продолжает император. – Вообще-то вас уважают, но насчет ребенка – верят.
Помолчав, Наполеон заканчивает:
– Быть может, оно и к лучшему, что в это верят. Вот почему я расценил его смерть как большое несчастье.
Гортензию ужасно шокировал этот разговор – сам факт, что она вспоминает о нем в своих «Мемуарах» доказывает, что речь шла о гнусной клевете. К тому же она, по всей видимости, не рассказала об этом матери, которая снова приободрилась.
Жозефина, действительно, вновь убедила себя, что ее муж отказался от мысли о разводе. Теперь она убеждена, что Наполеон никогда не решится порвать узы, связывающие его с женой, хотя эти узы уже превратились в тонкую ниточку. Не решится, возможно, из суеверия, опасаясь как бы вместе с нежной креолкой не утратить свою звезду и удачу. Возможно, потому, что сердце ему подсказывает: она этого не вынесет. Возможно, наконец, потому, что он побаивается общественного мнения. Что скажет народ, видя, как его государыню устраняет, отсылает, изгоняет тот, кто сам же ее короновал меньше трех лет тому назад?
Она цепляется за любую надежду.
Но делает она это, не принимая в расчет клан, который при каждой возможности «обрабатывает» императора. Связь с Марией Валевской пришпоривает Мюрата, и Жозефина незамедлительно узнает об этом.
«У меня есть доказательства того, что, пока император был в армии, Мюрат сделал все возможное, чтобы подтолкнуть его к разводу. Я вела себя великодушней, чем он, потому что в это же время изо всех сил защищала его жену, но он не любит меня, хоть и убеждает всех в противном, так что будь уверен, что и к тебе у него добрых чувств не больше… К несчастью, император слишком великий человек, чтобы можно было говорить ему правду: его окружение наперебой льстит ему. Что до меня, то ты знаешь: я притязаю лишь на его сердце, Если меня удастся разлучить с ним, я буду сожалеть отнюдь не о своем сане, милей всего мне станет глубокое одиночество, и рано или поздно он поймет, что те, кто его окружают, больше думают о себе, чем о нем, и осознает, что его ввели в обман. Тем не менее, милый Евгений, у меня нет причин сетовать на него, и я с радостью полагаюсь на его справедливость и привязанность ко мне».
Жером – единственное исключение во всем клане. Для своего младшего деверя Жозефина – «милая и любимая сестрица». Она получает от него очаровательные письма, например, вот такое, посланное из Бреслау в начале того же года: «По-моему, вы уже давно заметили: я люблю вас всем сердцем и острее, чем кто бы то ни было, чувствую, как горько жить в разлуке с вами. Если вы усмотрите в моих словах чрезмерную самоуверенность, вините в этом лишь вашу доброту ко мне и мою нежную привязанность к вам… Я раздобыл здесь несколько шалей, вроде кашемировых, изготовленных на московской мануфактуре, и прошу мою добрую сестрицу принять их в доказательство того, что в любых обстоятельствах я не перестаю думать о ней, Прощайте, милая сестрица, от всего сердца обнимаю вас».
Как разительно эти задушевные строки отличаются от писем Каролины, Полины и Элизы, адресованных Жозефине и тоже сохраненных в библиотеке Тьера. Ее золовки именуют ее, как положено по протоколу, «государыня» и «ваше величество», тогда как между собой величают ее «этой Богарне», а теперь и «старухой»!
* * *
Еще в Тильзите император высокомерно объявил Жерому, что предназначает его стать главой королевства, обнимающего, прибавил он, «все государства, перечисленные в прилагаемом списке». Герб для созданного таким образом королевства Вестфалия поручено было составить Талейрану. Тот взял дюжину львов, резвившихся на гербах германских герцогств и княжеств, увенчал их орлом, а сбоку добавил коня. Потребовалась также королева, поскольку Наполеон заставил брата развестись с Элизабет Патерсон, на которой тот женился без его согласия. Затем Жерому сосватали Екатерину, дочь короля Вюртембергского. Она, может быть, и не была хорошенькой, но на округлость ее форм, впоследствии ставших пышными, прелестный рот, изящные руки было приятно смотреть. Ее же с первого взгляда ослепило медальное лицо Жерома, и в этом ослеплении она пребывала до самой смерти.
Поэтому Жозефина по приезде принцессы весьма кстати окружила ее заботой и постаралась заполнить тяжеловесные паузы, то и дело возникавшие в разговорах жениха и невесты, которым нечего было друг другу сказать.
Брак – гражданский 22 августа, церковный 23-го – совершился с невероятной помпой и роскошью, которые гораздо меньше стесняли Жозефину, нежели маленькую вюртембержку: хотя семья последней и состояла в родстве со всеми европейскими дворами, Екатерина приехала из Штутгарта чуть ли не голой. Особенно мучительны для нее были вечера у императрицы, где шла отчаянная игра в трик-трак и в «круг». Она надеялась, что обстановка станет попроще в Рамбуйе, где значительная часть двора должна была пробыть с 7 по 17 сентября.
Ничуть не бывало.
В замке холодно и сыро. «Здесь умер Франциск I, и все выглядит как в тюрьме, – пишет Екатерина отцу. – Каждому отведено по комнате, где, впрочем, мы только одеваемся и спим, причем мало, потому что ежедневно с одиннадцати утра до двух часов дня находимся у императрицы. Завтрак, рукоделье, потом шесть-семь часов охоты, обед галопом, карты, музыка и светские беседы с императрицей. Принцы и принцессы обычно танцуют. Я, как самая рассудительная и старшая из них, только и делаю, что сижу, посматриваю по сторонам и томлюсь – так хочется спать».
Жозефине с трудом удается поддерживать «светские беседы»: она ненавидит Рамбуйе, но вынуждена скрывать свои чувства, потому что ее муж находит эту резиденцию «очаровательной» и удивляется, как там можно скучать. Через несколько дней, когда двор переедет в Фонтенбло на период с 21 сентября по 16 ноября 1807, он скажет Талейрану:
– Я собрал в Фонтенбло много народа. Мне хотелось, чтобы здесь развлекались. Я организовал все мыслимые развлечения, а у людей вытянутые лица, печальный и усталый вид.
Талейран ответил:
– Дело в том, что удовольствиям не предаются под барабан, а здесь у вас, как и в армии, такой вид, словно вы приказываете нам: «Ну-с, дамы и господа, развлекаться – шагом марш!»
Факт бесспорен: придворные дефилировали перед императорской четой совсем «как на параде, в котором участвуют и дамы», по выражению одного из современников, близких ко двору. Каждый вечер, когда императрица устраивает прием у себя, общество в Фонтенбло собирается у одной из принцесс. Королева Гортензия, еще настолько больная, что ее пришлось доставить в Фонтенбло «по воде», Екатерина Вюртембергская, Каролина, великая герцогиня Бергская, а вскоре королева Неаполитанская, или Полетта, княгиня Гуасталла, которая вот-вот станет принцессой Полиной, поочередно устраивают у себя приемы по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам. Часов около восьми двор в парадной одежде располагается кругом, и все молча смотрят друг на друга. Появляется Жозефина, обходит гостиную, а затем, – говорит г-жа де Ремюза, которой мы должны дать слово, если не хотим, чтобы читатель подумал, что мы преувеличиваем, – занимает свое место и вместе с другими молча ждет императора.
Наконец входит Наполеон. В то же мгновение все вскакивают с такой невероятной быстротой, что это движение, замечает драматург Александр Дюваль, могло сравниться «только с выполнением ружейного приема».
Когда он пропускал вторую часть «смотра» и не заставлял приглашенных дефилировать мимо него, как делал на своих приемах, император садился рядом с женой и смотрел на танцы. Но «вид его отнюдь не оживлял развлечение, почему подобные сборища никому и не доставляли удовольствия».
* * *
В разгар праздников в Фонтенбло прибывает известие о том, что 2 июня г-жа де Ла Пажри скончалась в Труаз-Иле. 10 того же месяца ее похоронили со всей пышностью, какую можно было создать на острове.
Еще в конце февраля или начале марта Жозефина получила письмо, отправленное с Мартиники 12 декабря 1806 ее двоюродным братом Луи, братом Стефани и сыном Робера Маргерита Таше де Ла Пажри, дяди императрицы. Он сообщал «своей кузине» довольно печальные вещи о ее матери. «Невозможно, – писал он, – измениться в нравственном и физическом смысле больше, чем моя бедная тетка. Она все время плачет». Г-жа де Ла Пажри жила теперь не столько в Труаз-Иле, сколько в резиденции властей Фор-Наполеона, бывшего Фор-Руайаля, где располагала лишь крохотной, находившейся над кухней комнаткой, куда легко проникал шум. Император, без сомнения, выплачивал ей пенсию, но, вероятно, по примеру Госпожи Матери, она не верила, что сказка может «длиться» слишком долго, и потому не желала идти ни на какие расходы для того, чтобы устроиться поприличнее. «Ей давно следовало бы решиться на это, – продолжал ее племянник, – потому что задержка с этим порождала много неприятных слухов, вплоть до разговоров о том, что она-де живет в нужде…»
Можно предполагать, что, получив такое письмо, Жозефина отдала соответствующие распоряжения, но они прибыли на остров лишь за несколько дней до того, как г-жа де Ла Пажри испустила последний вздох в присутствии г-на Виларе де Жуайёза, генерал-губернатора острова, примчавшегося в Труаз-Иле[68]68
Накануне дня, когда двор обосновался в Фонтенбло, «Наполеон, император французов, король Италии, протектор Рейнского Союза, желая вознаградить девицу Марион, свободную мулатку с Мартиники, за попечения, которыми она окружала нашу возлюбленную супругу, императрицу французов и королеву Италии в годы ее младенчества», назначил ей ежегодную пенсию в 1200 франков.
[Закрыть].
Отметим, что молочная сестра Жозефины Гилобетта дожила до девяноста лет и скончалась в начале Второй империи.
Следовало ли императорскому двору надевать траур по теще императора, особы, которой не знал никто, кроме Жозефины и Стефани Таше? Чтобы не прерывать фонтенблоских празднеств, решено было не вспоминать о печальном событии. Жозефина промолчала и спряталась ото всех, чтобы выплакаться, – рассказывает нам м-ль Аврийон.
Известие, разумеется, не омрачило атмосферу, царившую во дворце, – она и без того была предельно мрачной.
Стены сочатся скукой. На пышных спектаклях, даваемых по понедельникам, средам и пятницам в течение всего долгого пребывания в Фонтенбло, зрители зевают. На восемнадцать представлений приходится двенадцать трагедий, «вечных трагедий», сущее снотворное, которое надо терпеливо принимать, делая вид, что получаешь удовольствие. Двор буквально давится ими – так утверждает г-жа де Ремюза. Молодые женщины засыпают в зале, не боясь, что их разбудят аплодисменты: в присутствии императора аплодировать запрещается. К тому же и ему случается вздремнуть вечером в дни охоты. Жозефина будит его лишь после того, как занавес опускается в последний раз, и все расходятся «грустные и недовольные».
«„Император замечал это умонастроение, – продолжает г-жа де Ремюза, – оно приводило его в дурное расположение духа, он набрасывался на обер-камергера, бранил актеров, требовал найти других“. Ему случалось также менять спектакль утром в день представления.
– Я так хочу, – говорил он».
Стоило ему отчеканить свое бесповоротное: «Я так хочу», как эта фраза эхом разносилась по дворцу. Дюрок и особенно Савари произносили ее тем же тоном, г-н де Ремюза повторял ее актерам, шалевшим от перенапряжения памяти или перемены репертуара, на которую их обрекали. «Во все стороны во весь опор на поиски нужных людей или реквизита мчались курьеры».








