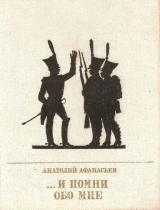
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Оставьте рыцарские бредни, они вам не идут вовсе. Драться с вами я не буду, я вас придушу, как котенка, вот этой рукой! – Сухинов показал ему руку, которой его придушит. – Ступайте в роту, Петин, и ведите себя достойно. Если я услышу что-нибудь подозрительное, пеняйте на себя.
Петин побрел, пошатываясь, как незрячий, проклиная себя за откровенность перед этим дьяволом.
Был уже поздний вечер, ветер стих, и сильно подморозило. Мятежный город Васильков не спал, охваченный тревогой перед завтрашним днем. Горели ночные костры, у которых офицеры, члены общества, беседовали с солдатами, подбадривали их, уговаривали колеблющихся, братались с самыми отчаянными. То тут, то там вспыхивала протяжная песня, покрикивания караульных вбивали в морозный воздух глухие клинья. Город кишел множеством приглушенных, неясных звуков, казалось, какое-то огромное, многорукое и многоголовое существо расползлось по улицам и, балуясь, осторожничая, постукивает по ставням, скребется в двери, клацает железом. Лишь перед рассветом все угомонилось и притихло, задремало в свинцовом полусне.
Сухинов разыскал Соловьева и Щепиллу, они сидели в низенькой пристройке, ужинали картошкой и квашеной капустой из глиняной миски. Оба выглядели так, будто много дней подряд не слезали с коней.
Сухинов плеснул квасу в кружку, залпом выпил, спадал вяло:
– Некоторые офицеры паникуют, могут в любой момент отстать. Это нехорошо. Это произведет плохое впечатление на солдат.
– Знаем, – мрачно отозвался Щепилло. – Штабс-капитан Маевский куда-то пропал. Забился где-нибудь в щель, таракан! Войнилович вертится, как оса, так бы и пристукнул двурушника.
– Войнилович?
– Из этих сволочей верноподданнический дух колом не выбьешь! – Щепилло разбухал злостью на глазах, как упырь.
– Войнилович и прочие – еще полбеды, – мягко вступил Соловьев. – Меня больше беспокоит поведение самого Муравьева. По-моему, он в растерянности и не знает, что предпринять. А без него наше выступление обречено на провал.
– Почему? – взвился Щепилло. – Подумаешь, свет клином сошелся на Муравьеве. Не он, так другой. Хотя бы вот Иван Иванович. А, Ваня?!
– Восстанию нужен вождь, – наставительно заметил Соловьев. – Восстанию необходим вождь, которому все доверяют, которого любят и за которым пойдут до конца. Кроме Муравьева, такого человека среди нас нет.
Сухинов налил себе еще квасу. Лицо его горело, виски распирала тяжесть.
– Сергей Иванович не отступит, – сказал он. – Ему некуда отступать.
– Брат Матвей на него очень плохо влияет.
– Как бы то ни было, – сказал Сухинов, – нам надо твердо держаться Муравьева, помогать ему, чем можно, а если понадобится, то и заставить действовать.
– Прав Анастасий, проволочки сейчас опаснее всего.
Друзья еще раз поклялись друг другу в верности и разошлись. Щепилло и Соловьев отправились опять к солдатам, а Сухинова ноги сами понесли к дому Муравьева. Там его окликнул часовой, но тут же узнал. Сухинов приложил палец к губам, призывая к молчанию. Одно окошко тускло светилось.
– Ну что, как командир?
– А никак, ваше благородие. Сидят запершись и некого больше не принимают.
– Не ложился?
– Какое? Рази ему теперь до сна.
Сухинов обогнул дом и осторожно заглянул в окошко, Сергей Иванович в наброшенном на плечи мундире что-то писал. Перед ним теплился свечной огарок. Рука его то стремительно двигалась по бумаге, то надолго замирала в воздухе. Лицо больное, сизое. Один раз он чему-то улыбнулся, поднес близко к глазам исписанный листок, потом аккуратно порвал его на четыре части и зажег от свечки.
Сухинов бесшумно отошел от окна.
– Ты смотри, как следует охраняй, – сказал часовому. – Не вздумай дрыхнуть.
– Не извольте сомневаться.
– Знаю я вас.
В семь утра Сухинов барабанил рукояткой пистолета в дверь к Войниловичу. Подпоручик, судя по его воспаленным глазам, ночь провел дурно. Увидя Сухинова, только безнадежно махнул рукой:
– От Сергея Ивановича, конечно? По поводу провианта?
– О нет, я от себя лично.
– Чему обязан?
Сухинов плечом его отодвинул и прошел в комнату. Удобно уселся на стул, перекинув ногу на ногу.
– Я слушаю вас, Сухинов.
– Это я вас слушаю, милейший.
Войнилович, косясь на сидящего посреди комнаты поручика, начал одеваться, молчал.
– Ты что же это, Антон, дурака валяешь? – доверительно спросил Сухинов.
– Кто вас уполномочил разговаривать со мной в таком тоне?! – вскинулся Войнилович.
– Моя совесть, Антон. Она обращается к твоей совести и к твоей чести. Ты разве не слышишь?
– Слышу, Сухинов. Я много о тебе слышал. Ты взял на себя обязанности опричника при Муравьеве. Он всех пугает твоим именем. Он пригрозил, что если я вовремя не приведу капитана Козлова с его ротой, то он пошлет за нами тебя. Это смешно, ей-богу!
– Почему смешно?
– Потому хотя бы, что я не боюсь ничьих угроз.
– Тебе и не надо бояться. Я знаю, ты честный и благородный человек и не способен на предательство. Но сейчас, дорогой Антон Станиславович, ты еще раз поклянешься, что не отстанешь от общего дела и будешь беспрекословно и четко выполнять все распоряжения Сергея Ивановича.
– А если я откажусь?
Сухинов вздохнул, вынул заряженный пистолет и стал его с любопытством разглядывать. Войнилович без сил опустился на кровать.
– Это же будет обыкновенное убийство, Сухинов!
– Ошибаетесь, подпоручик. Это будет справедливое возмездие за измену… Так вы будете клясться? Мне время дорого.
– Клянусь! – сказал Войнилович дрожащим от ненависти голосом. – Клянусь до конца следовать за полком. Но также клянусь отомстить тебе при первой возможности, Сухинов!
– Как вам будет угодно.
Жители Василькова начали постепенно приходить в себя. Торговые люди послали делегацию к Муравьеву, и их заверили, что за провизию и прочие товары, необходимые в походе, с ними рассчитаются сполна. Торговля шла довольно бойко. Любопытство пересиливало страх, горожане потихоньку выползали на улицу, обменивались с солдатами осторожными репликами.
Ближе к полудню на площади перед собором святого Феодосия выстроились пять мятежных рот Черниговского полка. С ними шестнадцать офицеров, считая Михаила Бестужева-Рюмина. В смутной надежде, в спасительном воображении Муравьев видел, как по пути к ним примыкают все новые и новые полки. Пора, пора в путь, в поход. В последний, сокрушительный. Не личной славы и триумфа он ищет, о, нет! Единственное его желание – принести пользу своему бедному униженному отечеству. Поймут ли это, если он погибнет? Так хочется, чтобы поняли.
Уже дважды за ним посылали нарочных с известием, что полк построен, а он все не находил в себе готовности предстать перед людьми, судьба которых отныне полностью зависела от его воли и разума. Брат Матвей не сводил с него печального уговаривающего взгляда. Все было сказано меж ними.
– Пойдем, Матюша, пора, – сказал Сергей Иванович негромко. Матвей кивнул, не подымая глаз.
С ними вместе на площадь вышел, еле передвигая ноги, полковой священник отец Даниил. Он должен был отслужить молебен и прочитать «Катехизис», сочиненный Сергеем Ивановичем. По «Катехизису» солдаты присягнут не императору Николаю, а богу. Отец Даниил Кейзер уже не единожды соглашался и отказывался и снова соглашался, и взял за службу авансом двести рублей у Муравьева, но все равно его пришлось вести чуть ли не под руки. Он шел, тупо уставясь в землю, продолжая сокрушаться, поминая то и дело свою несчастную Жену и детушек. Он бубнил жалобные слова таким замогильным голосом, что Муравьеву стало не по себе.
– Успокойтесь, батюшка, – сказал он резко. – Разве бог не учит вас жертвовать собой ради блага ближних?
– Если бы я еще знал, в чем состоит это благо, – промямлил отец Даниил.
– Благо ближнего в возможности для каждого человека, независимо от его состояния и сословия, быть свободным. Мы не раз беседовали с вами об этом и пришли к согласию.
– Вы, Сергей Иванович, умеете убеждать, и, возможно, вы правы, но, когда я вспомню о том, что грозит моей семье, – волосы дыбом встают. Я всего лишь слабый человек, поймите меня.
– И слабые в роковой час становились героями, если вступались за справедливость. Вы знаете об этом не хуже меня.
– Ох-хо-хо! Спаси и помилуй! – вздыхал священник.
Сергей Муравьев обвел продолжительным взглядом замершие ряды, ждущие его слова. Знакомые и незнакомые лица смотрели на него с одинаковым напряжением. Ни шума, ни привычных окриков, ни бряцания оружием – мертвая тишина. Неяркое солнце высунулось из серой прореви неба, и засеребрилась булыжная площадь. Острая, больно жалящая мысль пронзила Муравьева. Стоящие здесь на площади люди одиноки, как, может быть, никто сейчас в России, ибо они сбросили с себя вековую узду рабства – спасения им уже нет. Но ведь и ему нет спасения. Они хоть могут надеяться, они надеются на него, потому что поверили его словам и обещаниям, а ему самому надеяться не на кого.
– Друзья мои, – сказал Муравьев, задохнулся и повторил во всю силу легких: – Друзья мои! Солдаты и офицеры! Русские люди! Я поздравляю вас с успешным началом выступления. Нас мало, но за нами правда божия и человеческая. Могучие реки питаются маленькими ручейками, великие свершения начинаются с малых поступков, вселенские пожары вспыхивают от искры. Город Васильков – первый вольный город на нашей земле. Здесь подняли мы знамя борьбы за свободу и справедливость, отсюда понесем его по всей России. Может быть, впереди у нас страдания и муки. Мало кто из нас увидит ослепительную зарю победы – это ничего. Будущие поколения, дети и внуки наши, помянут нас добрым словом… Между нами нет и не должно быть принуждения. Кто колеблется, кто сомневается – пусть уходит, если совесть позволит ему оставить товарищей своих на славном, благородном и смертельно опасном пути. Лучшие сыны отчизны будут с нами и придут к нам.
Муравьев умолк. Роты в едином порыве сдвинулись с места. Восторженные крики оглушили площадь. И выше всех надрывный, юношеский голос Кузьмина.
– Постоим за отечество наше! Ура!
Муравьев, отворачиваясь, пряча слезы, сделал знак священнику. Тот начал читать по бумажке бодро, но дойдя до вопроса: «Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?» – запнулся, сбился и чуть слышно просипел кощунственный ответ: «От того, что цари похитили у них свободу». Подскочил Михаил Бестужев, отпихнул священника, вырвал у него бумагу, звонко, внятно прочитал:
«– Что ж святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?
– Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земле Иисус Христос.
– Что может удержать от исполнения святого сего подвига?
– Ничто…».
Сергей Муравьев переживал волнующие, почти счастливые минуты, но не мог не видеть, что солдаты мало что поняли. Многие при упоминании Христа перекрестились. Пожилой солдат в первом ряду с испугом громко спросил:
– Царя, значит, нынче вовсе не будет?!
Алимпий Борисов радостно гаркнул:
– А без царя-то оно и сподручней управляться!
На него зашикали, остепенили. Офицеры морщились. Муравьев не ожидал, что так будет, хотя Матвей его и предупреждал. Сергей Иванович верил, что через божеские образы идея добра и справедливости легче дойдет до ожесточенных солдатских сердец. Солдаты поймут, в чем смысл восстания. Ан не угадал. Солдатам, простым людям, нужен был царь, они привыкли к царю. Иисус – это хорошо очень, но где он, Иисус, может, на небесах, а может, неизвестно где. Другое дело – добрый, всепрощающий царь, ласковый к своим верным слугам, который всегда может дать укорот притеснителям и лихоимцам.
– Да чего уж там, – выразил общее шаткое настроение Михей Шутов. – Теперь деваться некуда.
Муравьев мгновенно оценил обстановку и уж хотел было пояснить, что присягать будут Константину, законному наследнику, хитростью и коварством отстраненному от престола, но ему помешало появление на площади нового лица. На почтовой тройке, волоча за собой снежный шлейф, лихо подлетел сияющий юноша, соскочил с саней и бросился в объятия Муравьева. Это был Ипполит Муравьев, его девятнадцатилетний брат, прапорщик. Захлебываясь восторгом, посылая во все стороны ликующие шальные улыбки, он рассказал, что назначен во вторую армию, но останется здесь с любимыми братьями умирать за свободу. С его нежных губ суровые слова слетали, как каленые орешки, детский смех журчал живительным ручейком. Его прибытие в момент присяги было добрым знамением, подобным явлению ангела. Офицеры пошли из рядов здороваться. Каждый спешил побыстрее пожать хрупкую руку Ипполита, черпнуть капельку света из его счастливых глаз. О да, это ангел слетел к ним, чтобы воодушевить перед мрачной и опасной дорогой.
Матвей Муравьев с силой тряхнул брата за плечи.
– Ты не должен здесь оставаться ни минуты, Ипполит! Немедленно отправляйся по назначению.
Ипполит, не умея согнать с лица улыбку, строго ответил:
– Ты шутишь, Матюша? И не надейся, я никуда не поеду отсюда.
– Оставь его, Матвей, – неуверенно сказал Сергей Иванович. – На него сейчас никакие доводы рассудка не подействуют.
– Нет, не отстану. Он должен сейчас же уехать.
Вспыльчивый Кузьмин не выдержал, вмешался. Его восторженная душа рвалась навстречу душе Ипполита. Он Матвея презирал за его осторожность, за чрезмерную рассудительность, которая в такой момент представлялась его пылкому уму чуть ли не изменой.
– Ваш брат и наш брат, – сказал он гулко, как из колодца. – Зачем вы хотите лишить его чести погибнуть за отечество, принуждаете… быть трусом? Вам такие больше по душе?
Ипполит расширил в изумлении светлые глаза, торопливо шагнул к Кузьмину.
– Вы, вы благородный человек!.. Я брат ваш, да, да!
Они обнялись и расцеловались. Потом на виду у всех обменялись пистолетами – на жизнь и на смерть. Почти задыхаясь от суматошной полноты бытия, любя в этот миг друг друга и всех вокруг, с трепещущими, как струны, сердцами, они не знали ни страха, ни сомнений.
– Коль понадобится умереть, я умру с честью, – смеялся Ипполит.
Около часа дня под музыку оркестра и барабанную дробь восставший полк выступил из Василькова навстречу своему бессмертию.
На выходе из города у последних домов стоял, опираясь на посошок, древний житель. Он мелко-мелко крестил проходящие роты, бормоча себе под нос:
– Одолеть вам супостатов, ребята. С богом! Эх, косточки христианские захрумкали.
Старик так понимал, что солдатики отправились воевать турка. Он бы и сам за ними поскакал, хоть на одной ноге, да силенок у бедняги осталось только доплестись до печи.
5
Прапорщик Саша Мозалевский отстал от полка возле Малой Мытницы у первой корчмы. Здесь он переоделся в партикулярное платье и дождался унтер-офицера Харитонова с тремя солдатами. На двух тройках они вернулись в Васильков, пересекли его глухими закоулками и, загоняя лошадей, поскакали на Киев. Мозалевский вез три доверенных письма Муравьева-Апостола к членам Южного общества и несколько экземпляров «Катехизиса». Он был доволен ответственным поручением и к сопровождавшим его солдатам, которые были значительно старше его, обращался, подражая манере Сухинова, с иронической снисходительностью. В воображении ему рисовались восхитительные картины. Он представлял, как поднимает на восстание Киевский гарнизон, захватывает город, сажает под замок градоначальника и всю свору верноподданных тупоголовых служак и с огромным войском, пушками и обозом выступает навстречу Сергею Муравьеву. Немного смущало Сашу Мозалевского, что в Киеве он, собственно, никого не знал, и, видимо, какую-то часть драгоценного времени придется потратить на установление связей. Впрочем, Мозалевский отлично понимал, что все это не более как пустые мечты.
За десять утомительных часов езды им только раз удалось поменять лошадей в селе неподалеку от Киева, изрядно переплатив извозчику, мужику звероподобного вида, который с ними торговался сквозь зубы, с такими ужимками, точно все про них знает. Мозалевский, помня повадки Сухинова, на прощанье извозчика припугнул, но сделал это неумело, капризно, по-домашнему:
– Ты, приятель, смотри у меня, язык за зубами держи, помалкивай! – На что мужик, почесав грудь под фуфайкой, невнятно буркнул:
– Ступай поздорову, барин! Чего уж там.
На большую Васильковскую дорогу выехали под самым Киевом около полуночи, Мозалевский отдал унтеру и солдатам большую часть списков «Катехизиса» и приказал им раздавать списки прохожим, а также подбрасывать их в дома. Встретиться условились на Подоле. Саша мучился вопросом, обнять ли ему на прощанье по-отечески каждого солдата, или обнять только унтер-офицера, или никого не обнимать, а всем по-братски пожать руку. «Сухинов бы обниматься не стал понапрасну!» – подумал Мозалевский и ограничился рукопожатиями, стараясь не замечать добродушных солдатских ухмылок.
Киев он знал хорошо и вскоре добрался по первому адресу на Печерске, обогнув заставу за госпиталями. Письмо было к генералу, фамилии которого Муравьев почему-то не назвал, а Мозалевский считал неудобным спросить. Он и сам, войдя в дом, повел себя секретно и попросил денщика доложить о себе, не называя ни звания, ни фамилии, сказав только, что прибыл человек по делу чрезвычайной важности.
Вскоре к нему вышел генерал – толстый человек в парчовом до пят ночном халате. Мозалевский важно доложил: он прапорщик восставшего Черниговского полка с письмом от Муравьева. Генерал засуетился, с трудом нацепил на нос очки, и когда читал письмо, рука его мелко дрожала. Прочитав, он плаксиво сказал:
– Хорошо, хорошо, скоро я с ним увижусь. А вы, голубчик, ступайте, ступайте! Тут не вполне безопасно.
Мозалевскому показалось невероятным, чтобы генерал собирался повидать Сергея Ивановича, и он спросил, не надо ли передать что-нибудь на словах.
– Ничего не надо, ничего! Быстрее уходите! – Генерал был жалок, халат на нем от резких движений распахнулся, обнажив волосатую, лоснящуюся от нота грудь. Мозалевский упорствовал, не уходил, несколько раз повторил, что Сергей Иванович ждет ответа и помощи. Генерал, однообразно нудя: «Ничего не знаю!» и «Прошу меня оставить!» – ловкими маневрами обходя Сашу то с одного бока, то с другого, дотолкал его до дверей. У генерала начала трястись нижняя губа. Делать нечего – Мозалевский ушел.
Ночь стояла над древним Киевом морозная, безлунная. Мозалевский пошел искать следующий адрес – подполковника Крупенникова. Он брел, озираясь на каждый звук, держась ближе к домам – боялся нарваться на патруль. Озяб и руки закоченели, где-то он оставил перчатки, возможно, в прихожей у струсившего генерала. Он проклинал и генерала, и всех трусов и подлецов на свете. И себе он уже не казался героем, а потому заодно проклинал и себя вместе со всеми.
Однако встреча с Крупенниковым Мозалевского успокоила. Офицер громадного роста и величавой внешности встретил его, как родного брата, обласкал, поднес чарку водки и мятный крендель, а потом объявил, что всё войска, собранные в Киеве, с минуты на минуту будут подняты по тревоге и вскоре пойдут на усмирение Черниговского полка. Крупенников, посмеиваясь, сказал, что это хорошо и как раз на руку Муравьеву, потому что войска ненадежны и, надо полагать, присоединятся к восставшим по первому сигналу. Писать что-либо Муравьеву он тоже отказался, объяснив, как и генерал, что надеется обнять Сергея Ивановича раньше, чем это удастся Мозалевскому. Пораженный таким совпадением планов у обоих адресатов, Саша вышел на улицу. Он прошел всего несколько шагов и остановился, потирая виски от удивления, не веря своим глазам. За те несколько минут, что он провел у Крупенникова, город поразительно изменился. Улицы посветлели от зажженных окон и от факелов. Крики, лязг оружия, барабанная дробь нависли над вырванным из сна городом, как пелена. Мимо Мозалевского то и дело пробегали какие-то растрепанные люди с тюками и свертками, женщины выносили из квартир детей. Одного бегущего молодого человека, по виду мелкого чиновника, Мозалевский сумел остановить.
– Что случилось, объясните!
– Вы не знаете? Объявлена тревога! Разбойники окружили город и поджигают его с разных концов! Спасайтесь!
– Какие разбойники?
– Неизвестно. Говорят, какой-то Муравьев, из беглых каторжников, вооружил всю округу.
Мозалевский понял, что дело плохо и надо быстрее уходить из Киева. Он вернулся к тому месту, где оставил лошадь и солдата при ней. Солдат исчез, но лошадь была на месте, привязанная к столбу, металась, издавая ржание, похожее на мольбу, роняя на снег клочья пены. Мозалевский переулками поскакал к Подолу, надеясь встретиться с Харитоновым и солдатами. О том, чтобы доставить третье письмо, нечего было и помышлять. Но и добраться к условленному месту ему не удалось. Повсюду шныряли группы жандармов и вооруженные отряды солдат. Народу на улицах становилось все больше. Вокруг – перекошенные лица, угрожающие или плачущие голоса.
Мозалевский свернул в предместье, предполагая глухими подворьями выбраться на Брусиловскую дорогу. Замелькали низенькие хатки, немые спуски оврагов. Не успел Мозалевский перевести дыхание, как услышал за спиной топот копыт по булыжнику и исступленные крики: «Стой, стой!» Бросив поводья, он достал письмо, порвал его и стал судорожно запихивать в рот клочки. Он успел проглотить все письмо, пока жандармы его догнали и окружили.
– В чем дело, господа? – спросил он, по возможности спокойным тоном.
– А вот скоро узнаешь, в чем дело! – грубо одернул его жандармский ротмистр. – Почему не остановился?
– Конь понес.
– Ничего, теперь не понесет!
Мозалевского отвели на главную гауптвахту, а оттуда через короткое время доставили к командиру четвертого корпуса князю Щербатову. По дороге ни о чем не расспрашивали, будто все и так о нем знали. Его, конечно, кто-то опознал, кто-то выдал. «Уж не генерал ли? – мелькнула догадка. – А может, Крупенников?»
В гостиной у князя собралось много офицеров и среди них хорошие знакомцы Мозалевского – майор Трухин с подбитым глазом, полковой адъютант Павлов, а также оба жандармских офицера, привозивших приказ об аресте Муравьева, Несмеянов и Скоков. Их Саша арестовал третьего дня, во второй их приезд в Васильков. Вместе с Сухиновым он водил жандармов к Сергею Ивановичу, а потом на гауптвахту. Оба жандарма смотрели на Мозалевского с таким выражением, точно собирались его укусить. «Быстро они прискакали!» – подумал Мозалевский с горькой обидой. Князь Щербатов взял его под руку и проводил в свой кабинет. Здесь он ему сказал, предварительно проверив, плотно ли притворена дверь:
– Все, все знаю, дорогой мой мальчик! И душевно сострадаю. Вы начали слишком рано. О поверьте, я говорю от чистого сердца. Мне плакать хочется, когда я вижу, как бессмысленно погибают такие молодые люди, как вы. Но еще больше мне жаль Сергея Ивановича. Это блестящий офицер и умнейший, благороднейший человек… Ради него я готов выполнить любую вашу просьбу, если это будет в моих силах. Учтите, для вас, видимо, это последняя возможность!
– Мне не о чем просить.
– Тогда пойдемте!
Они вернулись в гостиную, и тут князь начал допрос. Вопросы он задавал уже совсем другим тоном, сурово, требовательно. Зачем приехал в Киев? Какие поручения Муравьева должен был выполнить? Почему торопился уехать?
– Я уже объяснил господам жандармам, что мой конь испугался шума и огней и понес. Я чуть не сломал себе шею.
Трухин больше не мог сдерживаться. Его пьяная душа взъярилась.
– Злодей! – заревел он. – Он все врет, ваше высокопревосходительство! Они вместе с Сухиновым хотели убить меня на гауптвахте. Сухинов у них главный заводила, а этот его помощник и друг. Только видя мою непоколебимость, они затрепетали и сбежали прочь, подобно воющим от страха псам. Пусть признается, где сейчас Сухинов!
Адъютант Павлов тоже подлил масла в огонь, сообщив, что именно Мозалевский и Сухинов рыскали во Василькову с целью лишить его жизни. По словам Трухина и Павлова, выходило, что главной целью восстания, может быть, и было укокошить сих двух героев.
– Что же, голубчик, придется вас обыскать! – объявил князь. Трухин с готовностью кинулся исполнять приказание. Он так энергично старался, что оборвал на куртке Мозалевского две пуговицы.
– Как умело вы это делаете, майор! – сказал ему Мозалевский.
Трухин при обыске ничего не обнаружил. Мозалевский очень устал и хотел спать. Князь распорядился отправить его под арест.
Саша Мозалевский, милый фантазер, одним из первых среди восставших черниговцев отхлебнул из горькой чаши неволи.
Сергей Муравьев-Апостол не был мечтателем. Но не был он и человеком действия. По складу ума скорее ученый, чем организатор, он часто сомневался в собственных оценках и планах. Деликатная душа его легко поддавалась влиянию близких людей. А самыми близкими к нему в те дни были Бестужев-Рюмин, восторженный юноша с сердцем воина и впечатлительностью поэта, и брат Матвей, человек суровый, гордый, полностью сосредоточенный на нравственной подоплеке событий. Они тянули его каждый в свою сторону, и, вынужденный убеждать их в своей правоте, он сам до какой-то степени попадал под их влияние.
Верил ли Муравьев хоть в малую вероятность успеха? Надо полагать, иногда верил, иногда не очень. Да и вера его была похожа на инстинктивную надежду обреченного больного на исцеление. Слишком многое должно было произойти как бы по мановению волшебной палочки, либо в случае «благоприятного стечения обстоятельств».
Наверное, одной из главных причин неудачи восстания были разногласия в «главном штабе» полка, в его «мыслительном центре», куда кроме братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина входили четверо офицеров-славян: Сухинов, Кузьмин, Соловьев и Щепилло. Каждый из этих людей сознавал, что коли восстание началось, то споры уже неуместны, более того, губительны; необходимо единоначалие. И все же, хотя никто не сомневался, что только один человек может возглавить поход, а именно Сергей Муравьев-Апостол, споры продолжались бесконечно и порой приобретали неприятный оттенок раздора.
Сергей Иванович мыслил глубоко, по-государственному. Он пытался прозреть будущее, оттуда почерпнуть надежду. Сегодняшний день был темен, зато там, далеко впереди, он видел войсковые соединения, двигающиеся со всех сторон на Москву и Петербург, берущие их в клещи; слышал последние мольбы Николая о помощи, обращенные хотя бы к Ермолову, контролирующему Кавказ, тщетные мольбы; видел арест Константина в Польше и, наконец, низложение императора. «Сбудется ли?» – сумрачно думал Муравьев и сразу ненадолго, как в целительный сон, погружался в свою мечту о великой Российской республике. Этот план, обозначенный в его мыслях, может быть, нечетко, пунктирно, в котором он главные роли распределял между членами тайного общества, был, если можно так сказать, стратегическим планом. Сегодняшняя реальность, как он ее понимал, заставляла его придерживаться тактики выжидательной. Он понимал, что с теми силами, которые сейчас под его началом, идти в наступление бессмысленно. Он искренне надеялся, что полки, которые выступят против него, непременно перейдут на его сторону. И у него были веские основания надеяться, ибо среди офицеров этих полков было много южан. Отречение Артамона Муравьева, а значит, потеря ахтырских гусар не убили в нем надежду и веру. Каждую минуту он ожидал хороших известий, нервы его были напряжены до предела, он почти не спал ночами.
Славяне были настроены решительно. Они требовали немедленного выступления на Киев. Они говорили, что только быстрота и внезапность могут привести их к победе. Взятие Киева – это половина успеха. Взятие Киева покажет их силу и заставит колеблющихся принять решение. В их доводах был свой резон. Операция могла оказаться успешной, если учесть то, что в Киеве стоял Курский пехотный полк, с некоторыми офицерами которого Сергей Иванович имел давнюю договоренность и который, скорее всего, к ним присоединится. Кроме того, можно было рассчитывать на артиллерийских офицеров, находившихся при арсенале, единомышленников-славян, приятелей Андреевича.
Вопрос тактики восстания и был камнем преткновения между южанами и славянами.
Много ли было в планах декабристов фантасмагорического, несбыточного? Конечно, много. Почти все. Любой современный ученый, да что там – любой добросовестный студент, опираясь на исторический материализм и политэкономию, легко докажет заведомую обреченность восстания декабристов. Иной мечтатель, грустя, сравнит их отчаянное выступление с подвигом Данко, вырвавшим собственное сердце, чтобы осветить дорогу людям.
А вдруг не правы ни ученый, ни мечтатель?
Декабристы были молоды большей частью, но не были безумны. Они не собирались устраивать массовое ритуальное самоубийство в восточном духе, хотя так называемое «героическое самоубийство» не исключалось ими как элемент тактики. Именно о таком самоубийстве подумывал в горестные минуты Матвей Муравьев.
У них были реальные планы. Другое дело, что планы эти не сбылись. Но все же, все же, все же… – как сказал совсем в иное время и о других событиях, тяжело сострадая, поэт.
Вечером ужинали у Муравьева. В Мотовиловку пришли в сумерках, но никто еще толком не присел. Пока размещались по квартирам, устраивались, последний день года померк, отцвел, иссяк. Муравьев все эти суматошные часы находился в ровном меланхолическом настроении, и даже уход гренадерской роты капитана Козлова его не обескуражил. Выйдя к роте, он сразу увидел, что солдаты мнутся, отворачиваются. Муравьев им сказал:
– Я никого силой не задерживаю. Хотите разделить с товарищами подвиг и славу, оставайтесь, не хотите – ступайте с миром. Вы свободные люди, как и всякий, кто ступил под наши знамена.
Щепилло нашел Сухинова и тому нажаловался. Сухинов как раз урезонивал какого-то унтера с тремя солдатами, вознамерившимися свежевать ворованного поросенка. Велел унтеру собственноручно вернуть поросенка хозяевам, сказав ему мирно напоследок:
– Вторично тебя, братец, поймаю – убью! Возьму лишний грех на душу, ты уж не обессудь.
Приятеля Сухинов выслушал с сочувствием, но осуждать действий Муравьева не стал.
– Сергею Ивановичу виднее. А с Козловым мы после посчитаемся… Ты погляди лучше, Миша, как нас крестьяне встретили, лапотники эти. Как родных ведь встретили. Ни в чем отказа нет. Значит, есть у них понимание!
У Муравьева вечером собрались почти все офицеры, было много еды, закусок разных, солений, в основном из запасов местного помещика. Тот угощал щедро, и было похоже, что сочувствует.
Ели как-то вяло. Общий разговор не получался, офицеры были скучны. Может быть, сказалось напряжение последних дней. Сергей Иванович, чтобы поднять настроение, шутил, рассказал какую-то забавную, постороннюю историю и вообще выглядел так благодушно, будто назавтра им предстоял не великий поход, а веселый пикник с шампанским и цыганами. Впрочем, назавтра и впрямь особых событий не предвиделось, Муравьев уже объявил, что назначает дневку для отдыха. Матвей Муравьев в отличие от брата был насуплен и молчалив, почти ничего не ел. Время от времени он слепо подносил вилку ко рту и надолго застывал с неразжеванным куском, словно прислушивался к чему-то такому, что другие по молодости и легкомыслию не могли услышать. Сухинов уговаривал Соловьева поднять на восстание крестьян и был неестественно весел:





