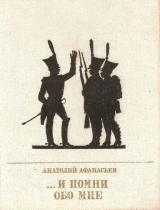
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Сухинов задумался на мгновение, отрешился от идущей минуты, далеко заглянул, будто в будущее, где темно было и кровью пахло.
– А почему я должен не пропасть? – спросил тихо. – Чем я лучше наших товарищей, уже пропавших? И ты чем лучше? Почему – им одно, а нам другое? Такой дележ не по мне.
– Тобой месть руководит, не идея… Но хватит об этом. Все слова бесполезны. У тебя такая натура, Иван, что все слова бесполезны… А может, так только и можно победить, не знаю.
Потом они пили чай и вспоминали вольные, счастливые дни, полные удивительных предчувствий.
Голиков на свидание с Сухиновым привел Ваську Бочарова. До того они с Васькой не раз обсудили, что это за чудной «государев преступник» и чего ему от них надобно? Тут было над чем поломать голову смышленому Бочарову. Вначале он предположил, что Сухина попросту фискал, шпик. За это предположение Голиков сразу пообещал свернуть дружку шею.
– Может, и я, по-твоему, фискал? – слишком вежливо поинтересовался Голиков.
– Не-е, ты, Паша, не фискал, ты придурочный. Ты мне лучше объясни, за какие дела он тебе угощение поставил. Или за красоту твою писаную?
Голиков мало думал о своем первом разговоре с Сухиновым. Он не умел думать. Он проникся к поручику доверием, ощутил его власть над собой, а этого с ним тыщу лет не бывало. Но объяснить свои чувства он, если бы и взялся, вряд ли сумел. В его дремотном воображении после встречи с Сухиновым закопошились слабые ростки смутных надежд. Каких? На что? Бог весть.
После дотошных расспросов Бочаров все же пришел к выводу, что Сухина не фискал и не шпик.
– Он, скорее всего, блажной, – определил Бочаров. – Я таких встречал. Это хорошие люди, особливо ежели у них есть деньжата. Они, блажные, с денежками легко расстаются, без горя. Ты ему обещай что ни попадя, чего он захочет, хоть луну с неба, а уж он тебе за обещание все отдаст, рубаху с себя сдерет. Мы его, Пашенька, обязательно должны раздеть и разуть. Это для блажного первое удовольствие, чтобы его раздели и разули. И надобно, Пашенька, поспешить, потому не мы, так другие его враз обкрутят.
Голиков усмехнулся. Вспомнил черные молнии глаз Сухины, подумал злорадно: «Посмотрю я, как ты его разденешь. То-то будет забава».
На встречу Сухинов принес неизменный штоф и пяток печеных картох. Бочаров сделал вид, что к угощению равнодушен, малость пригляделся к Сухинову, ощупал его своими щучьими глазами и вдруг быстро заговорил, завсхлипывал на малопонятном языке, каким он умел охмурять каторжных:
– Эвона, барин, какие удальства теперь наши! Ты к нам душой, а мы рази отвернемся. Окромя бога, нету власти над иродами, а он в нашу темь не заглядает, потому и свербим по шесткам, кровушкой умываемся, потом утираемся. Одна надежа, придет человек, принесет рушник вышитый, накинет на шею, притрет к ушам. Потечет по краям сукровица, а стержень наружу выйдет, твердый и острый. Ты нас, барин, только пойми добром, тогда и любое дело по твоему хотению сварганим, и еще на чужой роток останется чуток!
– Ты что, с утра причастился, купец? – спросил в удивлении Сухинов.
– Откуда знаешь, что я из купцов происхожу?
– А ты скрываешь?
Бочаров хмыкнул, сунул в рот картофелину с кожурой, задумчиво жевал. Что-то ему стало не по себе. Много он повидал на своем веку, по жизни плавал, как угорь, а вот сейчас что-то стушевался. Предпочел еще приглядеться. Они стояли на полянке, в березнячке, уже тронутом понизу влажной подпалиной весеннего пробуждения.
Бочаров Сухинову не понравился. Слащавая, жестокая хитрость из узких, заплывших глаз прет, как тесто. И движения мягкие, кошачьи. Таких людей Сухинов всегда сторонился да и встречал их редко. От Бочарова, точно от попа, за версту тянуло елеем и обманом. «Ну и что? – в сотый раз подумал Сухинов. – Выбирать не приходится».
– Купцы, они понятно, навроде второго сорта считаются люди, – выпив и закусив, заговорил Бочаров уже без витийства. – Думают, будто они все поголовно обманщики и богачи. А вот мой батя, царство ему небесное, за всю жисть на чужую копейку не позарился. За то и нужду терпел, и обиды от людей. Нынче честность не в почете.
– Ты, значит, не в отца удался? – заметил Голиков, находившийся в добром расположении духа. Бочаров на его замечание никак не отозвался.
– Купец, если разобраться, первая опора государству, потому от него в казну чистая прибыль идет. И в чужих странах он связи имеет. Снова выгода.
– Я купцов чту, – ответил Сухинов. – Как-то в позапрошлом году у одного в долг взял, так он меня потом чуть под суд не подвел. Поневоле зауважаешь.
Бочаров меленько захихикал.
– Рот не разевай, а как же!
– Чего ж ты-то в купцах не остался, сюда прибыл?
– У меня нрав не купецкий. Строгости и порядка во мне нету. Я вольную волю люблю, чтобы земля под ногами ходуном ходила. И-эх! Бывало, закутишь, закрутишь – только червонцы отстегиваешь да сотенные. Сколь я деньжищ на дым пустил, вспомнить жуть. И не жалею. Я хоть пожил… Самые лакомые куски мои были, самые сладкие девки постель грели. А вот ему, Пашке, чего вспомнить? Как в карауле стоял да за офицериками блевотину вылизывал?
– Не доживешь ты, Стручок, до окончания срока, – благодушно молвил Голиков. – Так или иначе, а не доживешь. Очень у тебя язык поганый.
Сухинов еще налил дружкам по стопочке. Подождал, пока они похрустели картохами. Угостил и табачком.
– Говоришь, волю любишь? Должно, тяжело тебе здесь находиться?
Бочаров впервые остро глянул в глаза Сухинов у, поискал там чего-то для себя.
– Верно, тяжело. Надо терпеть. Куда денешься…
– Некоторые деваются.
– Из некоторых мыло варют.
Голиков сказал:
– У тебя, Сухина, если есть чего предложить, предлагай смело. Васька, конечно, сволочь, но продавать не побежит. Смысла ему нету. А во мне, Сухина, столько злобы накипело, что, если ее не выплесну, – все одно сгину. Задушит меня злоба. Я вот иду, а навстречу надзиратель. Так я чего делаю. Я отворочусь и молитву шепчу, чтобы его не видеть. Потому во мне каждая жилка требует: раздави гаденыша. Подойди, Паша, раздави змея. Ты мне, Сухина, приглянулся, и я тебе верю. Потому об этом говорю. Я бы за тобой пошел. Сам я сослепу только дров наломаю без пользы.
Бочаров разволновался от неожиданного поворота разговора, крякнул, с горечью поглядел на пустой штоф.
– Я ведь не купец, – сказал Сухинов Голикову. – Мне одному воля без нужды. Ты посмотри, Павел, сколь людей вокруг страдает. И сколь среди них невинных. Значит, как – себе добыть волю, а их оставить? Это по-божески разве будет?
– Вона! – неожиданно разозлился Бочаров. – Люди! Где они? Одному воля нужна, как хлеб, а другому – в норе жить самая радость. И бога ты зря помянул, барин! Бог и сам одних для простора предназначает, а других для нор. Так испокон веку было. Не нам, грешным, менять… Ты вот пробовал в это божье предначертание своей дланью вмешаться – что вышло? А?!
– И кто же будет решать – кому в норе, а кому на воле? Уж не ты ли, Бочаров?
– Он, он, – подтвердил Голиков. – Он и за бога и за дьявола может управиться. Но скоро я его урезоню.
– Пустая брехня! – крикнул Бочаров вне себя. Видно, задело его за живое. – Язык почесать каждый здоров. Ты, барин, об людях такой заботливый, тогда купи еще штоф. Нажраться хочу! От вашего пустозвонства в глотке пересохло.
– На! – сказал Сухинов, протягивая деньги. Бочаров скоренько побежал в питейный дом. Двое остались на полянке, курили, мерзли, молчали. Сухинов думал, как это удивительно выходит, что благородный Соловьев и хитрющий каторжник рассуждают почти одинаково. Не люди вокруг – и все тут. Навоз для удобрения сибирской земли. Это что же такое? Почему? На какой дикой мысли сошлись обе стороны? Но если они правы, тогда и царь прав во всем. Он добросовестно выполняет свою миссию и следит за тем, чтобы людишки, ему подвластные, были строго рассортированы. Те же, кто мешает ему заниматься столь необходимым делом и вносит неразбериху, – те, разумеется, преступники. Вот и с царем Бочаров нашел бы общий язык, сведи их невероятные обстоятельства для беседы. «Ну что, Васька, – спросил бы царь, – ты согласен со мной, что есть подлый род и есть род благородный?» «А как же! – обрадовался бы Бочаров. – Купцы и дворяне – это одно, а крестьяне и разные солдатики – совсем другое».
Сухинов загрустил.
– Скажи, Голиков, что ты обо всем этом думаешь? Действительно, надо чтобы каждый за себя болел, свое брюхо спасал?
– Ничего не думаю, Сухина! Я когда в солдатах был, надумался. До сих пор в груди жжет… Меня люди боятся, правильно делают. Я и сам себе ныне страшен. Не всегда так было. Я в фельдфебелях ходил, никого не задевал. Старался по справедливости обходиться, о солдатах заботу имел. И что? Нету, видать, справедливости на белом свете, вся она за казну откуплена богатенькими. Мужику-трудяге защиты нету. Может, и верно каркает Стручок. Только мне, когда его карканье слышу, так и хочется ему мосол в глотку вогнать, чтобы он подавился, тварь поганая!
– Это правда, что ты недавно в руднике человека убил ни за что?
Голиков поднял бровь, глаз у него один раскрылся до невыносимой голубизны. В глазу было предостережение Сухинову. Но не угроза.
– Убил. Правда. И второй бы раз убил. Давно случая ждал расплющить этого таракана. Вот он мне и попался под горячую руку. Он у своих последние крохи крал. И в контору зачастил. Нет, я его не так убил, как ты говоришь. Я его предупредил, сказал ему: «Еще раз в контору нырнешь – кишки на палец намотаю!» Он не поверил, побежал доносить. Сам виноват.
– Жесток ты чрезвычайно, Паша. Придет время, совесть тебя заест. Исковеркали тебя, и ты поддался. Но совесть в тебе жива, я вижу.
– Сухина, Сухина, не простой ты человек и знаешь много. Но сердце у тебя детское, доверчивое. Настоящего зла ты не видел. Ты, если чего надо, мне говори, Ваське не говори. Я все тебе сделаю и во всем пособлю.
– Ружьишко можешь достать? – Сухинов заранее решил про ружье спросить – первый шар в лузу. Голиков не удивился ничуть.
– Почему не достать. За вознаграждение все достать можно.
– Сколько надо?
– Давай пока три рубля. – Сухинов отдал деньги, и только Голиков успел их спрятать, из-за деревьев неслышно возник Бочаров. То ли он нарочно крался, то ли шаг у него такой был, легкий, рысий. Бочаров принес штоф, в котором трети не хватало. Стал их звать в питейный дом. Будто там весело, а тут холодно. Ему на месте не стоялось, он неловкость чувствовал. И не зря.
– Ты как же это, гад, посмел полбутылки ошарашить? – подступил к нему Голиков, даже и без особого раздражения, а словно не умея до конца поверить в случившееся несчастье.
– Святой крест! – торжественно сказал Бочаров, отступая к березам. – Проверь и пойми! Встретил тезку своего, Ваську Михайлова. Стоит он, забубенная душа, и, как тростинку, его качает. Умолил. Дай мне, говорит, Вася, глоток глотнуть, а то помру немедля. Я его пожалел. Прежде бы не пожалел, а тут вот барина наслухался, что, мол, все люди братья, – и налил. Такая во мне вдруг жалость образовалась в грудях, чуть исподнее с себя не снял.
– Врешь! Сам выжрал.
– Пойдем в кабак, проверишь. Он там.
Голиков все приближался к Ваське, а тот шустро отступал, они отдалились от пораженного Сухинова шагов на десять, он уже и слышал их плохо.
– Эй! – гаркнул он командирским голосом. – Кончай дурить! Слышь, кому говорю!
Голиков вернулся со штофом. Бочаров маячил меж деревьев серым пятном. Шумел оттуда капризно:
– Поди проверь! Ежели все люди – то почему не налить. Правильно, барин? Объясни ему.
– Если хочешь со мной быть, брось разбойничать! – сказал Сухинов, негодуя.
– Я к тебе в слуги пока не нанимался! – взъярился Голиков. Не мог он быстро остыть.
– Я тебя, Паша, не в слуги зову, в товарищи!
Голиков запрокинул голову и вылил себе в рот все, что было в штофе. Потом размахнулся и швырнул бутыль в Бочарова. Если бы попал лоб – конец Стручку. Промахнулся. Утер рот, сказал дружелюбно:
– За то, что в товарищи кличешь, – благодарю! До самого края за тобой пойду. Верь мне!
– Верю! – Сухинов протянул каторжнику руку, тот не сразу ее принял. Его лапа была в три раза больше сухиновской, но пожатие было бережное, ласковое.
Через несколько дней он принес ружье. Прямо среди бела дня. Нес на плече, завернутое в тряпье, как палку. Это было воскресенье, Соловьев и Мозалевский были дома.
Голиков постучал, вошел, деликатно поздоровался. Ружье поставил в угол, показал глазами Сухинову.
– А что, господа хорошие, не прибрать ли мне у вас за ради праздничка? Полы-то у вас больно засалились.
– Прибери, голубчик, прибери, – отозвался Соловьев. – На водку получишь.
Голиков прибирал, мыл, скреб с удовольствием, с прибаутками. Наслушавшись этих прибауток, Мозалевский и Соловьев отправились прогуляться. Сухинова с собой не позвали. Они видели, что приход дюжего каторжника не случаен, и конечно заметили продолговатый сверток в углу.
– Ты что, Павел, ошалел совсем?! – накинулся Сухинов. – А если бы тебя задержали с ружьем?
– Кто меня задержит? Некому меня задерживать. Я иду – никого не трогаю.
Глаза его шало искрились. Раз от разу он менялся, становился бодрее, разговорчивее. Как будто в себя приходил после долгой зимней спячки. Сухинов наблюдал, как он ловко, играючи, управляется с уборкой, и не захотел дальше ругаться. Он заметил вдруг, что Голиков обут в какое-то рваное подобие не то валенок, не то калош. Должно быть, всю зиму ходил с мокрыми ногами. Он спрятал ружье в чулан, оттуда принес свои старые сапоги.
– Ha-ко примерь, Паша!
Голиков сел на пол, взялся натягивать сапоги. Сразу было видно, что они ему не полезут, но расстаться с обновой он не решался. С силой потянул за голенища, кожа затрещала.
– Вроде в самый раз, а? Еще разносятся.
– Будет тебе, – улыбнулся Сухинов. – На денег, новые купить.
– Ну, Сухина, вот уважил, так уважил! Ей-богу, хожу – ног не чую. До того иззябся.
– Нынче же купи, не пропей.
Голиков с неохотой вернул сапоги, а деньги сунул куда-то под рубаху.
– Слышь, Сухина, нас с тобой Васька Михайлов в лесу ждет.
– А чего ему надо?
Голиков искренне удивился, точно они с Сухиновым все заранее обговорили, и вот вдруг накладка.
– Как то есть – чего? Он для нашего дела необходимый человек. Это тебе не Стручок. Михайлов – мужик справный, бывший гвардии фельдфебель. Нас с ним, может, на всю каторгу двое. Не-е, без Васьки обойтись и думать нечего. Я уж ему и намек дал.
– Ты, Паша, какое наше дело имеешь в виду?
Еще пуще растерялся Голиков, тряпку бросил, стоял, растопырив лапы, посреди избы в раздумье.
– Ты чего, Сухина, али передумал?
– Да о чем ты, Паша, о чем?
– Как – о чем? Шваль, значит, всю под ноготь, и кагалом в тайгу подаваться, на волю! Разве я чего недопонял?
Сухинову и смеяться впору, да в груди что-то заклинило.
– Да когда же я тебе про это говорил?
– Зачем говорить, и так все ясно. Обо всем говорить – слов не напасешься.
– И с кем ты собираешься подыматься?
– С кем укажешь. Я тебе народец представлю, а уж ты выбирай. Тебе виднее.
Васька Михайлов ждал их не в лесу, а на задах у избы ссыльного Игнатия Борисова, дружка своего. Михайлова издали хорошо видно – как пугало посреди огорода. На голове шапка заячья, куртка из парусины, шея тряпкой обмотана.
– Чего он там стоит-то, в огороде?
– У него и спроси.
Подошли, поздоровались, Михайлов первый руку протянул. До того он был похож обличьем, и повадкой, и строгостью лица на Михея Шутова, что оторопь брала. Видно, у природы не хватает терпения людей по разному калибру вытесывать, нет-нет да и повторит с устатку свои творения. Это Сухинов и раньше подмечал. Необычная похожесть незнакомого человека на Шутова сразу вызвала симпатию к нему.
– Вот, – сказал Голиков, – это и есть Сухина!
Михайлов уставился на поручика тяжелым, испытывающим взглядом.
– Что, гожусь? – усмехнулся Сухинов.
– Вроде ничего, – не смутился Михайлов. В нем, как и в Голикове, не было и тени угодливости. И глаза его не прятались, не юлили. И голос был звучный.
– Чего ты здесь обосновался, Василий Михайлов, у всего мира на виду? – поинтересовался Сухинов.
– От судьбы все одно не схоронишься, – ответил бывший фельдфебель. В тоне, каким это было сказано, прозвучало глубокое, выстраданное равнодушие и презрение ко всему. Таким тоном безоглядного спокойствия говорят обыкновенно люди, которые перешагнули предел житейских упований, и больше им ничего не дорого. Это Сухинова насторожило. Опустошенный жизнью человек легко смерть принимает, но в бой идет без азарта.
Голиков, которому деньги на сапоги жгли карман, вскоре их покинул.
– Могучий мужик, а кончит обязательно в петле, – небрежно заметил Михайлов.
– Почему?
– Остервенился шибко. А на кого – сам не знает.
– Жизнь его по головке не гладила.
Михайлов взглянул с упреком, заметил:
– Жизнь злых озлобляет, а кто бога помнит, того не озлобишь.
Они пошли по дороге за рудник, к роще. Сухинов, по обычаю, выспрашивал, стараясь понять как можно больше о новом знакомце. Михайлов отвечал на вопросы без хитростей, и речь его была на удивление гладкой, немужичьей. В нем не было неистового запала Голикова, но явственно ощущалась неколебимая твердость труженика. По прежней службе Сухинов знал, что такие солдаты самые надежные. Живут как дышат, чисто, честно, без суеты. Единственное, о чем Михайлов не захотел рассказать – за что угодил на каторгу.
Так он Сухинову приглянулся, так был весь на виду, открыт и удару и дружескому слову, что он решил не тянуть, скоро завел речь о главном.
– Предприятие, которое я затеваю, опасно и гибельно, может быть. Готов ли ты, Михайлов, в нем участвовать?
Фельдфебель посопел, но ответил без запинки:
– Мне еще шесть лет осталось. Навряд я их проживу. Пойду с тобой, Сухина! Затем и встречи искал.
Сладко ныло в груди Сухинова. С каждым часом он приближался к дели. Как надеялся, так и вышло. Люди подбирались решительные, сильные. Он объяснил Михайлову весь свой план без утайки. Тот, казалось, слушал не очень внимательно, или не все понимал.
– Ты согласен с тем, что я предлагаю?
– Чего там, Сухина. У меня руки на злодеев чешутся, мочи нет терпеть. Сколь же можно над нашим братом безнаказно измываться?! Да ты мне скажи: давай, Васька, в огонь кинемся и сгорим, чтобы им насолить. Я кинусь… У меня дома семья – женка и детишек трое. Старшому шестнадцать годков ныне. Мне бы вроде укрепиться надо и терпеть, чтобы к ним воротиться, хотя бы повидать разок. А я не могу, Сухина! Ждать боле не могу. Не появись ты, я бы к лету тайгой ушел. Видать, иссякло терпение. Его ведь, как и жизни, человеку не без края отпущено. Сколь есть его, столько стерпишь. Но не боле… Хочу спросить у тебя, ты сам из каких будешь? По всему, должно, из бар. А обхождение у тебя простое, и душа, вижу, за общество болит.
– Всякие есть и дворяне и мужики.
– Это да, – сказал Михайлов. – Это как водится. Ты все же теперь поберегись, послушай моего совета. Никому особо сердце не распахивай. Мы с Пашкой сами кого надо обратаем. Потому такое дело без головы не делается. Возьмут тебя допреж времени – всему точка.
– Ладно, – согласился Иван Иванович. – Только времени этого мало. Весна на пороге.
– Поторопимся, отчего же.
Возвращаясь, они встретили счастливого Голикова. Тот шагал враскорячку, каждый раз ставя ногу так, чтобы самому получше видно было сапог. Успел справить обновку. Рядом с ним прискакивал ушастый пьяненький мужичонка, нахваливал на всю улицу:
– Ах, Паша, ну прямо царь, вот те аминь! Это где ж ты спроворил?! Самое тебе ж по чину. Мне дай – не одену. Не по Сеньке шапка. Это же какая обувка, так и пылают, так и пылают!
Голиков млел. Важно приблизился к Сухинову.
– Ну вот и утеплился, благословись. Как в раю теперича. Васька, гляди, черт смурной!
– По моему подсказу, по моему подсказу! – суетился мужичонка.
– Сгинь! – велел ему Голиков. – Ишь, дьявол, угощение за версту чует.
Мужичонка на всякий случай отодвинулся, сделал вид, что обижен понапрасну.
– Вы, барин добрый, меня не помните? Лешка я Козаков. Бы меня винцом как-то оделили, не побрезговали. Голиков зря меня хулит. Не слухайте. Я за него жизнь положу, не дрогну. Как увидал я в лавке энти сапоги, так сердце за Пашу восторгом облилось. Аж я затрепетал.
– Иди в другом месте трепещи.
Теперь Козаков уловил в голосе Голикова отголоски неподдельной угрозы, больше ничего не возразил, побрел в сторону кабака.
– Кто это?
– А-а, – махнул Голиков. – Дрянь-человек. За косушку удавится. Но он нам пригодится. Плевки вылизывать горазд. Пьяный только дурной очень.
– Козаков, может, и пригодится, – сказал Михайлов недовольно, – веревки из него вязать. Ты бы, Паша, поосторожничал когда. Дело нешутейное.
– А ты меня учи, учи.
– Я тебя не учу. Я тебя прошу.
– Попа проси, он тебе грехи отпустит. – На Голикова раздражение быстро накатывало, но быстро с него и сходило. Тем более в новых сапогах он не мог долго злиться.
Сухинов отправился домой, а двое заговорщиков пошли праздновать покупку.
У дома в затишке Сухинов постоял, покурил. Ему не хотелось видеть Соловьева и Мозалевского. Так хрустально, нежно светилось что-то в душе. А дома начнутся попреки, обиженные взгляды. Он любил их обоих, но все дальше отрывался от них, его дорога была иная. Иногда он чудом сдерживался, натыкаясь на их насупленные физиономии. Они готовы ждать помилования до скончания века. Какая перемена! Он вспоминал их во время восстания, задорных, огневых, решительных, готовых на подвиг и самопожертвование. Куда все девалось? Погорели и остыли, как мокрые полешки. Они не трусы, но чересчур вдруг стали рассудительны. Точно столетние старцы. И куда ближе теперь были Сухинову его новые приятели – Голиков, Пятин, Михайлов, совсем необразованные, темные, по мнению барона, но не согнутые в дугу царевой оплеухой. Русские люди. Их меси, коли, топчи, кажется, одно кровавое месиво осталось, ни силы, ни голоса – ан нет! – ошибается насильник, торжествуя окончательную победу. В каждом сжалась в кольцо тугая пружина, готовая в любой момент распрямиться и нанести ответный удар. И в нем, Сухинове, колышется, гудит эта лихая пружина, давит на печень, не дает ни сна, ни покоя.
«Мне царская милость без надобности, – с горечью думал Сухинов. – Мне из его рук подачка отвратна. Всей его подлой жизни не хватит, чтоб со мной расплатиться. А ты, Вениамин, слишком жирным молоком вскормлен. Умом ты честен и прям, и ум твой возмутился однажды несправедливостями и жестокостью, но только ум – не душа, не сердце. А этого мало, чтобы пойти до конца и в смертный час поражения не дрогнуть».
Обидно и стыдно было так думать о своем близком! друге, о соратнике, но иначе Сухинов думать не мог. И он знал, как поступит с друзьями, если удача ему улыбнется. Он их силой поведет с собой в Читу, и там на большом совете они все вместе решат, что предпринять дальше. Может быть, большинство сочтет, что продолжать борьбу нет смысла, что это глупость и верная погибель: тогда он отвернется от них и распрощается с ними без сожаления. Он останется с самыми отчаянными, будь то воры, разбойники или честные люди. Он пообещал ласковым княгиням, что не смирится, и слово свое сдержит.
«Однова помираем, – думал Сухинов, трогая пальцами воспаленные веки, – но и живем однова. Подавятся опричники нашими косточками. Не по их зубам пища».
Намерзшись, он пошел в избу. Там – идиллия. На столе самоварец пыхтит, приобретение Соловьева, братцы родные черными сухариками похрустывают, беседуют, от жара и удовольствия разомлели.
– Голодный, Ваня? Садись! Мы с Сашей пшена с салом наварили, пальчики оближешь. Вкуснее всяких разносолов.
Они за ним ухаживали, как за гостем. Сухинов ел кашу с огня, обжигался, отпыхивался. Подмигнул Мозалевскому.
– Женишься, жену будешь учить стряпать.
– Мы избу приглядели, Иван! Один ссыльный уезжает. Хорошая изба, крепкая, теплая. Огородик имеется. Мы уж задаток отдали. Хочешь, завтра поглядим?
Сухинов чуть кашей не подавился.
Соловьев терпел, терпел, все же не выдержал, завел любимую волынку.
– Что, Иван, опять с разбойниками хороводился? Гляди, пьянствовать не начни.
– Не-ет, – благодушно отозвался Сухинов. – Я к вину равнодушный. Без вина голова кругом идет.
– Отчего так, Ваня?
– Да как же, Вениамин! Избу покупаем, хозяйство, огород. Все заранее обмозговать надо. А ведь без мужиков в этом деле никак не обойтись. Глядишь, мои разбойники и пригодятся.
– Веселишься, Ваня?
Встретились взглядами, и не было в них прежней приязни, Что-то холодное, скудное мерцало в глазах у обоих. Словно обменялись легкими сабельными уколами. Еще не взаправду, играючи, но все же…
– Не распаляйся, барон, – попросил Сухинов. – Устал я, и не до смеха мне вовсе. Не до веселья.
Соловьев не унимался, ворчал:
– Как хочешь, Сухинов, обижайся или нет, а я считаю своим прямым долгом снова и снова напоминать тебе про заведомую обреченность твоей затеи. Я не могу равнодушно наблюдать, как ты беспечно приближаешься к краю пропасти. Ладно, мы тебе не указ, и ты к нашим советам более не прислушиваешься, так пожалей же этих несчастных, которые слепо верят тебе. Ты считаешь их прекрасными, благородными людьми, зачем же тащить их за собой на верную гибель?
– Я не считаю их такими уж прекрасными и благородными. Но если начистоту, то в чем-то они действительно лучше нас.
– В чем же?
– Хотя бы в том, что не пищат от страха.
– Я уже говорил тебе, Сухинов, что ссориться с тобой не намерен, как бы ты ни оскорблял. Не буду ссориться по той простой причине, что ты не в здравом рассудке.
– Так оставь меня в покое, наконец!
– И на это не надейся.
Сухинов резко отодвинул миску с недоеденной кашей, пошел и улегся на кровать, не раздеваясь. У него под горло подкатывала судорога, и он чувствовал, что может сейчас наговорить всякого вздора. Уж это вовсе ни к чему. На кровать к нему подсел Саша Мозалевский.
– Иван Иванович, не сердись на Соловьева. Он хочет тебе добра. Ты бы знал, как он за тебя болеет.
Сухинов повернулся к нему спиной. Саша продолжал бубнить:
– Придет время, и ты оценишь наши усилия. Ах, ну как ты не можешь понять, что всякое сопротивление бессмысленно! Может быть, наши товарищи в Чите предпримут попытку освободиться, тогда мы присоединимся к ним. Но что можем мы втроем?
– Пошел ты к черту, Сашка, – сказал Сухинов, не оборачиваясь. Мозалевский вернулся за стол, и они с бароном о чем-то долго шушукались вполголоса. Потянулась еще одна томительная, бесконечная ночь. Сухинов смотрел в потолок и мечтал о свободе.
3
Весна 1828 года нагрянула внезапно, мокрая, веселая, с протяжными, знобящими ветрами. Зерентуйский поселок расползся по швам, как прохудившееся корыто. Дорог не стало, вместо них ловушки на каждом шагу, присыпанные снежком глубокие ямы с талой водой. Роковая купель для каторжника. Переодеться ему не во что, сушиться тоже негде. Истощенному, полуголодному застудить легкие все равно что с белым светом распрощаться. По весне мор свистел над каторгой. Скорбными тенями отбывали бедолаги в лучший мир, не успев толком ни с кем попрощаться. Да и с кем прощаться?
Закапывали мертвецов без отпевания на вьюжном, унылом погосте. Кому ставили крест, а кому и забывали. По-звериному жили, по-звериному мерли. Но те, кто оставался, кто перемогал слякоть и распутицу и достигал устойчивых, теплых майских дней, преисполнялись надеждой и радостью. Солнышко начинало припекать, деревья и кусты красовались зелеными обновами, земля исторгала крепкие, чарующие ароматы пробуждения. Люди умывали в ручьях изможденные лица и поглядывали друг на друга с робким лукавством, словно путешественники, уцелевшие после кораблекрушения. Впереди долгое лето, уютное, сытное. В тайге мясо бегает, найдется чего поглодать. И на травке полежать, погреть ноющие косточки – томно и желанно. Мало кто в эту пору не мечтает о побеге, о волюшке. Хотя и пустые то мечты, а тешат, будоражат сердце.
Васька Бочаров наладился приходить к Сухинову чуть не каждый вечер. В руднике он, как и Голиков, не слишком надрывался, был на особом положении, к ночи не валился с ног, как иные, от изнеможения, да и харчился посытнее, потому и был охоч до разговоров. Его очень расстроило, что у Голикова новые сапоги. Он это переживал как личную утрату.
– Ты, добрый барин, чересчур доверчив и потому могешь ошибку произвесть. Ты глянь, в каких я штанах хожу. И тут дырка, и там сквозит! Ты Голикову потрафил, а чем он тебя отблагодарил? Он тебе свинцу добыл пульки лить? Ты мне штаны купи, я тебе цельный оружейный завод представлю.
Бочаров не считал Сухинова блаженным, как поначалу, и не надеялся легко выудить у него денежки. Но уж новые штаны он себе твердо предполагал. Мелким бесом стелился. Чего он только не сулил! Послушать, так ему вся Сибирь была подвластна. Он вроде как бы ее тайный губернатор. Сухинов доверял Бочарову с оглядкой.
– Ты Пятина знаешь с Нерчинскою завода?
– Я всех там знаю, – не моргнув, ответил Бочаров.
– Надо к нему сходить, справиться, все ли у них готово. Сможешь?
– Это путь неблизкий. А ежели я в таких штанах ноги обморожу? Да и несолидно мне, как вашему то есть гонцу, в рванье заявляться.
Сухинов пообещал ему купить самые лучшие, какие удастся, голубые шаровары.
Тринадцатого мая, уже по сухому времени, Бочаров пришел на Нерчинский завод. Пятина он действительно знал. И еще были у него тут знакомцы – Ерка Шугай и Христя Мельник, двое отпетых, которых Голиков прошлым летом поколотил. Они оба поклялись, что порешат Голикова при первом удобном случае. Бочаров сперва их разыскал. Мельник и Шугай глядели волками, знали, что Голиков и Стручок – одна сатана. Бочаров рисковал, когда шел к ним. Но он надеялся из этого извлечь выгоду. Он полагался на свое красноречие.
– Вы, братцы, не сомневайтесь, у меня с Пашкой свои теперь счеты. Он, иуда вшивая, мне угрозу сделал. Я к вам с добром пришел, чтобы нам объединиться и вместе с ним, гадой, распорядиться круто.
– Чем докажешь?
– Тем и докажу, что заманю его в условное место, а уж вы, молодцы, не подкачайте.
Молодцы смягчились.
– Мы не подкачаем, – уверенно сказал Мельник, у которого незаживающий багровый шрам, памятка Голикова, рассекал рожу от виска до губы. Дальнейший разговор они вели уже за бутылкой. Ерка Шугай, будучи человеком хотя и настырным, но осторожным, высказал некоторые сомнения.
– Больно здоров этот Голиков. Сладим ли вдвоем?
– Зачем вдвоем, – согласился Бочаров. – Захватите еще человечков трех. Мало ли кто на Пашку зуб точит… Двоих-то вас он, конечно, за милую душу отхлещет. Двоим и заводиться нечего.
Доверительный разговор Бочаров ловко повернул в нужное русло.
– Вы мне, братцы, деньжат ссудите, я-то обнищал вконец. На те деньги я его сперва напою до умоисступления и в таком виде вам представлю.





