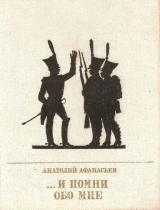
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
Так сложно прикидывал генерал Лепарский, но – удивительно! – какая-то часть его существа, сохранившаяся в нем еще с юных, прекрасных лет, словно насмешливо наблюдала за ним со стороны, и он слышал в себе странно звучавшие слова: «Милый мой, погляди, в кого ты превратился к своим преклонным годам! В палача? В лютого душителя? Погляди, как ты жестоко унижен и оскорблен!»
О, не впервые этот чуткий голос пробуждался в нем в самый неподходящий момент и ввергал его в ад. И тут ему стало плохо. У него случился сердечный приступ. Полночи его отхаживали грелками и подогретым красным вином. Знать тайны монаршего сердца ему, разумеется, не было дано, поэтому он оставил все, как по наитию накатило, – Сухинова под пулю и с ним еще пятерых, остальных сечь кнутом до живого мяса.
Иван Сухинов об изменении приговора не знал.
Он с трудом дождался ночи, больше не пытаясь уснуть. Ум его был светел и бодр. Мышцы налились прежней силой. Время двигалось медленно. Пока перестали грохотать шаги за дверьми, пока угомонились заключенные в соседней камере – прошла целая вечность. Сухинов волочил ноги по камере, укладывался лежать, снова вскакивал. Печально он подумал, что не осталось на земле места, где могли бы его ждать. Отец? Братья? Кроме лишнего горя в их и без того несладкую жизнь, он ничего не принес. Товарищи? Может, они и вспоминали о нем, но, скорее всего, с осуждением. И их он чуть не вовлек в пучину погибели. Женщины? Они и раньше мелькали в его воспоминаниях безликими тенями. Он тянулся к ним руками, но не умом, да, пожалуй, и не сердцем. Он все имена теперь забыл. Даже ту, самую желанную, последнюю – забыл, как звали. Не продлив свой род, кому он нужен. А кто нужен ему? Этот вопрос нашел какой-то тусклый отклик в его нахмуренной душе. «Никто мне не нужен, – даже удивился Сухинов. – Никого не хочу видеть. Может быть, потом, там… Если есть это там?»
Что, пора? Он повернулся на бок, сел. Достал бумажку с мышьяком. Аккуратно отсыпал на ладонь. Порошок не имел веса, и в темноте он еле различал беловатую кучку. Примерно одна треть того, что у него имелось. «Не просыпать бы», – подумал. Запрокинул голову и бережно слизнул с ладони яд. С усилием стал глотать. Рот одеревенел и наполнился противной липкой слизью. Торопясь, он потянулся за кружкой. Запил – и ужаснулся. Воды в кружке оставалось на донышке. Без воды остальное не проглотить. Вырвет. Звать часового ночью – бесполезно.
Наверное, и этого хватит, решил Сухинов. Завернул пакетик в тряпицу и спрятал под рубаху. Потом лег и стал ждать. С любопытством прислушивался к себе. Он знал, что яд подействует не сразу, и умирать предстоит долго, может быть, несколько часов. «Поспеть бы до утра, – подумал Сухинов. – Чтобы не видеть напоследок вокруг эти мерзкие рожи!»
Неожиданно его сморило. Он уснул крепко и без сновидений, как человек, выполнивший трудную и важную работу. Над его огрузневшей головой витали тихие ангелы сна. Так бы и не просыпаться ему более. Так бы и уйти без страданий в иные миры, где надеялся повидать он Сергея Ивановича и прочих и перекинуться с ними словцом.
Он очнулся от болезненной судороги, перехватившей грудь, поднявшей его с лежака. Чудовищным усилием дотянулся до темного дальнего угла, там его выворотило наизнанку. Слишком крепок был еще его организм, чтобы безропотно принять отраву и покориться ей. Дрожащий, мокрый от холодного пота лежал он, дыша глубоко и трудно. Думал лишь о том, чтобы случайно не вскрикнуть, не привлечь внимания часовых. Три раза его выворачивало, после стало легче. Он надеялся, что это конец. Нащупал пульс, сердце почти не билось. Дыхание сделалось поверхностным, сиплым. «Слава богу! – думал Сухинов. – Слава богу!» Он радовался, что обманул палачей, сумел от них так ловко вырваться. Редкие и несильные спазмы пробегали по телу. Он им радовался, как предвестникам скорого избавления. К утру опять задремал ненадолго, а проснувшись, почувствовал себя значительно лучше. Нигде ничего не болело, только ознобная слабость не давала поднять руки. Шевелиться было и то лень.
Дикая злоба им овладела. Он сжал зубы и зарычал. Низко над полом стелился глухой утробный звук, хлюпающий и зыбкий. Но тут он вспомнил, что порошка еще много.
– Ладно! – сказал он вслух. – Это всего лишь небольшой привал перед дальней дорогой.
Утром ему принесли воды и хлеба.
– Ты чего такой вроде синий весь? – поинтересовался стражник. – Занемог, что ли?
– Побудь на моем месте, – ответил Сухинов. – А я на тебя погляжу.
– Не надо было бунтовать.
– Кабы ты раньше упредил.
Стражник уловил легкий запах чеснока, но решил, что ему померещилось. Откуда здесь быть чесноку? Его по всей каторге днем с огнем не сыщешь.
Теперь Сухинов был осторожнее. Он придумал такую штуку. Выковырял из хлеба мякиш, размял со слюной, раскатал на тоненькие пластиночки. Порошок заворачивал в хлебные шарики и глотал эти пирожки один за другим, почти не тратя воду. Уж потом, употребив весь яд, сверх всего досыта напился.
Кинжальные, секущие боли начались через несколько часов, ближе к вечеру. Чтобы не стонать, он кусал одеяло, мычал, загоняя звук вовнутрь, в череп. Приступы рвоты сменялись продолжительными конвульсиями, после которых тело становилось твердым, как полено. Он корчился, громоздился на полу, ранил себя оковами, извозился в зеленой блевоте – весь не человек уже, а сгусток кошмара. Никаких мыслей в нем не осталось, и лишь в короткие минуты затишья он успевал с облегчением подумать, что это уж точно – конец, аминь!
Однажды сознание его померкло на секунду, и он завопил, но тут же очнулся, успев услышать свой крик, ухватив его за гудящий хвост, и не поверил, что так может кричать человек. «Это мне померещилось! – подумал Сухинов. – Это не я выл. А я тихо и спокойно помираю, никого не тревожа». Засов с той стороны двери ржаво лязгнул, и в камеру вошли двое охранников. Лиц он не видел, два белых круглых зева устремились на него.
– Ты чего, барин, спятил? Чего людей пугаешь?
Он ответил по возможности твердо:
– Принесли бы водицы, братцы! Жар у меня. К утру, надо думать, отлежусь.
– Ну гляди, не озоруй!
Воды ему принесли, и он прильнул к кружке, с наслаждением цедя влажный холодок. Теперь он различил одно лицо, похожее на куст, знакомое лицо.
– Слушай, а ты не Давыдов из пятой роты?
Гогот. Но в глазах знакомого человека сочувствие.
– Спи давай, Сухинов! Во сне полегчает.
– Ага, Давыдов, хорошо, братец. Если я кричать буду, ты ко мне не ходи, не трудись. Я во сне часто кричу. Принеси еще водички и ступай.
Он опять остался один в камере. Слабость была такая, что впору истаять, расползтись по лежаку каждой мясинкой отдельно. Но какой-то срок ничего не болело. Он вслушивался в себя, как путник, заблудившись, прислушивается к чужому, опасному лесу. Нет, вроде ничего. Что это значит? Одна рука его покоилась на груди, он сдвинул се, повел вниз к животу – о-о-о! Кожа живота запылала под пальцами, словно ее подожгли. Заново все началось. Сухинов терпел. Дьяволы разрывали кишки на части, пожирали внутренности, смрадно сопели, добираясь к горлу. Их было много. Он терпел. Но вот самый шустрый и поспешный дьяволенок дотянулся когтистой лапкой до сердца, сдавил его в мохнатом кулачке. Дыхание остановилось, и Сухинов наконец канул в бездонный колодец небытия.
Надолго, но не навсегда. Среди ночи тот надзиратель, которого он принял за Давыдова, наведался к нему в камеру, влекомый не то состраданием, не то любопытством. Он нашел Сухинова лежащим на полу в неестественно изогнутой позе, с неподвижно вытаращенными, открытыми глазами. Стражник поднял тревогу. Сбегали за лекарем, подняли его с постели. Лекарь, чудной старикашка, был сведущ в своем ремесле, но вслух твердил всегда одно: «Природа свое возьмет!» Это был его медицинский постулат, не такой уж легковесный, если вдуматься. Сухинова этот лекарь с помощью двух солдат с таким усердием промывал и накачивал водой, что тот быстро пришел в себя. Первое, что он сделал, – попытался отпихнуть лекаря.
– Это вы зря, – сказал он старику. – Какое ваше дело.
– Именно! – восхитился неизвестно чему старик. – Мое дело десятое. А торжествует природа. С вашим организмом, батенька, надо отраву ведрами лакать.
Сухинов устало закрыл глаза. Его перенесли в тюремный лазарет и бросили на койку. Два дня он плавал во мраке. От пищи отказывался, но воду пил.
Проснувшись как-то утром, он ощутил себя почти здоровым, хотя двигаться самостоятельно не мог. Стоило повернуть слегка голову, и перед ним вспыхивали голубоватые звезды. Но и это скоро прошло.
Сухинов не впал в отчаяние. Он и в прежней, свободной жизни не единожды терпел поражения, бывал повержен, сгибался и кряхтел, но не ломался. Его упорство было столь же неукротимым, как движение планет. Он-то сам знал об этом, а никто другой не знал. И в этом было его преимущество.
Он всегда отвечал ударом на удар, но ни разу не истощил себя до дна. Сухинов был рожден воином – вот что.
Днем к нему в палату пришел незнакомый офицер средних лет с чистым, безусым, холеным лицом. Назвался капитаном таким-то. Сухинов не разобрал. Офицер уселся на табурет и начал разглядывать узника, как в музее разглядывают диковины.
– Я к вам по личному поручению генерала Лепарского! – сказал капитан с такой гордостью, словно был послан непосредственно всевышним.
Сухинов скривил лицо и пошевелил губами, как перед плевком.
– Возможно, генерал сочтет нужным побеседовать с вами.
Сухинов сплюнул на стену. Капитан отодвинулся подальше. Все ужасное, что он слышал об этом человеке, сейчас подтверждалось вполне. Капитан предвкушал, какой успех будет иметь его рассказ об этом визите в высшем обществе, в Чите.
– У вас есть жалобы? Я передам.
Сухинов наклонил голову и сделал вид, что к чему-то прислушивается.
– Бум-бум-бум! Та-та-та-та! – пробормотал он скороговоркой.
– Что такое?
– A-а? Понятно!
– Да что случилось, поручик?
– Ничего, капитан, ничего. Ей-богу, не беспокойтесь. Я услышал знакомые звуки и не сразу понял, откуда они. У вас же вместо головы барабан напялен. А я сразу не догадался. Бум-бум-бум!
– Ну, знаете! – капитан не оскорбился, потому что счел это ниже своего достоинства. – На вашем месте мне было бы не до шуток. Вы знаете, какая участь вас ожидает?
– Подите прочь, болван! И передайте генералу, что я… – Сухинов смачно, по-гусарски выругался.
Не прошло и часу, как в палате появился ухмыляющийся, багроволицый унтер и с ним двое солдат.
– Ну вот, Сухинов, отдохнули, пора и честь знать. Переводим вас в общую камеру. К разбойничкам, извините! Вторично ваш номер не пройдет. Ха-ха-ха!
От унтера несло перегаром. Он был на удивление здоров и весел. Двое солдат тащили Сухинова под руки, у него не было сил идти самому.
– Не жмут оковки-то? – острил унтер и по-лошадиному роготал. – Вы с ним поаккуратнее, ребятки, это персона важная. Самоубивец!
Сухинов улыбнулся ему светло и празднично. Сказал:
– Завидую твоей матери, парень. Такой дурак один, может, на мильон уродится!
Служивый глотнул воздух, будто поперхнулся, побагровел еще пуще. Долго молчал, переваривая эти слова. Уже в камере, когда Сухинова завалили на нары, он буркнул:
– Ничего, скоро тебе язычок-то подкоротят!
В общей камере Сухинов освоился быстро. Заключенные встретили его с уважением и уступили удобное место возле печки. Он пожалел, что не видит среди них ни Голикова, ни Бочарова, ни Михайлова. Он хотел бы о ними по-хорошему попрощаться.
Генерал Лепарский и впрямь собирался навестить Сухинова, но как-то не нашел времени. Предстоящая казнь очень его беспокоила, даже пугала. Все требовалось произвести в наилучшем виде, а опыта подобного рода у него не было. То есть кое-какой опыт, конечно, имелся, но скорее распорядительский, чем исполнительский. Тут дело было настолько важное и необычное, что приходилось лично вникать во все подробности. Лепарский не скупился на выговоры и посулы, но помощники попались безалаберные, никто толком не понимал, чего он от них добивается. Чего мудрит. Эка невидаль – пристрелить шестерых да столько-то посечь. На каторге-то! Однако подобное легкомысленное отношение к казни не устраивало генерала. Он стремился к какому-то волнующему и таинственному идеалу. Обряд отправления возмутителей спокойствия на тот свет следовало выполнить с российской помпезностью, но одновременно с немецкой педантичностью и аккуратностью.
Но даже в эти суматошные дни, когда внимание генерала, казалось, полностью поглотили неотложные хлопоты, вдруг снова слышал он в себе странный голос живущего в нем стороннего наблюдателя и судьи. Он слышал дикие слова: «Не хитри, генерал, сам с собой! – скрипуче насмехался голос. – Ты потому так торопишься и так стараешься, что тебе жалко этого злосчастного Сухинова, и ты хочешь поскорее убить его, чтобы избавить от страданий еще более тяжелых, унизительных и долгих».
«Поди прочь!» – обрывал он невидимого собеседника и оглядывался по сторонам: не мог ли кто-нибудь подслушать эту фантастическую беседу.
Он составил подробнейшую записку, в которой определил не только количество исполнителей и место каждого во время экзекуции, но даже длину деревянного столба, к коему будут притянуты обреченные. Войдя во вкус зловещих приготовлений, Лепарский набросал чертеж, где все было наглядно обозначено. Чертеж был полностью понятен ему одному. Подчиненные, кому он его показывал, выпучивали глаза и теряли дар речи. С горечью размышлял Лепарский о том, как далека еще матушка-Россия от истинной цивилизации. Попробуй сотвори с подобными балбесами что-нибудь путное, хотя бы и казнь приличную. Им пережуешь, в рот сунешь, так пока пинка не дашь – проглотить не догадаются. Грустя, генерал подсчитывал: «…смертных шесть рубах белого холста, длиною чтоб не доходили до земли четверть аршина… А также шесть белых холщовых платков для завязывания глаз…» – здесь Лепарский прервал писание, не без самодовольства подумал: «Все, как в Петербурге, как у тех… а поймут ли, оценят сходство?!»
Не забыл генерал и о мерах бдительности, ибо страх веред возмущением, пожиравший их государя, таинственно передавался и его ставленникам, от мала до велика. Записку «Обряд казни» Лепарский закончил так: «Все время до дня экзекуции, особливо в последнюю ночь, должно усугубить надзор за арестантами и, если можно, прибавить караулы, ибо они, узнавши о приготовлениях, готовы решиться опять на что-либо отчаянное».
Генерал остался доволен своим трудом, красиво, с завитушками, расписался, откинулся в кресле. Он устал и хотел лишь одного, чтобы поскорее все кончилось.
Однако тяжелые мысли не оставляли его. Какое-то странное и жуткое противоречие было в том, что никому не известные худородные поручики мечтают о государственных переворотах, а генералы вынуждены собственноручно расписывать в деталях обряд казни. «Эти воинственные мечтатели, помышляющие о переустройстве общества, – думал Лепарский, – кажется, и не подозревают, какие грозные и необузданные силы они рискуют невзначай всколыхнуть и в какие бездонные пучины и хаос может быть ввергнута страна, подобная России, если всеми мерами не поддерживать веками установленный порядок, пусть в чем-то несовершенный, но дающий возможность постепенного и плавного развития общества. Увы, на благоразумие этих господ не приходится уповать…»
Арестантам в камере, куда поместили Сухинова, никто не сообщил, что назавтра назначена казнь. На ночь они похлебали тюри с рыбными костями и теперь с прибаутками готовились ко сну, копошились, устраивались, были сыты и умиротворены. «Они все как дети! – думал, следя за их возней, Сухинов. – Легко забывают обиды, не заглядывают в будущее. Даст бог день, даст и пищу. И это, наверно, мудро – так прожить?»
Одного мужичка – скелет, обтянутый кожей, – играючи скинули с нар, и он покатился по полу к ногам Сухинова. Рыжая, нескладная жердина.
– Слышь, Петро! – окликнул Сухинов. – Поди ближе.
Парень послушно подвинулся, грозя кулаком обидчикам:
– Ничто. Петро разудалится – посыпятся, как семечки.
– Петя, Петя! – манили его приятели. – Вертайся, тута ребра твои остались, подбери!
– Погоди, – держал парня Сухинов. – Запомни, пожалуйста, чего скажу.
– Давай, говори, – рыжий состроил нахмуренную рожу.
– Голикова Павла знаешь?
– А то!
– Увидишь, передай от меня поклон. И вот еще чего ему скажи, запомни крепко… Э, да ладно.
– А ты, что ли, сам не можешь ему сказать? – подивился Петро. – Днями все, даст бог, сойдемся. Как шкуры начнут шерстить.
Сухинов хотел Голикову весточку послать, ободрить, да слов не отыскал подходящих, какие можно передать с чужим человеком. «Не доводится в срок таким людям, как мы с тобой, Паша, вместе сойтись, – хотел он сказать, – поодиночке, поврозь нас и душат. Но когда-нибудь свяжутся в узелок нити судьбы, соберутся в один круг отчаянные безумцы и вещие мудрецы, слезами переполнится чаша, и совершится великое дело – рухнет трон и погибнет тиран. Чего же отчаиваться, Павел, чего? Нам со сроком не повезло и только. Но мы хвосты не поджали, и другие об том вспомнят в удачную пору. Добром помянуты будем, Паша! А это дорогого стоит».
Камера постепенно отходила ко сну, покряхтывала, вздыхала. Буйные головы не враз поддавались целебному забытью. Да и потом, когда сморились, тихо не стало. Вскрики, стоны, бред. Страдания и во сне не отпускали людей.
Сухинов дождался, пока пробили первую зорю и в тюрьме погасили огни. Мысленно он уже не раз проигрывал то, что собирался сейчас исполнить. Поэтому действовал быстро и четко. Главное, никого не разбудить, не потревожить. У печки над нарами был вбит большой гвоздь, неизвестно для какой надобности. Сухинов углядел его еще в первый день. В сторону от гвоздя нары ширились не более чем на две доски. Сухинов заранее распутал ремень, которым подвязывал оковы. Такие ремни или веревки были у многих, они не вызывали подозрений. Нашарив гвоздь, он ловко захлестнул за него ременный конец. Подергал – должен выдержать. Всовывая голову в петлю, Сухинов коснулся затылком гвоздя. Усмехнулся. Голь на выдумки хитра. Поудобнее пристроил петлю под подбородком. Сейчас многое зависело от силы и удачи последнего рывка. Пора! На мгновение он зажмурил глаза, сосредоточился. Сердце билось ровно. Пора! Он свесил ноги с нар – и прыгнул, намертво затянув петлю. Но он еще был в сознании, еще свет перед глазами бултыхался розовыми осколками, и он давил и давил вниз тяжестью тела, уходя от погони, от позора, от небывалой тоски.
Сосед его от хрипа проснулся, слез с нар, пошел к параше. Споткнулся о ноги Сухинова. Испугался, завопил:
– Братцы, спасайте! Удавился кто-то!
Шум поднялся невообразимый. Пока прибежала стража, пока принесли огня – орали не переставая. На каторге любое событие – развлечение. Сухинов предстал изумленным взорам посиневший, с набрякшим кровью лицом. Коленками слегка касался нар. Тяжко, больно достался ему самовольный уход. Привели старичка-лекаря. Сухинова вынули из петли, положили на нары. Лекарь узнал постоянного пациента.
– Природа обязательно себя окажет! – объявил он торжественно, приник ухом к тихой груди. Потом склонился к губам мученика. Вдруг странная тень пробежала по лицу старика. Что-то он про себя соображал, обдумывал. Провел ладонями по щекам, как бы стирая с них паутину. Он уловил слабое биение жизни в уснувшем, казалось, навеки теле. Обернулся к санитарам, приказал с неожиданным раздражением:
– Тихонько его подымайте, не трясите. Глядите у меня, озорники!
Лекарь, старый бродяга, знал о приговоре, который должен был свершиться завтра. Он сам много странствовал, много видел, ему ли пристало понапрасну тревожить гордый, неусмиренный дух. «Греха на душу не возьму! – думал лекарь, шагая рядом с лазаретной телегой и поминутно одергивая возчика, чтобы тот ехал помедленнее. – Природа природой, а и сострадание тоже поиметь надо. Это куда же на одну душу столько!»
Под присмотром лекаря тело Сухинова опустили в погреб на лед. Наверное, там он уснул окончательно, не возвращаясь в презренный мир, сладко уснул, как замерзает в снегу притомившийся странник, отшагавший положенный путь.
Лепарский, узнав о случившемся, вызвал к себе лекаря.
– Под суд пойдешь!
Лекарь сохранил присутствие духа.
– Природа, ваше высокоблагородие, превыше всего. Она всех уравнивает в правах. За ней недоглядишь.
– Это ты мне зачем говоришь?
– Самый наидревнейший лекарь Гиппократ признавал природу за искуснейшего целителя.
Беседа с нелепым стариком как-то успокоила генерала.
– Ничего, от праведного царского суда и мертвый не уйдет.
Рано поутру он произвел осмотр приготовленного для экзекуции места. Придирчиво перебирал, мял в пальцах кнуты и плети, заглянул в приготовленную для мертвецов ямину. Остался доволен. Даже похвалил батальонного командира.
Часам к одиннадцати утра привели осужденных, построили всех вместе неподалеку от ямы, окружили кордоном из солдат. День подымался метельный, сырой. Люди мерзли в своих хлипких одежонках, дрожали не то от холода, не то от страха. Привезли на телеге труп Сухинова. Его обрядили в саван, но голова осталась открытой. Темные волосы спутались, смерзлись на лбу, лицо каменное, глухое. Двое солдат подняли тело, поднесли к яме и швырнули вниз.
Голиков, стоящий в группе осужденных впереди, горестно воскликнул:
– Эх, Ваня, не захотел подождать! Дак ладно, скоро все одно свидимся.
Бочаров выскочил из толпы арестантов, слепо засеменил в сторону леса. Ближайший унтер молча ткнул его в плечо прикладом. Бочаров упал, ползком вернулся на свое место.
– Приступайте! – Лепарский махнул платком.
Первым вывели Голикова, напялили на него белый саван. Привязали к столбу около ямы. Он посмотрел вниз, на Сухинова, усмехнулся синими губами. – Сейчас, сейчас, Ваня, догоню!
Солдат потянулся к нему, чтобы завязать глаза. Голиков властно его отстранил. Громко сказал:
– Не надо. Невиновных губите! Хоть запомню вас, дьяволов, напоследок. Я вас и с того света…
Офицер истерически выкрикнул команду. Грянул ружейный залп. Голиков дернулся, обвис на столбе. Умер легко, мгновенно. Его тело тут же спустили в яму следом за Сухиновым.
Бочарову не повезло со смертью. Солдаты, напуганные, может быть, угрозой Голикова, несручные к убийству, целились плохо, пальнули абы как. Бочарова только ранили. Он забился на столбе, роняя на снег кровяные сгустки. Утробно заревел. В шеренге солдат начался разброд. Многие опускали ружья, отворачивались.
– Пожалейте! – вырвалось из хрипящей, изрыгающей алую пену глотки Бочарова. – Как больно, боже!
Один ретивый солдат пожалел. Подскочил ближе и вонзил в страдальца штык. Приколол, как скотину. Неподалеку три палача приступили к наказанию кнутом и плетьми. Плач и крики над полем вытянулись в один жуткий, невыносимый клекот. Воронье в ужасе шарахнулось под небеса.
К столбу привязали Василия Михайлова. Он смотрел спокойно, холодно. От повязки на глаза, подобно Голикову, отказался.
– Ну, солдатушки, убивайте бывшего фельдфебеля, мать вашу разэтак!
Нестройный залп. Все пули мимо. Михайлов, невредимый, обернулся к Лепарскому:
– Плохо палачишек учишь! Сам пальни!
Перед глазами генерала в туманном мареве качнулась земля. Как в кошмаре, повторялось то, о чем ему рассказывали. Там – не сумели толком повесить, здесь – расстрелять. От бешенства он потерял голос. Но по его лицу, искаженному сизой гримасой, батальонный командир догадался, какие почести его вскорости ожидают. Он бросился к солдатам и начал подталкивать их в спины.
– Давай, давай! – гремел Михайлов. – Не боись, у меня руки связаны.
Под одиночными выстрелами он погибал долго, мучительно. Вздрагивал, принимал очередную пулю, клонился, а с лица его не сходил страшный гневный оскал.
Через час все было кончено. Яму засыпали. Убрали столб и остальные приспособления. Остался посреди Сибири невысокий бугорок, который вскорости заметут снега, сровняют с землей. Воронье покружит, погалдит и растворится в белом просторе, не утолив лютый голод.
Лепарский поспешил к себе писать рапорт.
«По высочайшему государя императора повелению…»
Отмаялся Сухинов, отбушевал, отстрадал. Успокоился в братской могиле, как положено воину. Метели над ним и пространство без края. Он оттуда не вернется. Он теперь никому не опасен.
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа…
Он не услышит этих слов. Скорбная весть о его гибели долетит до Читы и пойдет гулять по России. Негромкая весть. Его близко-то мало кто знал. Но те, кто знал, любили.
И братья меч вам отдадут…
Эти слова услышат другие, которые живы, которые страдают, гнутся, но не умирают и молча, в великом терпении ждут своего часа.






