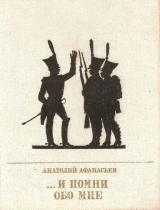
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
После долгих торгов и взаимных упреков каторжные соколы поднатужились и наскребли сорок копеек. Бочаров справедливо заметил, что на такие деньги Голикова не напоишь, а только раззадоришь, и придется, видно, ему для общего дела закладывать новые штаны, которых у него пока нет, но которые ему твердо обещал один богатый человек.
– Что за человек? – заинтересовались молодцы.
– Такой человек, что о нем не каждому знать можно. А когда он объявится, то будет всем большое утешение.
– И нам будет утешение?
Бочаров, не таясь, растолковал, что надо делать, когда будет сигнал, – бить насмерть начальство и солдат, отымать оружие и ждать окончательной команды.
– Главным у вас назначен мною и тем человеком Леха Пятин. Знаете такого?
Мельник и Шугай поскучнели. Они знали Пятина, но были от него в отдалении. У Пятина свои дружки, в основном из ссыльных солдат. Ихнего брата, вора, Пятин не очень жалует. Его бы, к слову сказать, хорошо вместе с Голиковым порешить.
– Это нет, – строго сказал Бочаров. – Это не велено. Может, после, когда момент наступит. А сейчас нельзя. Сейчас Пятин нужен для общей пользы.
Убедившись, что от мужичков поживиться больше нечем, Бочаров сделался озабоченным и ушел на розыске Пятина. Если бы он не так долго выяснял сложные отношения со своими дружками, то застал бы Пятина в казарме. Теперь же он встретил Пятина на улице в окружении четырех солдат. Он его все же окликнул, не побоялся:
– Эй, Леха, куда тебя ведут?
Пятин глянул удивленно, и непонятно было, признал он Бочарова или нет.
– Награждать ведут, браток!
Бочаров поплелся следом.
– За что тебя взяли, Леха?
– Известно за что. Из-за ихнего каприза!
Один солдат, которому было скучно, сказал Бочарову:
– Хоть, и тебя за кумпанию проводим в холодную?
– Меня нельзя, служивый! – солидно отозвался Бочаров. – Меня их благородие по важному делу послал.
Он вплотную подошел и уставился на Пятина весьма красноречиво, даже подмигнул. Надеялся, что тот догадается, зачем он здесь и от кого.
– Ты, Леха, вечно безобразить, а начальство беспорядку не любит. Тебе бы остепениться пора. Так и передать велено.
Солдаты взялись отгонять назойливого бродягу, и Бочаров схлопотал пару добрых тычков, как ни уворачивался. И тут Пятин все же, видимо, прояснился умом:
– Выйду отсель, должок сполна отдам! – крикнул он. Это были его последние слова, потом его затолкали в участок.
Обратный путь Бочаров проделал бодро. В барак явился в двенадцатом часу ночи. Голиков его ждал.
– Ну, удачно сходил?
– Где там, Пятина в участок при мне свели.
– За что его?
– А он, не дождамшись нас, взбунтовался. Говорят, двух надзирателей насмерть порешил. А уж сколько покалечил – не счесть. Теперь ему петля.
– Ты, Стручок, ври, но в меру!
– Давай спать, Пашенька. Умаялся я нынче шибко. Слышь, Сухина мне новые штаны обещал.
– Обещал, – значит, купит. У него слово верное.
Спозаранку они пришли к Сухинову на квартиру, и Бочаров дал хитроумный отчет о своем походе. По его словам, выходило, что Нерчинский завод хоть завтра подымется (благодаря его стараниям), но Сухинов быстро разобрался в истинном положении дел. Он назначил им прийти вечером, чтобы обо всем окончательно условиться.
– Ждать больше некогда. Такие вы надежные ребята, того гляди, и вас упрячут.
– Это да, – заметил Бочаров. – Это всегда может статься, потому, к примеру, у Паши нрав очень озорной и горячий.
Терпение Сухинова истощилось. Весна его взбаламутила. Он силы в себе чувствовал невероятные и не сомневался в успехе. Жажда действия мучила его, как головная боль. Да и не было смысла оттягивать: земля отвердела, днями припекало по-летнему жаркое солнце. Оттягивать выступление было даже опасно. Слишком много людей посвящено в тайну, и каждый из них мог распустить язык, раскрыть себя и погубить остальных. Некоторых Сухинов успел хорошо узнать, других представлял себе только по внешнему облику. Это были люди, подобранные Голиковым. Подговаривая их к бунту, тот фамилии Сухинова не называл, а туманно намекал, что объявился, мол, человек неукротимый, который их, бедных, жалеет и любит и всех скоро освободит из неволи.
Голиков сообщил, что набралось людей более десятка. Он сказал, что все это оторви-головы, скалу разнесут в пыль. «Ладно, – думал Сухинов. – Начнем с этими, а там видно будет».
Более всего он жалел о том, что Соловьев и Мозалевский не с ним в решающий час. Сумеет ли он удержать в повиновении и дисциплине каторжников, когда они дорвутся до свободы и начнут крушить направо и налево? Втроем – это было бы значительно легче.
«Ничего, – рассуждал Сухинов. – Главное, чтобы; Голиков не откачнулся, не обезумел от злобы. Вот с ним надо быть осторожным. Да еще, пожалуй, Бочаров. От его поведения тоже много зависит. Хитрец, к нему прислушиваются. Он может посеять смуту. Его надо задобрить или запугать. Но такого вряд ли запугаешь. Он сделает вид, прикинется, а после ударит в спину…»
Днем он сходил в кабак к Птицыну, заплатил прежние долги и оставил ему денег для Голикова.
– Отпускай ему вино, Костя, если попросит. Но не помногу, в меру.
– У него мера – ведро, – пошутил Птицын.
– Ладно, я на тебя надеюсь.
– Не сомневайся, Иван Иванович, – серьезно сказал бывший юнкер. – Я к тебе со всей душевностью, как к брату.
«Братишка объявился!» – мрачно усмехнулся про себя Сухинов.
К вечеру он приготовил Бочарову подарок – голубые дабовые штаны. Когда тот их увидел, расцвел, точно розовый куст, раскраснелся необычно, и что-то ребячье появилось в этом несчастном, отверженном человеке. Он пробовал ткань на зуб, мусолил и тут же взялся напяливать штаны на себя.
– Это, ежели сказать, Иван Иванович, то слов не найдешь готовых! Чего тебе надо? Приказывай – раб твой Васька отныне и довеку!
Как из-за подаренных штанов распинался – страсть. Голиков смотрел на него с презрительной гримасой.
– Ну вот, ребята, – сказал Сухинов. – Ждать мы более не можем, пора выступать!
Бочаров сиял.
– Куда прикажешь, Сухина, туда и кинемся! – заявил он. – Верно, Паша?
Голиков от него отворачивался, как от зудящего комара. Был строг лицом, внимателен.
– Кидаться не надо, Василий, – продолжал Сухинов. – Мы за святое дело встаем, не на разбой. Вот это вы должны твердо понять. За бедных встаем, за обездоленных. А поэтому – никаких шалостей и злодейств быть не может. Слушаться меня беспрекословно. Кто поперек пойдет, кто созорничает – покараю беспощадно! И ты, Голиков, мне во всем правая рука. Ты обещал, не отказываешься теперь от своих слов?
– Нет, Сухина, я с тобой! – В его глазах появился горячечный блеск. – Говори, когда?
– Двадцать четвертого вечером соберете всех у кладбища. Как только стемнеет.
Сухинов еще раз подробно изложил план выступления: сначала захват цейхгауза с оружием, потом нападение на тюрьму и освобождение колодников. Кто солдат либо начальников окажет сопротивление – убивать на месте, но без лишнего шума и крика. Если соберется команда хотя бы в пятьдесят человек, но при оружии – этого достаточно, чтобы двинуться на Нерчинский завод. Туда надо будет послать гонца с упреждением Пятину.
Голиков сказал:
– Ты все хорошо обдумал, Иван Сухина, и все правильно делаешь. Только во взоре у тебя сомнение. Это потому, что ты про нас всяко думаешь, и так и этак. Вот я тебе для спокою души скажу. С мужиком пошел – ему доверься. Довериться – он тебя из огня спасет и вынет. Станешь таиться и сомневаться – он от тебя отвернется, потому веры в тебе не почует. Понял ты меня, Сухина?
– Я тебя понял, и я тебе благодарен за эти слова!

Десять дней оставалось до срока. Как их поскорее прожить, протянуть? Последнее ожидание – это груз непомерный. Скука в сердце, и минуты текут неживые.
Он на неделе ухитрился побывать в Нерчинском заводе и повидал Пятина. Тот был смутен и возбужден. Он все подготовил, но глаза прятал. Стыдился вроде.
– Бес попутал, Иван Иванович. Ввязался в пьяную драку. Вишь, в чем заковыка. Душа волю чует, ей уж невмочь.
– У меня то же самое, Алеша, – ласково, чтобы его успокоить, сказал Сухинов. – Двадцать пятого жди нас здесь. Да я вперед кого-нибудь вышлю.
Обнялись на прощание.
«Какую странную жизнь я прожил, – кручинился Сухинов. – Будто и не свою. Но скоро все переменится. Милый Сергей Иванович, видишь, какое дело я затеял, и совета спросить не у кого! Да и поздно советоваться».
Светлым, скорбным ликом выплывал из памяти Муравьев-Апостол. Сухинов часто и прежде разговаривал с ним, как с непогибшим. Они оба восторжествовали над временем, и власть мирская на них не распространялась.
Сухинов верил в бога неуклюже, с сомнением, по-крестьянски. Он верил в избавление от земных хлопот и страданий и знал, что придется когда-нибудь отвечать за совершенное здесь, при этой жизни. Он надеялся, что его не осудят. За что осуждать? Кого он сильно обидел или обездолил? Через кровь не раз переступал, но то была кровь врагов отечества. Плохо, скудно жил, зато теперь прозрел и с нового пути не свернет. Не о себе одном думает, а обо всех, кого согнули неправдой и продолжают гнуть до хруста в позвоночнике. Сил у него не много, он простой человек, но сколько есть – отдаст за сирых и тоскующих. Как Сергей Иванович отдал, как все павшие до него.
Он часто вспоминал Муравьева и его рассказы о «царстве справедливости», которое непременно должно когда-нибудь установиться на земле. Эти рассказы околдовали его в свое время. Муравьев верил в то, что возможен мир, где все люди будут равны в своих правах, независимо от того, бедны они или богаты, где не будет места насилию. Сухинову передалась его вера, и здесь, в Сибири, он ей не изменил. В смутном воображении он иногда представлял себе некое сообщество, где люди живут привольно и умно, не преследуя друг друга, подобно хищным зверям, напротив, всячески помогая один другому во всех делах. Это была мечта, и чтобы она осуществилась, необходимо было первоначально уничтожить нынешний гнусный порядок, установленный усилиями ничтожных и корыстных людей, пекущихся лишь о своем благе. Благополучие и кажущаяся неуязвимость этих людей – а возглавлял их царь – вызывали в душе Сухинова горькую тоску и приступы черного гнева, грозящие задушить его самого. Утишить, смягчить гнев могло только действие, противоборство – это он прекрасно понимал.
Он забылся под утро ненадолго и увидел вещий сон. Ему примерещилась небылица. Как будто он ребенком возвращается домой к отцу с матушкой, вокруг солнце горит и трава зеленая, а рядом братья вприпрыжку скачут. Они очень спешат, потому что матушка к ужину обещала напечь оладьи. Очень хочется есть в этом сне… Потом обрыв, пауза, и братьев не стало, и солнце померкло, и он знает твердо, что домой ему не добраться. Он сбился с пути. Но он уже не мальчик, а взрослый и сознает, что все происходит во сне. Навстречу ему полем идет странный, тучный мужик, похожий на Бочарова, но рыхлый и больной. На нем синие штаны, но это все же не Бочаров и не Голиков, и никто вообще из знакомых. Это к нему подходит чужой человек со скверным, безносым и безглазым лицом. «Ты чего, никак, заплутался?!» – хрипит человек и страшно приближается. Сухинов знает, что если он подойдет вплотную, то обнимет, задушит. Сухинов поднимает к лицу слабые руки и грозит: «Уйди, я тебя не хочу, уйди!» Сырая, мерзкая масса чужого тела прикасается к нему и начинает давить. Давит умело, не спеша. Сухинов не сопротивляемся, они надают на землю, и безликий человек, жалобно хихикая, начинает просверливать ему пальцем живот. Сухинов столкнуть с себя его не может. Великая глыба на нем повисла. Сухинов шепчет, погибая: «Кто ты есть, скажи?!» Ответа нет, убийца загребает в лапу его кишки и тянет их наружу. «О-о-о!» – вопит поручик и просыпается живой. В животе осталась тающая щекотка.
Над ним склонился испуганный Соловьев.
– Что с тобой, Ваня?! Ты не заболел? Ты так ужасно кричал.
– Чертовщина привиделась, Веня! Бред.
– Принести тебе воды?
– Принеси.
Он напился из кружки холодной воды и остатки плеснул на грудь под рубаху.
– Ложись, барон, досыпай. Спасибо тебе!
– Ох, как же ты кричал!
– Больше не закричу, спи спокойно.
Он знает, что говорит. Он больше спать не будет, перехитрит ночного гостя. Сколько раз он их водил за нос и теперь оставит в дураках.
«Попробуйте! – думает Сухинов, хмуро уставясь в потолок. – Попробуйте наяву. Еще поглядим, кто одолеет…»
Рассвет голубовато-золотистым кружевом полощется в оконце. Они сегодня переедут в новый, собственный дом. Уже и деньги уплачены.
«Увы, не жить мне в этом доме», – грустно усмехается Сухинов.
4
У Птицына в кабаке веселье, Голиков с дружками пирует. Здесь Васька Бочаров, Федор Моршаков, Сеня Семенцов, Васька Михайлов, Тимофей бесфамильный и еще беспутный Алешка Козаков. Необычно тихо идет гулянка, хотя вино рекой льется. Кроме Козакова, собрались тут люди солидные, основательные, не потерявшие к себе уважения. Перед грядущим грозным делом настроение у всех сумрачное. Чем дольше пьют, тем откровеннее разговоры. Уже и Сухинова имя не раз помянуто.
– Наш он, ребята, свои, не гляди, что из офицерья, – авторитетно разъясняет Голиков. – За ним хоть в омут – не боязно. Редкого человека нам бог послал своей малостью.
Михайлов недоволен речами товарища.
– Ты бы, Паша, прикусил язык-то.
Голиков щурится, как сослепу.
– А ты, Васька, учил бы кого дурнее себя, понял?
– Голикова не замай, тезка, – поддает жару Бочаров. – Он у Сухины на особом почете. Ему велено над всеми надзор блюсти.
Ссора не завязывается, потому что Михайлов трезв, почти не пьет и не желает скандала. Уж обо всем переговорено, надо терпеливо вечера ждать. У Михайлова на душе неуютно. Он понимает, что если они все к ночи перепьются, то толку не будет. Ему хочется пойти к Сухинову и предупредить. Только это невозможно. Не дадут ему сейчас уйти. И он сидит насупленный, злой, уставясь темным взглядом в столешницу.
Громче всех задирается и верещит никчемный Козаков. Он как из дупла выпал.
– Теперя, даст бог, прищемим хвост кое-кому, верно, Паша? С виду Леха невзрачный да шебутной, а сердце у него – огнь беспощадный. На Козакова, Паша, как на скалу обопрись и не вздрогни.
Колотун его бьет, он не молчит ни минуты, во все разговоры встревает.
– Чего ждать! – вопит. – Идем сейчас, сразу. Я первый ринусь. Эх, не жаль удалой головушки! Кого жизни лишить немедля, укажи, Паша! За тебя горло любому перегрызу. Зубов мало осталось, ногтями раздеру на куски. Самого Фришку растерзаю.
Запели песню, дремучую, протяжную. В ней тоски море, а о счастье ни полсловушка.
– Пропадай, кудрява головушка! – орет Козаков. – Протяни руку, Паша, дай поцеловать! Про меня песня, про раба божьего Алексея.
– Ты чего расходился, Лешенька? – увещевает Бочаров. – Ты остынь маленько. Вечером напляшешься. А сию минуту пошел бы поспал.
Козаков невменяем и буен.
– Сухина – тьфу! Отродье барское. Идем сами всем гуртом. Подымайся, братва! Я знаю, где у них склад. Там вина бочки, окорока! Гуляй, каторжные!
Не в пору понес мужик. На лицах, как в пещерах, темень безответная. Голиков не поленился, встал, прихватил Леху за ворот, доволок до двери, дал пинка. Козаков побрел за околицу, за поселок, там у него в кустах под дерном надежно схоронена половина штофа. Он ее вылакал жадно из горлышка, потом сидел в задумчивости – прислушивался, как вино вылизывает горькую обиду со дна души. «Ладно, – бормотал Козаков. – Ладушки! Вы Лешку пинком в зад, а он вас колуном по темечку. Токо дай ему размахнуться как следует!»
Козаков тешил себя, успокаивал, но, конечно, знал, что никогда уже и ни на кого он не размахнется и волюшки ему более не видать. Да и не нужна ему была волюшка, он забыл, что это такое. Он сросся с каторгой, с рудником и стал как растение, будто и родившееся на этой почве и тут обреченное завянуть. Но иной раз в его ущербном сознании вспыхивало не то чтобы воспоминание об иных днях и не то чтобы самолюбие, а что-то вроде желания огрызнуться и объявить кому-то, что он еще дышит и не затоптан в землю окончательно. Горючие слезы катились по его лицу. «Бедная моя головушка! – приговаривал Козаков. – Никто тебя не пожалеет! И зачем я на свет уродился? Зачем меня мамка такого родила?!» Мысль о матери, которую он не помнил, исторгла из его хилой груди рыдания, перешедшие в протяжный вой. Он лег плашмя на землю и пополз от дерева к дереву. Наконец затих и незаметно для себя задремал, уткнувшись носом в прохладный мох. Наплакавшись вволю и отдохнув, он решил, что надо все же воротиться в кабак, вымолить у Голикова прощение и тогда, возможно, его не обнесут стаканчиком. Споро зашагал к поселку. «Я им так скажу, – думал Козаков. – Вы, ребята, сироту не забижайте. Сироту забидеть – грех. А я уж вам, коли понадобится, послужу с честью!»
Проходя мимо конторы, Козаков увидел в окне знакомого человека – управляющего Нерчинской горною конторой Черниговцева. Этот момент стал роковым в истории зерентуйского бунта. Повинуясь пьяному наитию, Козаков вернулся к дверям и вошел в контору.
Черниговцев, человек с больной печенью, увидя улыбающуюся каторжную рожу, сразу разразился бранью. Козаков дождался паузы и, продолжая многозначительно скалиться, сказал:
– А вот дашь рублик, ваше благородие, я тебе открою сокровенную тайну всех тайн!
– По плетям соскучился? – спросил уставший ругаться управляющий.
– Убей меня гром, если вру! – Козаков истово перекрестился. Он не без основания рассчитывал, что Черниговцев, узнав, с чем он пришел, отвалит ему рубль, а может, и поболее.
– Говори, пьяная скотина!
– Оно, конечно, но ведь с другого конца – рубль для вашего сиятельства – деньги пустяшные…
– Не испытывай моего терпения, свинья!
Козаков вздохнул и, переминаясь с ноги на ногу, поведал все, что ему было известно о заговоре. Увлекшись, он многое присочинил. В частности, кроме Голикова, Сухинова и прочих он назвал еще многих своих обидчиков, одного даже помершего в прошлом году. Он сказал, что все эти злодеи под предводительством «секретного» Сухины собрались нынче ночью захватить рудник, перевешать и сжечь всех начальников, а после учинить противозаконное безобразие по всей Сибири. Речь его звучала дико.
– А чего же ты не с ними? – поинтересовался Черниговцев.
– Я, ваша светлость, образумился. Сначала-то я будто прикинулся, что с ними, а сам держу в уме, чтобы вам получше угодить. Меня все знают за смирного и работящего преступника. Если, конечно, не жаль, дайте хотя бы и полтину. А уж я завсегда при вашей милости сторожевой пес, как положено по закону. Леху Козакова на мякине не проведешь. Ему хошь горы золотые сули, он всегда первым делом к вам явится и все по совести доложит.
– Иди проспись! – брезгливо заметил Черниговцев, не веря ни одному его слову. И все же привычка к постоянному бдению была в нем сильнее здравого смысла.
Когда Козаков ушел, Черниговцев немедленно послал за начальником караула.
Целовальник Птицын из громкого разговора за столом давно уже уловил, куда разворачиваются события. «Значит, нынче вечером, – думал он с сожалением. – Эх, милый друг Иван Иванович, вечером-то вечером, да с кем? Вон они назюзюкались, как свиньи. С кем же ты будешь? Я бы пошел с тобой, да нет у меня духу на такое. Трус я, подлый трус, Иван Иванович, и, видать, всегда был трусом. Да и не звал ты меня. Может, если бы позвал, я бы и решился. А так…»
Он выбрал момент и поманил к себе Голикова. Тот нехотя, не сразу поднялся, приблизился.
– Ну?!
Птицын словно новым зрением разглядывал этого, могучего, страхолюдного человека, смотрел на него глазами Сухинова и вдруг увидел за сумраком и пеленой блеск спокойного, озорного любопытства. В настороженном взгляде Голикова было нечто загадочное и тайное, такое, что иногда манящим миражем выплывает из-за кромки дальнего леса.
– Я бы тебе, Паша, чего посоветовал… Ты своих смутьянов уводи отсюда.
– Почему? Кому мешаем?
– Шуметь больно стали, упились. Болтают лишнее. А тут ушей, сам знаешь, много. Ну как опередят, докажут начальству?!
Голиков весь подобрался, набычился.
– Ты о чем, Птицын?
– Да ты со мной в прятки не играй, Голиков. Уводи, говорю, людишек, оно лучше выйдет.
– Сколько Сухины денег осталось?
– Копеек семьдесят.
– Дай! – Голиков протянул лопату-ладонь. Птицын ссыпал туда мелочь. Голиков кивнул, ничего не сказал и вернулся за стол. А через несколько минут все они разом встали и пошли к выходу.
Козаков бесцельно бродил по поселку, зигзагами приближался к питейному дому. Это его ноги туда сами несли, но на душе было муторно. Свой разговор с Черниговцевым он помнил смутно, зато почему-то угнетала встреча с Федькой Моршаковым, Он Федьку встретил, выйдя из конторы, и так хорошо, задорно с ним посудачил. Ему хотелось, чтобы Федька, которому симпатизирует сам Голиков, понял, какой он, Козаков, важный и незаменимый человек.
Он подошел к Моршакову с независимым видом, но, приблизясь, не удержался, хихикнул и многозначительно подмигнул.
– Не проспался еще? – спросил Моршаков.
– Ты, Федя, не заносись чересчур. Вы теперь у меня все вот здесь, – и показал Моршакову стиснутый кулачок.
Козаков еще не устал хихикать, кривляться и подмигивать, а Моршаков уже быстро зашагал прочь. И вот оттого, что он его так спешно покинул на самом интересном моменте разговора, в Козакове пробудилось что-то вроде раскаяния. Впрочем, какое там раскаяние. Он просто спохватился, что не слишком ли далеко зашел и не случится ли теперь с ним самим какого несчастья. В хмельной голове мысли не держались стойко, и вскоре он забыл обо всем.
Бочаров, которому Федька первому рассказал о случившемся, помчался в барак и разбудил спящего богатырским сном Голикова. Сграбастал за плечи и потащил с нар. Тот со сна лягнулся ногой – да мимо.
– Беда, Паша, беда большая, не время сны глядеть!
– Ну?!
– Вот те и ну! Леха Козаков, паскудный дьявол, накляузил управляющему, про всех донес.
Голиков сел, почесал волосатую грудь под рубахой, постепенно приходя в себя. Наконец до него дошло. Вскинулся, задышал неровно, с клокотанием.
– Кто тебе сказал?
– Федька Моршаков. А ему сам Козак спьяну выложился. Чего делать-то будем, Пашенька?!
Голиков думал недолго. Он чуял, что гнев, забурливший в нем, должен быстрее получить исход, излиться, иначе задушит, сожжет глотку багровое кипение.
– Вот что, Стручок. Отыщи Лешку и замани его в рощу, там, за оврагом. Чего хошь обещай, но замани!
Бочаров обнаружил доносчика возле питейного дома. Козаков очумело озирался, привалившись к дереву.
– Никак заблудился, голуба душа? – ласково приветствовал его Бочаров.
– Это ты, Васька! – узнал и обрадовался Козаков. – Вот какая хреновина вышла. Стою туточки с утра раннего, куда идти не знаю. Земля-то ведь крутится, шагни в сторону – упадешь.
– Не хошь еще малость выпить?
– Угости, брат! Вечно тебе псом сторожевым буду.
– Не надо псом… Я тебя, Леша, за твою удаль очень люблю. У меня бутылка в лесу спрятана. Айда, что ли?
Козаков отвалился от березы и повис на шее у Бочарова. Так, обнявшись, они брели посреди улицы, а после и запели. Бочаров выводил низко, со слезой, Козаков не в лад вторил ему петушиным голосом. Один раз он споткнулся и упал, волоча за собой в грязь и Бочарова. Побарахтавшись, кое-как поднялись.
– Ты уж держись, Леша, нас Голиков там ждет. У него терпения мало. Вылакает, гад, все до донышка.
– Голиков? А мы ему ноги повыдергаем и к ушам прибьем!
– Это само собой, дак вина-то все одно не будет.
Козаков представил ужасную сцену, вдруг отстранился от товарища и побежал к лесу чуть не вприпрыжку.
Бочаров, туманно улыбаясь, еле за ним доспевал. Стороной, не упуская их из виду, шел Голиков. В лесу Козаков неожиданно впал в детство. Он наклонялся к зазеленевшим веточкам, нюхал их, растирал зелень в пальцах, громко смеялся:
– Ты погляди, Вася, какая красота божья! Затрепетали, зацвели родимые. Пахнет славно, дух щемит. Да ты на, подержи у рта, Вася, порадуйся!
Голиков подошел, хрустнул сухой сучок под его ногой.
Козаков проворно обернулся, увидел каменную, налитую багровым человечью маску. Все в нем враз потухло, и силы его оставили. Он понял, что пришел смертный час. Спросил тихо:
– Это, никак, ты, Голиков?
– Я, Алешенька, я! Значится, ты теперь с управляющим дружишь? Встречаешься с ним?
Козаков поднял кверху к солнцу лицо, перекошенное прощальной гримасой.
– Дак ведь как сказать, Паша, не со злом ведь. По затмению ума, может, и встрелся разок. Уж ты прости!
– Ай-яй, какой ты шалунишка, Алеша, озорник… прости господи!
Отмахнул слегка руку с камнем, ударил Козакова в висок. Тот жалобно хрюкнул, повалился неторопливо, как куль. Он был мертв. Отбражничал, отпопрошайничал несчастный каторжник.
Бочаров с Голиковым отволокли тело к старенькому шурфу, сбросили вниз, закидали ветками, щебенкой.
Дошли до ручья, умылись. Голиков никак не мог напиться. Пил и пил ледяную воду.
– Чего теперь? – спросил Бочаров. Он был растерям, утратил всю свою заносчивость и покорно ждал решения Голикова.
– Надо предупредить Сухину.
– А не вернее ли, Пашенька, сразу в тайгу подаваться?
– Сухину предупредим!
По дороге к Сухинову они встретили какого-то местного пацаненка. Приветливо улыбаясь, он сказал Голикову:
– Вас, дяденька, повсюду солдаты ищут.
Голиков порылся в кармане и одарил мальчишку копейкой. Бочаров стоял рядом и тряс руками, как в припадке.
– Иди в казарму, – сказал ему Голиков. – Забери что надо и жди меня за оврагом.
– А ты куда?
– Я к Сухине.
Голиков не прошел и ста метров, как наткнулся на солдат. Знакомый фельдфебель положил ему руку на плечо.
– Пойдешь с нами, Голиков!
– Какая честь! – мрачно усмехнулся Голиков. – Хоть на край света с вами радехонек.
Бочаров не полез в барак, послал Прыща. Тот вынес ему топорик, хлеб, соль, серники.
– Никак, далече собрался, Вася?
– Кому вякнешь, язык вырву!
Через несколько часов, к ночи, он был уже далече. Он бродил по тайге много дней, кормился грибами, ягодами, корешками, чем попало, только что землю не жевал. По ночам, притулившись где-нибудь в норе, рычал во сне, как пес. После безумного кружения, не надеясь больше спастись, он выполз к Зерентуйскому руднику. То есть почти на то место, откуда начал свой побег. Когда его вязали, он укусил стражника за щеку. Первое, что спросил, очухавшись от побоев: «Пашку Голикова уже повесили?»
Голикова после ареста привели в тюремную комнату для допросов. Там его поджидали прапорщик Анисимов, щуплый, с нездоровой серой кожей молодой человек, известный на руднике своей пронырливостью, и двое заплечных, Ванька Дебел и Вытя Махонький, удивительно похожие друг на друга красномордые, дюжие мужики. Прапорщик сидел за столом перед листом бумаги, а заплечные – у каждого в руке по железному пруту – скромно потупились у стенки. У Голикова руки спутаны за спиной.
Анисимов поглядел на него сонно и брезгливо.
– Ну что, Голиков, сразу будешь давать показания или как?
– Как прикажете! Мы люди маленькие, убогие.
– Значит, бунтовать умыслил?
– Ага, – кивнул Голиков. – Попутал нечистый. Потому в опьянении ума находился.
Анисимов был несколько обескуражен столь быстрым признанием.
– И много вас набралось?
– Да почитай десятка два.
– Ну, давай, перечисли, а записывать буду!
Голиков начал старательно называть фамилии, все, какие мог припомнить. Водка в нем еще крепко бродила. Анисимов одними фамилиями исписал страницу.
– А ты правду ли говоришь, мерзавец?!
– Как на исповеди! – Голиков обиженно засопел.
– И кто же у вас был за главного?
– Главный, конечно, Сухина. Мы его собрались заместо царя на трон возвесть! – гордо ответил Голиков.
– Что-о?! – Анисимов подскочил на стуле, сломал в ярости перо. – Что городишь, подлец! А ну, ребята!
Ребята взялись за дело дружно, но как-то без особого рвения. Они повалили несопротивляющегося Голикова на скамью и начали охаживать прутьями. Голиков фырчал, скрипел зубами, плевался.
– Жарь! Так его! А ну, ходи веселее! – припрыгивал рядом прапорщик, в садистском упоении тиская ладони.
К вечеру арестовали всех. За Сухиновым пришли в восьмом часу. Отчаяние его в первую минуту было столь велико, что он не различал лиц тех, кто его арестовал. Он услышал торопливый стук сапог по дощатому полу, все сразу понял, и сознание его подернулось серой рябью. Тусклым пятном маячил перед ним Соловьев.
– Как же так, Ваня? Что же это?
Соловьеву он нашел в себе силы ответить:
– Судьба, Веня, судьба! Не вини меня строго, я иначе не мог.
Соловьева и Мозалевского заперли в их новой избе, выставили караул, а Сухинова отвели в контору к управляющему. Черниговцев, придерживая рукой ноющую печень, сказал раздраженно:
– Что ж, все нам известно, Сухинов. Отпираться не имеет смысла. Попались, голубчики!
– Что именно вам известно, сударь? – равнодушно спросил Сухинов. В его груди подтаивали ледяные глыбы и подступали к горлу отвратительной сладкой тошнотой. Но внешне он владел собой вполне. Он даже улыбнулся деревянной улыбкой. Черниговцев в глазах двоился.
– Все ваши сообщники под замком, – ленивым голосом сообщил управляющий. – Вам угодно, я вижу, отпираться – это глупо.
– Какие сообщники? Вы о чем?
Черниговцев и прежде беседовал с Сухиновым и его товарищами. Он был до мозга костей верноподданным и, разумеется, не мог испытывать к бунтовщикам сочувствия. Но они вызывали в нем болезненное любопытство. Как это, думал он, дворяне могли решиться на такое немыслимое, чудовищное дело? Восстать противу существующего порядка, самого наилучшего, какой можно представить. Может быть, кто-то из заклятых тайных врагов отечества опутал их, пообещав великую награду? И вот теперь перед ним стоял один из самых опасных, черный человек, с черным ядовитым взглядом. Самое правильное было бы не беседовать с ним, а поскорее удавить на ближайшем суку.
– Хорошо, хорошо! – быстро произнес Черниговцев, боясь, что раздражение вызовет новый приступ боли. – Запирайтесь, сколько вам угодно. Придет время – разговоритесь. Глядите, не было бы поздно. Эй, кто там! В оковы подлеца, в карцер, под строжайший караул!
В сырой, темной конуре с земляным полом, снова в оковах, Сухинов лег на спину и закрыл глаза. Долго лежал неподвижно, стараясь ни о чем не думать, погруженный в дурное, слоистое полузабытье. Если бы он мог умереть сейчас, то умер бы беспечно, с великой благодарностью к избавительнице-смерти. Пещерная, первобытная тоска овладела всем его существом. Ему чудилось, что скованы не только его руки и ноги, зажата в тиски каждая клеточка его стонущего тела, а в голове под черепной коробкой устроили дикий шабаш серенькие, червеобразные чертенята с молоточками в руках. Они там приплясывают и скрежещут зубками, и с железным упорством, однообразно постукивая молоточками, пробиваются к ушам, и скоро начнут выпрыгивать оттуда. О боже! Как же их много, и как гнусно и тонко они пищат и причитают. Наверное, он все же потерял сознание и какое-то время отдыхал, потому что, очнувшись, почувствовал себя лучше и здоровее, хотя не сразу понял, где он и который час – день или ночь. Но мысли прояснились и текли плавно.





