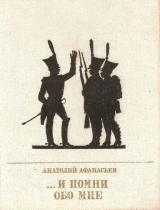
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
– Да вы не нервничайте так, Саша, – сказал Сухинов. – Ничего с нами не будет. Пусть потешатся. У них свои радости, у нас свои. Сегодня их час. Вон, поглядите, Гебель сейчас лопнет от счастья. А это кто там такой удалой? Ба, да это же сам Трухин! То-то, я гляжу, конь под ним ходуном ходит. Видите, все наши лучшие друзья здесь, пришли нас проведать и поддержать в трудную минуту.
Сухинов посмеивался, лицо его расплылось в широкой добродушной улыбке. Казалось, ему все происходящее по душе. Приговор он слушал невнимательно, задирал голову, вертелся во все стороны, выискивая знакомых в строю, но никого не выискал. Услышав фразу: «…сослать в вечно-каторжную работу в Сибирь», громко, на всю площадь, заметил:
– И в Сибири есть солнце!
Непонятный гул то ли протеста, то ли одобрения прошел по полку. Князь Горчаков взъярился, затопал ногами, в бешенстве заорал:
– Молчать! Вторично под суд пойдешь, мерзавец!
Сухинов расхохотался. Гебель потом объяснил князю:
– Это самый из злодеев злодей! Такого уж ничем не исправишь. Непотребного нрава человек. Его даже сами бунтовщики боялись.
– Одно скажу, у их величества слишком доброе сердце! – отозвался князь.
Офицеров отправили в Житомир.
Солдат наказывали в Белой Церкви на площади. Одним из первых вывели Михея Шутова. Военный суд приговорил его к расстрелу, но по конфирмации смертную казнь заменили двенадцатью тысячами шпицрутенов и бессрочной каторгой. Своеобразное милосердие. Мало кто выдерживал изуверское истязание. Обычно наказание проводили в несколько этапов. После того как человек терял сознание, его уносили в лазарет, подлечивали и через некоторое время продолжали пытку. Двенадцать тысяч шпицрутенов означали мучительную и верную смерть, если не во время пытки, то в недалеком будущем. Николай полагал, что именно наказание шпицрутенами действует особенно облагораживающе на солдатские умы, ибо солдаты становятся как бы соучастниками и исполнителями высшей воли. Унтеры и особо ретивые командиры рьяно следили за тем, чтобы удары наносились в полную силу. Проявившему преступную жалость грозили те же шпицрутены. Много есть испытанных способов выколотить из людей чувство сострадания к ближнему, этот – один из самых верных.
Михей Шутов – один из тех удивительных людей, в коих стремление к добру и справедливости столь всеобъемлюще, что его невозможно поколебать никакими ухищрениями и пытками. Но бренное тело его уязвимо, как и у прочих.
У следователей сложилось твердое мнение, что Шутов – один из главных зачинщиков мятежа. Генерал Рот указывал, что он и «прежде явно был испорчен». Это значило, что долгие годы муштры и унижений не превратили его в механического человека.
Выведенный перед строем, чтобы принять крестную муку, оголенный до пояса, заросший сивой щетиной, не оправившийся после жесточайших побоев, Шутов беспомощно и слепо озирался по сторонам. Солдаты отворачивались от его простодушно-детского взгляда. Он кашлянул, набрал в грудь воздуху и густым фельдфебельским басом попытался выкрикнуть какие-то, может быть прощальные, слова, но распухшие губы ему не повиновались, прозвучало лишь глухое «Братцы!». Треснул воздух от барабанного рокота. Михей Шутов согнулся и пошел сквозь строй.
Спина Шутова вздыбилась сизо-багровым горбом, за его шагами стлался по земле кровавый след. Он брел молча, стиснув зубы, не издавая ни звука. После двухтысячного удара также молча повалился навзничь, дернулся раза два и затих. Двое солдат взвалили его на носилки и понесли в лазарет.
…Шутов чудом останется жив.
Окончательное исполнение приговора над черниговскими офицерами Соловьевым, Сухиновым и Мозалевским произошло в Василькове, где все и начиналось. Так сам император повелел. Он ведь во все мелочи вникал. Наказание на месте преступления казалось ему особенно внушительным. Виселицу соорудили огромного размера. Отправили гонцов с известием о предстоящем торжестве не только в Киев, но и дальше – в Полтавскую и Черниговскую губернии, откуда потянулись в Васильков целые обозы жадных до зрелищ помещиков со своими многочисленными семействами. День выдался солнечный, легкий.
Соловьев с грустью сказал Сухинову:
– Гляди, Иван Иванович, радости-то сколько у людей. Только что хоровод не завели вокруг виселицы. Темный, неразумный народ наш. Как кроты слепые.
– Будет время, очувствуются.
– Может, и будет, да нам его не видать.

Осужденным вторично огласили приговор, потом палач подошел к ним, каждого по очереди брал за руку и обводил вокруг виселицы. К ее основанию приколотили доску с именами Щепиллы, Кузьмина и Ипполита Муравьева. Зрители были недовольны, глухо роптали.
– Чего их за руку водить, ты их вздрючь повыше! – посоветовал из толпы солидный купеческий бас. Гогот, улюлюканье. Трое, склонив головы, застыли под виселицей. По лицу Саши Мозалевского потекли слезы.
– Не обращай внимания, – сказал Соловьев. – Это стадо баранов.
– Я не потому, – Мозалевский стыдливо отер слезы. – Мне Анастасия жалко. Какой человек был!
Сухинов отчетливо припомнил сияющую озорную улыбку Кузьмина, вспомнил угрюмоватого великана Щепиллу, юного восторженного Ипполита. Горько ему стало, зябко на пылающем солнце.
– Они в нашей памяти не умрут, незабвенные братья, – сказал он. – И Сергей Иванович навсегда будет с нами, до последнего часа, наш отец и учитель дорогой!
Соловьев кутался в халат, молчал. Ему казалось, что они стоят здесь под виселицей, освистанные и осмеянные, уже очень давно и, может быть, их еще повесят. «А лучше бы и повесили, – думал барон. – Чем гнить заживо на каторге. Кто знает, не придется ли еще позавидовать тем пятерым?..»
Под конвоем их отвели в городскую тюрьму и тем же вечером отправили в Киев.
3
Кто он такой, думал Сухинов о царе, этот человек, которому дана власть распоряжаться жизнью и смертью любого из нас? Стоит ему поморщиться, выразить недовольство, и сотни высокопоставленных приживалов, тоже облеченных властью, сломя голову мчатся творить суд и расправу. По монаршей воле они послушно вершат страшные, нечеловеческие дела – пытают, вешают, истязают, травят, как стая науськанных псов. Кто же он – царь? Живущий в довольстве и развлечениях, не испытавший и малой доли лишений, которые приходится испытывать миллионам его подданных. И вот нет в живых Муравьева, Кузьмина, Щепиллы и многих других, благородных, смелых, преданных родине людей, а сей жестокосердный человек торжествует и продолжает осуществлять свои гнусные замыслы. Да неужто он о двух головах? Неужто не найдется на него управы? Рожденный матерью, он ведь смертен, как все люди. Будь у Сухинова возможность, очутись он лицом к лицу с извергом, кажется, не задумываясь, открутил бы поганую голову и тогда бы, может быть, умер легко и спокойно… Ни на кого другого не копил Сухинов столько желчи, как на этого, никогда им не виденного человека, и в самые отвратительные часы, когда бывало невыносимо жить, тешил себя несбыточными мечтами о мщении.
В киевской тюрьме, в общей камере, они пробыли несколько дней. Их бы сразу отправили, да пришлось ждать, пока выздоровеет Андрей Быстрицкий. По этапу они должны были идти вместе. Быстрицкого свалила горячка, которую один из охранников определил как «огневицу».
– В огневице догорает барин, – посочувствовал служака из инвалидной команды. – Скоро отмается.
– Не каркай, губошлеп! – оборвал его Сухинов.
– Каркай не каркай, но эта болезнь нам известная. От нее лекарств нету. Кровь, значит, воспламенилась и жжет нутро.
– Вы бы лучше оковы с него сняли. Не убежит ведь.
– Наше дело подневольное…
Непонятно было, помирает Быстрицкий или нет, но он почти не приходил в сознание, метался в жару, бредил. Помочь они ему ничем не могли. Приходил тюремный доктор два раза, прописал порошки, но тоже особой надежды не подал. На требования офицеров устало отмахнулся:
– Что же вы хотите, господа? Для него сейчас лучшее лекарство – теплая постель, уход и хорошее питание. А тут, сами видите…
Быстрицкий в бреду звал маму, плакал, жаловался на какого-то Семена Семеновича, иногда вскакивал и с воплями начинал бегать по камере, никого не узнавая, рискуя разбиться о стены. В такие минуты в нем пробуждалась удивительная сила, они втроем еле-еле с ним справлялись.
– Может, и к лучшему для него, если помрет, – говорил обреченно настроенный Соловьев. – Вот так, не приходя в себя. Главное, чтобы мучений поменьше.
Они сняли с себя все, что могли, укутывали Андрея тряпками, рваными, не сохраняющими тепла одеялами.
– И за это кто-то должен ответить! – скрипел зубами Сухинов. – Знаю, с кого спросить, да вот руки повязали, не дотянешься!
На четвертые сутки больному стало лучше, ночью он спал спокойно, утром обвел товарищей просветленным взглядом и попросил есть. Заглянувший проведать его доктор с удивлением отметил, что кризис миновал и теперь юноша, пожалуй, вне опасности.
– А вы говорили, господа! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет… Крепкий организм у вашего друга.
Однажды заключенных навестил киевский полицмейстер полковник Дуров. Круглолицый, бритый наголо, добродушный человек, маявшийся сильной одышкой. Он с участием расспрашивал арестантов об их нуждах.
– Все у нас отлично, – сказал ему Сухинов. – Все слава богу. Обо всем начальство позаботилось. Кормят раз в сутки, зато бурда такая, что и свиньи есть не станут. С нашего больного товарища оковы не сняли, чтобы ему ловчее было помирать. По ночам крысы за пятки щекочут, тоже развлечение. Нет, жаловаться нам не на что. Грех жаловаться. Мы же не какие-нибудь твари неблагодарные.
Взгляда Сухинова полковник не выдерживал и обращался исключительно к Соловьеву, показавшемуся ему самым благонравным.
– Ваше положение я понимаю и сочувствую. Но, с другой стороны, господа, вы осуждены, как государственные преступники, а для содержания подобных узников существует особый циркуляр. Нарушать законы не в наших силах. Да и не в чьих! – Дуров не удержался от многозначительной улыбки. – Тем не менее я пришел к вам с хорошими известиями. Некоторые киевские граждане, называть их имена я не уполномочен, зная вашу нужду, из христианского сострадания собрали некую толику денег, которую я и готов передать вам немедля. – С тем Дуров начал рыться в карманах, но Соловьев его опередил:
– Премного благодарны вам и всем киевским доброхотам, но деньги эти оставьте сиротам. Мы в подаянии не нуждаемся!
– О, гордость, гордость, господа! Понимаю и разделяю.
– Если вы действительно хотите помочь, – обратился к нему Сухинов, – то у меня есть одна просьба. Я заказал портному офицерское обмундирование, теперь оно мне ни к чему. А платье готово. Не возьмете ли вы на себя труд распорядиться продать обмундирование. Деньги нам очень нужны. Мы, видите, изрядно-таки пообносились.
Полковник охотно взял на себя поручение. Перед тем как уйти, мялся, мялся, вдруг спросил:
– А правду ли я слышал, господа, что ваш преступный вождь Муравьев, упокой, господи, его грешную душу, собирался… – полковник пугливо оглянулся, – самого себя царем объявить?
– Это уж как водится, – отозвался Сухинов.
– Как же вы, дворянского происхождения люди, за ним увязались?
– Нечистый попутал! Вы уж не забудьте про портного.
Довольный, одышливо пыхтя, полковник удалился.
– Вот они Дуровы, дубы российские! – воскликнул Мозалевский.
– Невежество ума, как и нравственное убожество, есть следствие порочного социального устройства, – научно объяснил барон Соловьев.
– Обманет ведь проказник краснощекий, – сокрушался Сухинов. – Не видать мне моих денег. Он и приходил-то, чтобы на нас поглазеть, как в зверинец ходят.
И точно. Через день Дуров опять заглянул в тюрьму и на напоминание Сухинова начал отговариваться, приводя какие-то невразумительные доводы. Договорился до того, что предложил Сухинову во избежание бесполезных хлопот пожертвовать деньги на церковь. Сухинов рассмеялся.
– Даже чудно слышать от такого доброго и великодушного человека, как вы, ваше превосходительство. Вы же знаете, что нам предстоит пройти семь тысяч верст этапом, без одежды и денег. По совести, не мы богу должны помогать, а он нам.
Дуров сочувственно зачмокал губами, сокрушенно покачал головой:
– Да, да, конечно, я разделяю… Извольте, все что в моих силах…
Больше он в тюрьме не появлялся.
Ранним утром в начале осени арестантов, закованных по рукам и ногам, вывели из ворот киевской тюрьмы. Отсюда начинался их великий страдальческий путь. Они имели при себе на четверых два рубля серебром. Утром, в канцелярии, они встретились с несколькими солдатами из своего полка, которых отправляли в Грузию. Солдаты с трудом узнали своих командиров. Были и объятия и слезы. Были уверения в преданности и пожелания счастья. Взаимные просьбы о прощении. Соловьев, посоветовавшись с друзьями, отдал рубли солдатам. Они не брали, отказывались, но Вениамин сказал, что им скоро пришлют деньги родные. Он сказал: молитесь за Сергея Ивановича, братцы!
Через Козелец, Орел, Калугу, по размокшим от первых дожей дорогам, они брели в Москву. Ночевки в тюрьмах вместе с ворами, убийцами не восстанавливали, а отнимали последние силы. Их кормили размазней из подгнившего пшена и зачерствелым хлебом. Кандалы не снимали.

Изредка представлялся случай проехать часть пути на обозной телеге. К Быстрицкому приступами возвращалась лихорадка. Он валился на телегу и делался как каменный. Товарищи не надеялись, что он дойдет до Москвы.
Сухинов из гордости на телегу не садился. Шел ровным шагом, взъерошенный, осунувшийся, молчаливый. Думал свою заветную думу о мести. Ненависть до того в нем бушевала, что он иногда начинал бормотать вслух что-то невнятное, угрожающее.
Одну из последних перед Москвой ночевок, в Кронах Орловской губернии, они запомнили навсегда. Фантастическая, нереальная была ночь, которая чуть их не погубила. Тюремное помещение состояло из двух небольших комнат, куда натолкали человек сорок арестантов. Тут были и настоящие тати, ушлый свирепый народец, не боящийся ни огня, ни крови, и просто задержанные для опознания бродяги, и вовсе непонятные люди – юродивые, нищие, калеки. Было тут и четверо женщин неопределенного возраста, сектанток-фанатичек. Эти женщины, чучела с сизыми подобьями лиц, находились здесь давно, их гниющие тела распространяли невыносимый смрад. Даже при такой тесноте вокруг них образовалось пустое пространство, к ним не решались приближаться. Какой-то мужик со свисающими до глаз волосами – видимо, под волосами он прятал клеймо – взялся дразнить эти кошмарно шевелящиеся и стонущие полутрупы. Он издали тыкал в них палкой и с утробным гоготом изрекал чудовищные непристойности.
– А ну, красавицы, подымайсь живо! – вопил изувер. – Неча отлеживаться! Надо ребяток потешить!
Сухинов, приблизясь, заглянул в дергающееся лицо, без взмаха ударил кандалами в пах. Разбойник перегнулся пополам, лег на пол и долго не мог отдышаться. Отдышавшись, он сказал Сухинову:
– Что ж, барин, видать, не дожить тебе ноне до утра!
Дружки его надвинулись ближе, свирепо загомонили.
Видя перед собой грязные, изуродованные морды, Сухинов зашелся от ярости.
Может, его и спасло то, что оглушительный взрыв ненависти помешал ему сразу кинуться в драку, приковал к полу. Соловьев и Мозалевский успели на него навалиться, оттащили, странно сомлевшего, в сторону.
– Ну что ты, что ты, Иван! – бормотал Соловьев. – Как не стыдно! Это же не люди, обезьяны! Остынь, пожалуйста!
Сухинов задыхался, язык ему не повиновался. Он сел у стены, закрыл лицо ладонями и так пробыл несколько минут. Потом спокойно сказал:
– Да, ты прав, Вениамин. Мы не должны уподобляться обезьянам. Спасибо тебе.
Товарищи заползли под нары, уговорив Сухинова лечь у самой стены, загородив его своими телами. На сыром полу, в нечистотах они пролежали до рассвета. Никто глаз не сомкнул. Под утро Саша Мозалевский впал в тихую истерику. Сначала он негромко по-щенячьи всхлипывал, а потом начал говорить что-то несуразное:
– Я к нему поеду и скажу: милостивый государь! Он меня выслушает, обязательно выслушает. Это не по-божески. Друзья! Вы помните, какое сладкое солнце бывает в летние дни. Мы не ценили. Ах, оно греет сердце, как женские объятия… У меня есть невеста. Вы ее не знаете, господа! Я не хотел вам говорить, но теперь все равно. Ведь мы умираем! Я хочу с вами попрощаться! Завтра я уеду от вас, а там как бог даст. Не знаю, удастся ли обвенчаться. Она очень бедная и больная девушка. У нее никого нет на свете, кроме меня. Она умерла в прошлом году. Скоро мы с ней увидимся!
Слова истекали из его уст, полные мольбы и упрека.
– Что с ним?! – с ужасом спросил Быстрицкий.
– Горячка, – отозвался Сухинов.
– Что-то надо делать! Надо позвать!
– Некого звать.
Его охватило оцепенение безразличия. Ему казалось, как и бредящему Мозалевскому, что с минуты на минуту глаза его сомкнутся навеки. Это его не тревожило и не пугало. Сашины неразборчивые восклицания находили лишь слабый отклик в его душе. «Как слаб человек, – думал он. – Как легко его растоптать, унизить, расплющить. Любая тварь на земле сильнее человека».
Он понимал, что такие мысли, тусклые и безнадежные, приходят к нему в голову от усталости, от надрыва. Он легко мог бы их прогнать, начав вспоминать о Муравьеве, о своих погибших товарищах, и даже о тех, кто лежал с ним рядом, больных и растерянных, но нашедших в себе силы прийти на помощь и сейчас заслонявших его от возможного нападения. Но он не делал этого, потому что неизъяснимо сладко и желанно было испить до дна горькую чашу самоуничижения, чтобы затем, может быть, крепко встать на ноги. Он сдаваться не собирался и бережно, как скупец, сохранял бесценные крупицы жизненной энергии, упрятав их в самых глухих погребах сознания.
Утром их погнали дальше. Мозалевский так и не воротился из потустороннего мрака. Он послушно выполнял все, что ему приказывали, но ноги его подгибались, в глазах – пустота. Не сдюжил и Соловьев. Он не мог идти сам.
– Это уж точно конец, слава богу! – сказал он Сухинову. Конвоиры, матерясь, бросили обоих на повозку. Но и лежать они не могли, то и дело переваливались на край и волоклись ногами по земле. Пришлось привязать их к телеге веревками.
Сухинов, спотыкаясь о собственные оковы, покачиваясь от изнеможения, упрямо шагал следом за повозкой. Со стороны казалось – не человек идет, какая-то заводная кукла еле передвигает ноги.
– Эй ты, инвалид! – крикнул ему жандарм. – Може, тебе карету подать?
Поручик поднял налитые кровью глаза, усмехнулся.
– С коня не упади, царев подголосок!
Он не нуждался ни в чьей помощи и ни в чьем сочувствии. Он думал, что, если понадобится, сумеет дотопать до самого дальнего края земли.
4
Павел Голиков, разжалованный и битый кнутом фельдфебель, каторжанин Зерентуйского рудника, не человек, а дьявол, которого боялись и преступники, и наемные работники, и надсмотрщики, третьи сутки маялся зубной болью. Зубная боль довела его до умопомрачения. Он лечился: грыз деревяшки, сосал по совету ушлого Васьки Бочарова корешки разрыв-травы, пытался вырвать зуб пальцами, но все без толку. Коренной зуб сидел крепко и, чем дальше, тем злее раскаленным шилом впивался в башку. Днем он ходил к старичку лекарю и просил помочь христом-богом, посулив за лечение штоф водки. Лекарь засунул ему в рот корявые пальцы, подергал зуб, от чего Павел Голиков взвыл, укусил лекаря за руку. Лекарь обиделся, долго разглядывал окровавленный палец, потом сказал, что такой зуб, каким владеет Голиков, выдрать нет никакой возможности, его можно только отломать вместе с челюстью.
– Это как же, Захарий Иванович? – удивился Голиков. – Рази так лечат, чтобы челюсть ломать?
– А разве так делают, чтобы палец до крови кусать?
Голиков глянул на лекаря светлым пристальным взглядом, тот вздрогнул и затрепетал.
– Ты на меня так не зыркай, Голиков, – попросил старик. – Если со мной чего случится, то тебе боле никто не поможет… Ты давай перетерпи дня два, а там чего-нибудь придумаю.
– Ты уж придумай, постарайся, – мягко сказал Голиков.
Лежа среди товарищей на нарах, он терпел страдание до полуночи. Его терзала не столько сама боль, сколько ее сверлящая неизбывность, застылость на одной точке. Наконец терпение иссякло, и он пополз по нарам, давя локтями и коленями спящих и бредящих, не обращая внимания на хрипы и жуткие со сна вскрики.
Барак представлял собой длинное дощатое строение с одной входной дверью, которая на ночь запиралась снаружи. В противоположном от двери углу – большая глиняная печь, ее, если было чем, топили и зимой и летом. На ней сушили тряпье и обувку. Печь складывали, видно, без понятия, грела она плохо, зато угару напускала много. Три узких зарешеченных окошка не поспевали вытягивать дым и копоть. Посреди барака проход, по обеим сторонам низкие нары. На них впритык умещалось человек сто. Дверь запирали после переклички часов в девять вечера, и тогда на этом замкнутом пространстве вершилось каторжное правосудие и приводились в исполнение приговоры. Много кошмарных сцен видели деревянные стены. Много слышали бесполезных молений о пощаде…
Добирался Голиков к хитроумному человеку, дружку своему Ваське Бочарову, по прозвищу Стручок.
Василий Бочаров, сын богатого астраханского купца, ныне тоже многажды битый плетьми вечный каторжник, был человеком до некоторой степени образованным и весьма дотошным. Прошлое его было темным, как и его путаные речи. Иногда он говорил, что попал на каторгу за убийство оскорбившего его городского головы, в другой раз рассказывал, что привела его в общество воров и разбойников святая любовь к генеральской дочке, которой он насильно сделал ребенка, в третий раз объяснял свое несчастье наветом завидующих его колоссальному богатству купцов, обвинивших его перед продажными судьями в политическом заговоре; но что бы Стручок ни выдумывал, он каждый раз добавлял, что мытариться ему остались считанные денечки, и уж кого-кого, а его-то любезный родитель непременно отсюда вызволит.
Каторжные Бочарова уважали, насколько уместно это слово в среде отпетых, пропащих людей. Он пользовался среди них авторитетом, каким пользуется шаман-заклинатель у толпы своих дикарей-соплеменников. И побаивались его, пожалуй, не меньше, чем Голикова. Стручок был сложения не очень крепкого, в свары на людях никогда не ввязывался, разговаривал вежливым, елейным голоском. Может, потому и побаивались, что он был не похож на других, да вдобавок пользовался покровительством Голикова. От такого ласкового говоруна, того и гляди, ожидай удара в спину. Бесчеловечна каторга, страшны ее законы. И писаные, и неписаные. Гибель подстерегает тут человека не то что за каждым углом, она висит над ним постоянно, как гиря на тонком волоске. Дунь неосторожно – оборвется волосок, размозжит гиря башку. Закон здесь один: либо затаись навечно, чтобы от тебя ни шороху, ни скрипа, либо, если чувствуешь в себе возможность, рви, кусай, бей неустанно, без предупреждения, без малой жалости, пока кто-нибудь не найдется сильней тебя и не прижмет к ногтю. Тогда, коли остался дышать, схоронись, превратись в растение, умолкни, как будто и нет тебя на белом свете.
Голиков дополз до Бочарова, вытолкнул лежащего подле него человека с нар, растянулся на спине, прислушался. Зуб, словно отдельно жил, торкался то в висок, то вниз, в челюсть. И была охота вырвать его оттуда вместе с мясом, вместе с деснами.
– Эй, Стручок, слышь, проснись!
– А я и не сплю, Паша, давно не сплю. Как ты по нарам-то зашуршал, подобно змею, я и проснулся. Я тебя, Паша, по голосам признал. Где ты проходишь, там голоса у людишек делаются особые. Дар у тебя божий, Паша, тревожить людишек. Может, ты и послан на землю с особой целью. Может, ты, Паша, и есть воскресший Иисус!
– Заткнись, балаболка!
– Зачем пришел?
– Слышь, Стручок, зуб меня измаял. Нету мочи терпеть!
– Зуб? А что же я-то, Паша, могу с этим сделать? – Бочаров тихонько захихикал. – У меня, Паша, средствов от зубной ломоты нету. Тебе бы теперь к бабке-заговорщице податься. Вот была у нас в Астрахани одна старуха – ведьма, ей-богу. Большой силы женщина. Ей твой зуб урезонить – проще простого, ото всего заговаривала. Сколь я ей, Паша, деньжищ сносил однажды, но счесть. И знаешь зачем? По дурости, Паша. Все ведь по дурости мы совершаем, и несчастья на себя накликаем по дурости… Жила со мной по соседству молодая кобылица, по имени Настя. А у той Насти бока – как поля необозримые. Очи у ней, Паша, словно два омута на реке в светлую ночь…
– Стручок!
– Аиньки?
– Ты зря мне душу не мотай!
Бочаров расслышал угрозу, поворочался на нарах, прислонился к дружку.
– Так я же тебе облегчения хочу, потому и треплю языком. Ты слушай, авось о зубе забудешь… Или бери лошадей и гони в Астрахань к той знахарке!
Голиков положил ладонь на плечо приятелю, сдавил. Что-то хрустнуло под рукой – не то кожа лопнула, не то сустав повредился. Бочаров не издал и звука, тяжело задышал, потом сказал:
– А ведь я говорил тебе, Паша, давай выбью зубик твой черенком. Я бы враз выбил, у меня сноровка… Я вот думаю, живем мы тут, как мухи в навозе. Кажется, хуже некуда. Про иного и помянуть язык не поворачивается. До того навозу этого нажрался – не человек, слизняк. Но гляди – и он за жизнь цепляется. Зачем? Почему все ее так боятся, карги проклятой, смертушки родимой? Чем уж она так страшна нам-то? Почему нежеланна?
– Я ее не боюсь, – сказал Голиков, трогая зуб.
– Ты не боишься, знаю. Потому – тебя боятся. От тебя ужас бесстрашия проистекает. Но ведь и на тебя, на твою удаль, Паша, управа есть. На каждое создание живое у господа удавка запасена. Вон он тебя зубом в дугу согнул. А ежели пытка, ежели не зуб, а из чрева тебе кишки начнут рвать, рази устоишь?
– К чему ты это, Василий?
Мирно сидели они на краешке нар, тихо беседовали. Они часто так беседовали.
– А к тому и, Паша, что пора бечь отсюда. Вот еще месячишко поковыряемся, до весны дотянем – и пора. Волюшки сердце просит.
Голиков, болея зубом, сказал:
– А куда бечь-то, Стручок? Что здесь, что на воле – все одно зверями жить. Без человечьего смыслу.
– Эва как!
– Тебе дивно? У тебя смысл завсегда одинаковый – нажраться послаще да поспать помягче. Да у того, кто послабже, кусок из горла вырвать. Не так разве?
– А у тебя какой же смысл, ежели не тайна?
– То-то и беда, что не ведаю. Твой мне не годится, озорство это, а иного не ведаю. Но я верю. Знаю, есть люди, у них правда и смысл. Такая правда, которая тьму рассеет. Тех людей бы встретить – они укажут.
– Жди, как же! Они укажут. Рылом в землю.
Нахмурился, почернел Голиков.
– Скоро, кажется, пристукну я тебя, Стручок, – сообщил он с сожалением. Бочаров презрительно хмыкнул. В темноте его мясистое лицо было похоже на блин.
– Нет, Паша. Это тебе хочется меня пристукнуть, но ничего ты мне не сделаешь. Не-ет! Ты без меня как слепец без поводыря. Богатырь ты – это да. Но умишко-то в тебе, Паша, скудный, хлипкий. Да и тот в лепешку смят подневольной жизнью. Без меня ты здесь околеешь, как паршивая скотина.
– Может, я и не умен, и книжек, какие ты читал, не ведаю, да все одно. Тебя-то я до печенок вижу. Сволочь ты и больше ничего. Для тебя не только здешние, для тебя все люди – дерьмо. А ты над ними в душе, как князь, потешаешься. Ты, Стручок, мразь, и руки у тебя липкие. Ты землю не пахал и потом ее не полил. В тебе, кроме слов, нету смысла. Если тебя раздавить, не кровь, а жижа брызнет, и вонища пойдет на всю округу.
Бочаров обиделся. Промеж них часто споры бывали, но обыкновенно Бочаров не обижался, ехидничал, а теперь вдруг обиделся и даже засопел от обиды, зафыркал.
– Вон ты как, Паша, открылся! Вон какая от тебя произошла благодарность за все мои заботы и благодеяния. Что-то и нынче ты ни к кому, а ко мне за подмогой подкатился. И я тебе не отказал! Значит, выходит, ты мужицкий заступник, а я мразь?! Это ты врешь, Паша! Давай у них и спросим, у мужичков. Кого они боятся пуще чумы, а у кого совета ищут. Ась?
Но распалял он себя понапрасну. В Голикове он нуждался больше, чем тот в нем. Неограниченная власть, которой пользовался Голиков среди каторжных, его чудовищная сила и напористость были надежным щитом для Бочарова. Ему и на каторге полегче жилось за могучей спиной Голикова, и в случае побега, на воле, в самых непредвиденных обстоятельствах Голиков мог пригодиться, как никто прочий. Правда, приручить его не удавалось. Свирепая натура бывшего фельдфебеля не терпела и намека на зависимость. С ним приходилось действовать осторожно. Более того, всегда опасный для окружающих, Голиков был опасен и для Стручка. Он это хорошо сознавал. Вспышки Пашиного гнева были непредсказуемы, и угроза прикончить купеческого сына могла осуществиться в любой момент. А могла так и остаться угрозой. Когда Голиков засыпал, вольно разметавшись на нарах, Стручок садился рядом и подолгу ненасытно разглядывал бородатое, смуглое, каменное лицо. Напружинивалось его хитрое сердце от нехороших желаний. С каким наслаждением он вонзил бы нож в это могучее неподвижное тело, в широкий выпуклый живот, с какой радостью увидел бы, как перекосится судорогой предсмертного испуга медвежий лик. «Когда-нибудь так и будет, – тешил себя Бочаров. – Никуда ты, боров, от меня не денешься! Но не сейчас, не сейчас… Ты думаешь, все тебя боятся, ты думаешь, и Васька Бочаров от страха очумел – на-кася выкуси! Давно уж ты ходишь у меня на веревочке и будешь ходить, пока мне надобно. А там поглядим, какую я тебе казнь приготовлю».
Бочарову сладко было думать, что он водит на веревочке закадычного дружка, но он заблуждался. Да и ненависть его к Голикову была невнятной, с примесью нежности и тревоги. Эти двое сошлись для того, может быть, чтобы убить друг друга, но каждый не представлял, как останется коротать свои дни в одиночестве.
В Москве Сухинова свалила болезнь. В госпитальном помещении тюремного замка все четверо тлели в беспросветных горячечных сновидениях. Когда кто-нибудь один ненадолго приходил в сознание, он видел изможденные, бледные лица своих товарищей, с трудом их узнавал и не мог понять, где он и что с ним. Однажды очнулись одновременно Сухинов и Мозалевский. Оба были так слабы, что еле шевелили губами.
– Где мы, Сухинов? – спросил Александр, с недоумением обводя взглядом потолок и стены.
– На привале, – ответил Сухинов не вполне твердо. – Скоро рассветет, и пойдем дальше. Ты пока отдыхай.
– Неужели мы еще живы? А мне казалось, что я уже… Знаешь, дорогой Иван Иванович, ко мне приходил недавно человек в сером халате с торбой. Он был похож на Сергея Ивановича. Он сказал, чтобы я укрепился духом, потому что все плохое позади. Государь нас помиловал и отпустит домой. Но потом на этого человека набросились крысы, стали кусать его и на моих глазах отъели у него ноги… О, это было ужасно! – Мозалевский заплакал.





