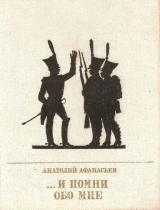
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Женщины понимали, что эти трое вынесли больше, чем все остальные, чем их мужья и братья. Они хотели вселить в них надежду, ободрить, и у них было что сказать. Уже несколько месяцев в Читинском остроге обсуждались возможности побега. Было несколько вариантов. Самый надежный, к которому склонялось большинство, – нападение на караул, захват города. Дальнейшее казалось нетрудным. Погрузиться на какое-нибудь подходящее судно и плыть на нем вниз по Амуру, до океана. А там уж как бог даст.
Но говорить об этом плане женщины не решились, боясь еще больше огорчить узников. Ведь их не оставляли в Чите, а гнали дальше.
Они, сострадая, произносили общие слова утешения. Они уже были наслышаны о Сухинове и обращались большей частью к нему, стараясь смягчить, отогреть его ожесточенное сердце. Их пугало его багровое, обмороженное лицо, на котором угрюмо сверкали угольно-черные глаза.
– Сухинов, милый наш брат, – говорила Волконская дрожащим голосом. – Успокойтесь, смиритесь. Лиза Нарышкина рассказывала о ваших настроениях. Так вы убьете себя прежде времени! Так нельзя жить! Нельзя жить ненавистью. Да, вам много причинили зла, но Христос учил прощать. Простите своих обидчиков, и вам станет легче. Надо жить надеждой. Все переменится к лучшему, вот увидите. Сейчас ночь, но наступит утро.
Сухинов с наслаждением впитывал в себя негу женского голоса. Он сказал:
– Оживите Муравьева, Щепиллу, Кузьмина, и тогда я прощу своих обидчиков, княгиня!
– Ах, боже мой! – воскликнула Трубецкая. – Ах, какая невосполнимая утрата для общества, для отечества!
Она-то хорошо помнила Сергея Ивановича. Он был так уверен в себе, жаркоречивый, красивый, бледный, похожий на апостола. И вот его нет, а ее Серж, осторожный, умный, благородный, сброшен на самое дно жизни. Чья в том вина? Ей ли понять? Она будет нести до конца свой крест, охотно разделит с мужем его муки, но душа ее отвергает жестокость и насилие, готовность к которым так и брызжет из глаз этого обмороженного, неусмиренного человека, бывшего поручика. Его товарищи, это видно, намного спокойнее и добрее. Но он обязательно погубит и себя и их, по его лицу бродит отсвет небытия. Его разум не внемлет словам тишины и покоя. Боже мой!
– Вы хотели добра, – попыталась она объяснить то, что чувствовала сама, – получилось зло. Пролилась кровь невинных. Бог и царь сильнее обыкновенных смертных, и они всегда будут правы. Надо смириться и возносить молитвы за упокой души павших братьев. Все иное – путь в бездну. Неужели это трудно понять?!
Напрасно она помянула царя. Сухинов посмотрел на нее отчужденно, как на врага.
– Вы сказали – царь, княгиня? Вы сказали: царь всегда прав? Будь он трижды проклят, ваш царь! Этот низкий и мелкий человечек вскормлен не материнским молоком, а змеиным ядом. Разве он наказывает, как подобает великому, за заблуждения наши? О, нет! Он мстит нам каждому в отдельности, как мстят коварные, злобные души. Да, да, княгиня! У того, кого вы называете царем, трусливая, подлая душонка, как у содержателя притона. Он всю Россию превратит в притон. Он замучает народ, всех своих подданных.
Лицо Сухинова пылало, слова соскакивали с губ, словно искры. Соловьев положил ему руку на плечо, но он сбросил ее.
– Что же можно сделать, что можно изменить? – прошептала Трубецкая, едва не теряя сознание от внезапно охватившей ее слабости, от робости перед этим человеком, перед его неукротимостью. Как будто в него вселились души всех казненных, всех замученных и через него требовали отмщения. Саша Муравьева рыдала.
– Я не покорюсь, – поклялся Сухинов. Он смотрел сейчас через головы стоящих женщин и видел что-то такое, чего никто из них не видел. Он повторил, как в бреду:
– Я не покорюсь! Я и каторжан подыму.
Соловьев осуждающе хмурился – он не понимал и не разделял гнева Сухинова. Саша Мозалевский словно ничего и не слышал, витал в облаках, ему важно было знать, не выглядел ли он несколько минут назад слишком жалким, проливая слезы. Сухинов опомнился, взял себя в руки, скривил лицо в беспечной ухмылке.
– Простите, уважаемые дамы, мою солдатскую несдержанность! Нервы, знаете ли, расшалились, расшатались, не пойму от чего.
Притихшие было гостьи обрадовались, оживились. Наговорили еще много ласковых и утешительных слов, овеянных грустью. Но обращались уже не к Сухинову и даже избегали на него смотреть. Он чувствовал, что напугал их, оттолкнул от себя, и с горечью думал, что так было и так будет дальше: многие не поймут и не примут боли, сосущей его кровь. Но он ошибался на сей раз. И Волконская и Трубецкая прекрасно его понимали, желали ему добра, только его неистовство было им не по плечу. Они избегали его взгляда, потому что опасались прочитать приговор и себе и своим близким. Суровый приговор человека, продолжающего борьбу в одиночку. Когда прощались, Волконская обернулась к нему, попросила:
– Сухинов, не осуждайте нас, мы всего лишь слабые женщины. Будьте снисходительны!
Вязкий комок заклинил горло Сухинова, он с трудом, закашлявшись, ответил:
– Эту встречу я никогда не забуду!
Ранней весной, которая в этих местах отметилась тридцатиградусными морозами, спустя полтора года после выхода из Киева, черниговские офицеры достигли наконец места, где им предстояло, может быть, провести всю оставшуюся жизнь. Это был Зерентуйский рудник, забытая богом дыра. До Китая отсюда рукой подать. Промежуточная остановка между небом и землей. Оглядев необитаемую местность, Соловьев сказал товарищам:
– Люди здесь жить, разумеется, не могут!
Сухинов невесело засмеялся, Мозалевский промолчал. Люди тут жили тем не менее: каторжники. Помимо всякого сброда сюда были сосланы околевать бывшие солдаты, среди них и участники бунта Семеновского полка 1820 года, открыто выразившие возмущение жестокостью командира.
Сразу по прибытии произошло маленькое недоразумение. Конвойные казаки, торопившиеся в обратный путь, потребовали вернуть им кандалы. Они должны были за них отчитаться по возвращении. К кандалам государство Российское относилось бережно, на них всегда был спрос. Офицеров расковали и отдали железки скандальным казакам. Те, довольные, ускакали. Местное начальство находилось в затруднении: как поступить дальше? Письменного предписания держать бунтовщиков в оковах у них не было. Но, с другой стороны, не было и противоположного предписания. Мелкому чиновнику трудно решить самостоятельно такой важный вопрос. Все-таки, поразмыслив, оставили вновь прибывших без оков – до новых распоряжений.
И с жильем черниговцам, можно сказать, повезло. Их поместили всех троих в избе, срубленной на совесть, с хорошей печью.
Первую ночь, угревшись, они никак не могли уснуть: непривычно было шевелить освобожденными руками и ногами, спокойно, не боясь чужого уха, разговаривать.
Соловьев вслух мечтал:
– Не печальтесь, друзья мои! Тяжкие испытания выпали на нашу долю, но не напрасно потратили мы свои жизни. Труд и мрак впереди, но я верю, настанет день, и мы выйдем на свободу, может быть, больные и старые, но выйдем. Братья на воле не забудут нас. Давайте опираться друг на друга, давайте всегда помнить о чести нашей и достоинстве. Козни дьявольских сил не омрачат наш разум и не испепелят души. И здесь, в сумраке каторги, постараемся сохранить живым огонь Прометея!
– О да! – готовно подхватил Мозалевский. – Сохраним огонь. Вы правы, барон.
Сухинов пыхтел цигаркой, недовольно ворчал:
– Красиво говоришь, Вениамин. Жаль, царишка Николай тебя не слышит. Ему бы понравилось. От твоих речей за версту несет смирением.
– Что тебе дался царь, Иван? Разве в нем дело?
– То и дался, что подлец. Вы как хотите, а я тут в норе долго сидеть не намерен.
– Что ты задумал, Сухинов, опомнись!
– Ничего не задумал. Огляжусь, тогда задумаю. – Приподнялся на локтях, пытаясь во мраке разглядеть лицо Соловьева, сказал вдруг с искренним удивлением: – Неужели вы вправду намерены гнить здесь заживо?! Вениамин! Саша!
После паузы, смущенный упреком, прозвучавшим в голосе товарища, Соловьев нехотя ответил:
– Есть обстоятельства, против которых человек бессилен. Пытаясь что-либо изменить, он тем скорее приближается к гибели. Мы сейчас именно в таких обстоятельствах.
– Вы – но не я! – воскликнул Сухинов. – Запомните, барон, вы – но не я. Меня обстоятельства устраивают вполне. А трус всегда найдет объяснения для бездействия!
– Как вам угодно, сударь! – сухо бросил Соловьев. Он должен бы был ответить дерзостью на оскорбление Сухинова, но не сделал этого. Предчувствие беды сковало его язык… Много лет спустя он напишет про Сухинова слова, полные любви и восхищения. «Как теперь, смотрю на него: высокий, стройный рост, смуглое, выразительное лицо, глаза быстрые, проницательные; эта задумчивость, даже некоторая суровость в выражении лица – приковывали внимание при первом на него взгляде. Но кто знаком был с Сухиновым, кто знал душу его, тот неохотно с ним расставался…»
Часть третья
ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ
1
Все чаще и отчетливее вспоминались Сухинову картины прошлого: восстание, разгром, бегство. Иногда ему казалось, что он понимает, в чем ошибка и в чем причина поражения. Больше других ему хотелось бы повидать двух людей – светловолосого, всегда так приветливо улыбающегося Кузьмина и Сергея Ивановича. Они оба были ему родными, но как же небрежен и брюзглив он бывал подчас с простосердечным Анастасием и как позорно глух к мудрым истинам, кои пытался ему открыть Муравьев. Да и не один он был глух. Как раз в этом он и видел теперь одну из главных причин столь страшного краха их благородных замыслов. Конечно, в этом. Их много собралось – удалых, поднявшихся на святое дело с открытым сердцем, но незрячих, плохо понимающих, за какую правду готовы они положить головы. Было много говорено красивых слов – «воля народная», «свобода для всех», «смерть во имя отечества», – эти слова были довольно расплывчаты, их туманный смысл легко доходил до сердца, но слабо затрагивал разум.
Сергей Иванович знал больше их и видел дальше их, он не в завтрашний день смотрел, а через годы и потому не спешил. А они, озорные щенята, торопили его, готовы были упрекать чуть ли не в трусости – что мог он один или вдвоем с Бестужевым поделать с их нетерпением, если сошлось так, что, кроме как на них, ему не на кого было опереться в роковые дни. Это они его подвели, а по он их. Впрочем, нет, никто никого не подвел, все они были честны и готовы сражаться, и некого упрекнуть. В том-то и дело.
Не Муравьев ли сказал ему однажды: «Ты пойми, Иван Иванович, в революции побеждают не пушками, не только пушками. Можно выиграть сто сражений и ничего не добиться. Потому что революция сначала должна произойти в сердцах и умах». Что понял тогда он, Сухинов, в этих словах? Ничего, попросту отмахнулся от них, как от умственной блажи. Только здесь, на каторге, он прозрел, и эти слова больно кололи его душу.
Когда он смотрел в отчаянные глаза каторжников, он видел там только бешеную муть и ярость – и ничего более. Эти люди готовы были на все, но ради чего? Ради только собственной свободы, ради будущей богатой гульбы, ради мести. Мужественные, гордые есть среди них люди, а верить им нельзя, прав барон. Нельзя им верить, потому что они слепы, тяжкая жизнь их давно ослепила, и разве сможет он открыть им глаза, он, перед которым истина только-только забрезжила, как сияющий алый цветок в голубоватой дымке.
Но поднять этих людей на восстание он сможет, и у него есть цель. Он придет в Читу, освободит политических ссыльных, непогибших братьев своих.
После ночного разговора Сухинов решил не делиться с товарищами своими планами. Да они не особенно ими интересовались, решив, что поручик успокоился, осознав полную безнадежность сопротивления. Прошло несколько дней – все они немного воспрянули духом. Что даром бога гневить – по сравнению с другими им повезло: работа в рудниках тяжелая, непривычная, зато ходят они раскованные и живут в избе. Есть кое-какие деньжата: можно прикупать еду и одежду. И всегда тешит надежда на какой-нибудь царский манифест, на прощение, на забвение грехов. Подошлют еще денег (родные или друзья) – к лету можно будет купить собственную избу. Это разрешается. Действительно, не так страшен черт, как его малюют. Чаще улыбался Саша Мозалевский, спокойнее смотрели глаза Соловьева. Он возвращался мыслями к оставленным где-то там, за предельной чертой, близким, дорогим людям, беседовал с ними, и в этих незримых встречах уже не было прежней горечи и беспросветности, похожей на разговор мертвого с живыми.
Кто возьмется их осудить: они пытались осуществить великое, благородное дело, их попытка окончилась неудачей, значит, теперь они могут и даже обязаны позаботиться о себе, по мере сил постараться облегчить свою участь. Для чего? Господи, да просто для того, чтобы жить!
Барон полюбил разговаривать с Сашей Мозалевским о всяких простых вещах, о пустяках, о таком, о чем раньше постыдился бы думать всерьез. Например, они могли подолгу и с увлечением обсуждать, почему у белочки, которую они давеча видели на пригорке, хвост не рыжий, а явно в черноту, – может, это и не белочка была. Могли повздорить и осыпать друг друга упреками из-за способа заварки чая. «Как это раньше я не понимал важности и значительности всего этого?» – удивлялся Соловьев. Он оброс густой курчавой бородкой, светлые глаза его ввалились, и если у него что-нибудь спрашивали, он отвечал быстро и с приятной вопросительной улыбкой: мол, понимаю, совсем ты не о том хотел узнать, так узнавай, не стесняйся, я охотно тебе отвечу. У каждой болезни есть признаки выздоровления, свойственные лишь этой болезни. Души этих людей выздоравливали, опрощаясь и утешаясь соприкосновением.
Сухинов лежал по ночам без сна, незряче глядя в потолок. Он лежал всегда неподвижно, на спине, и друзья его разговаривали шепотом, думая, что он спит. Потом они сами засыпали, а он продолжал бодрствовать, паля цигарку. Под утро впадал ненадолго в вязкое, глубокое забытье. Этого ему хватало для отдыха. Он не мучился бессонницей – сосредоточенно, нервно размышлял. План побега (вернее, сначала несколько планов, а потом один главный план) был продуман им уже во всех деталях. Много раз мысленно он отшлифовывал его и больше не находил в нем изъянов и шероховатостей. Он продумал и наилучшее время для выступления – где-нибудь в конце мая, когда земля оттает, воздух прогреется и оборванным, истощенным людям легче будет совершать переходы. План был надежен и безупречен, как верный удар саблей. На первом этапе – захват рудника боевой группой, составленной из каторжников. Поручику Сухинову это представлялось нетрудным. Он бывал и не в таких переделках. Несколько вооруженных солдат, охранявших рудник, – это не противник. Начальство – под замок. Тех из солдат и каторжников, кто захочет присоединиться к восстанию, вооружить и немедля двигаться к ближайшему Нерчинскому заводу. Там все то же самое. Захват порохового склада, арест начальства, пополнение отряда. И так, от рудника к руднику, от завода к заводу, маршем идти на Читу. К тому времени, Сухинов прикинул, у него будет не менее трехсот вооруженных людей, среди которых немало опытных в военном деле сосланных солдат. Чита, как он успел выяснить, не Измаил. Взять ее неожиданным штурмом будет нетрудно. В Чите он освободит из острога политических ссыльных и сформирует настоящее войсковое соединение. Там – много оружия, большие запасы продовольствия, будет и время, чтобы обучить и подготовить войско к большому походу. Николай, разумеется, двинет на Сибирь регулярные войска. Но Сибирь просторна и бездорожна, тут много места для маневра. В крайнем случае можно будет уйти в Китай. Да и стоит ли заглядывать так далеко вперед? Главное сейчас – вырваться на волю и освободить заключенных в Чите. Там найдутся люди поумнее его и поопытнее в стратегии. И в этом нет ничего обидного. Каждый может сделать только то, что ему по плечу.
Сухинов был осторожен. Свой план он считал вполне осуществимым, но главное – удачно начать, вовремя запалить фитиль. Многое зависело от состава боевой группы. При каждом удобном случае Сухинов заговаривал с каторжанами, прощупывал их. Все не те попадались – отребье, пьянь. Многие, он видел, готовы продать душу черту ради глотка вина, но за ту же цену они могли продать и отца с матерью. Несколько человек вроде бы казались получше других, позлее, пожестче, но тоже – все не то, не то. На худой конец, годились для рукопашной. Был и другой немаловажный вопрос: поверят ли каторжники Сухинову, как-никак бывшему офицеру, чуждому для них человеку? Нужен был вожак из их среды, надежный и разумный мужик. Может быть, сгодился бы Аксений Копна, но его здесь еще плохо знали, да и что-то он быстро начал чахнуть, опускаться. Сухинов никак не успевал поговорить с ним с трезвым. Он уже начинал приходить в отчаяние, когда случай свел его с Павлом Голиковым.
И как он его раньше не приметил? Такого раз увидишь – пять ночей будет сниться. Сухинов в сумерках домой возвращался и вдруг видит у дороги – не то дерево погнутое, не то леший. Оказалось, человек. Сидит прямо в снегу дюжий мужик, портянку размотал и ногу разглядывает, загнув близко к роже. Сухинов замедлил шаг, поостерегся. Мало ли. Каторжники – народ вострый.
Мужик ногу в обувку запихал, поднял лохматую, лешачью голову.
– Здорово, прохожий!
– Здравствуй, любезный! Ты чего здесь расселся? Не подморозишь зад-то?
Мужик не ответил. Взгляд из-под кустистых бровей – влажный, недобрый, прямой. Сухинов отвык на каторге от таких взглядов. Так каторжане только в спину умели смотреть. Наконец мужик сказал:
– Это ты, значит, винишком всех потчуешь?
– Не всех, а кто по душе.
– Так меня угости.
– А ты кто?
– Бывший фельдфебель карабинерского полка Павел Голиков. Ныне из списков всяческого сословия вычеркнут. Про тебя не спрашиваю, знаю. Ты поручик Сухина, который на царя-батюшку вздыбился. Чего это ты на него так осерчал? Он ведь не нами придуман.
– А ты его любишь?
Голиков коротко хохотнул.
– Много спрашиваешь, барин. Угости, тогда спрашивай.
Голиков со снега не подымался, круг под ним подтаял, подернулся темной каймой. Слова цедил он нехотя, точно напрягался и томился от необходимости слов. Он не просил, он вроде требовал. Положенного требовал. Верное предчувствие, как тиски, сдавило грудь Сухинова. Неужто зверь сам на него вышел? Он сделал то, чего прежде не делал. Он знал, что товарищей дома нет, они придут не раньше чем через час.
– Вставай, фельдфебель, – сказал он мягко. – Пойдем в избу, чего на холоде торчать.
Очень важно было Сухинову, что Голиков на это ответит, как себя проявит. Голиков ответил с достоинством, как бы давно ожидал приглашения и сетовал на Сухинова, что тот время теряет.
– Оно конечно, – сказал он. – В избе приятнее.
Сухинов усадил гостя за стол, принес из сеней кусок вяленой рыбины, поставил стаканы, штоф. Голиков следил за приготовлениями с одобрением, заранее обтер руки о штаны. Сухинов молча разлил водку, себе на донышко, гостю – полную чашу.
Он следил, как Голиков пил: без суеты, неспешно, чисто, аккуратно. Допив до дна, облизнул усы.
– Хорошо, барин, ей-бо, хорошо! Самый бы раз по второй. Чтобы, значит, застоя не получилось в брюхе.
Сухинов налил. Голиков повторил все движения до тонкости. Единственно к обряду пития прибавилось, что слегка аппетитно крякнул. Взгляд его смягчился, какая-то забавная искра в нем всплыла. Похожая на блик по воде.
– Уважил, поручик! Спаси тя Христос!
Что за человек к нему пожаловал, Сухинов уже понял. Солидный человек. Не мелюзга.
– Ешь рыбу, фельдфебель! – сказал он. Голиков понимающе усмехнулся, кивнул, но лицо его еще ни разу не осветилось хотя бы подобием улыбки. Сухинов и сам давненько с охотой не улыбался. Голиков разломил и разорвал тугую смерзшуюся хребтину с такой легкостью, точно это была бумажка. В его руках дремала чудовищная сила, которую он расходовал бережно, с толком. Сухинов им любовался. Он смотрел на него ласково, как на друга. И голос его прозвучал участливо.
– Как же ты очутился на каторге?
Голиков тщательно пережевывал маленький кусочек рыбки.
– За беспечность свою пострадал. Хрястнул одного из ваших разок, а он после возьми и очухайся. Я глазам не поверил, когда его увидел в живом обличье. Эх-ма!
– А за что ты его?
– За что? За притеснения. За что еще. Такой ведь ледащий был офицерик, однако оскотинился вконец. Дружка моего Данилку Хмурого насмерть засек. Кровь очень любил глядеть. Ну, я и не стерпел. Думаю, любишь кровушку – свою полижи… Я, Сухина, его в лоб вот этим… – Голиков вежливо издали показал пудовый кулачище. – Нагнулся еще над стервой, где там! Кажись, мозга из ушей торчит… Повернулся и прочь, к себе в казарму. А утресь ко мне вестовой. Прихожу в штаб, а там этот покойник, правда на себя не похожий, на лавке сидит. Меня узрел – и в окошко со страха заскребся. Еле его удержали… Да, все беспечность наша, корень ей в зубы. Мало меня батя сызмалу колотил, от лени отучал. Он мне, и теперь помню, всегда говорил: «Любое дело, Паша, надобно доводить до конца!» Я не довел, теперь здесь обретаюсь.
Подействовала водка, размягчился Голиков. Потянулся еще за стаканом, Сухинов плеснул. Ему не терпелось начать разговор о главном, он уже в Голикове не сомневался. Да, это тот, кто нужен. Это – вожак. Человек, от природы облеченный властью над людьми. Важно повернуть его власть на правое дело. Как свободно он держится, как независим. Рядом с ним даже Сухинову не по себе, хочется посторониться и уступить. Было бы в чем. Но богатырю ничего не требуется. Водки выпил и еще сейчас выпьет, рыбки пожевал – чего больше. Как он безмятежно сидел в снегу!
– Крепкий ты, видать, мужик! – сказал с искренним восхищением Сухинов.
– Бог не обидел. Ты-то тоже, я гляжу, не из немощных.
Хотелось Сухинову заговорить о главном, и все к тому шло, что можно заговорить, но стерегся: ох, немыслимо важен первый шаг, а перед тем шагом – первое сказанное слово. После ошибешься – ничего, поправимо. Сразу, с первого шага не туда ступишь – прощай, свобода, прощай, жизнь, прощай, удача! Но уж до чего хорош Голиков! До чего спокоен и свиреп. Три стакана выпил – багрянцем запылал.
– Боятся тебя каторжные, уважают? – спросил Сухинов.
– Чего меня бояться, я зря не обижу.
– А если не зря?
Голиков ворохнул плечами, глянул с такой жутью, что и ответа другого не потребовалось. До самого прихода Соловьева и Мозалевского тянулся между ними, неторопливый разговор. Сухинов сходил за вторым штофом. Голиков не пьянел, но все более наливался жаром. Он смотрел и слушал Сухинова внимательно, но без особого интереса. Оживился немного, когда тот начал расспрашивать, есть ли на руднике бесстрашные люди. Тут Голиков проявил любопытство. Да так, что Сухинов опешил.
– А тебе зачем про других знать, Ваня?
– Да так – ни за чем.
Впервые слабо улыбнулся Голиков. Такая это была улыбка, что лучше бы ее никому не видать перед ночью.
– Я тебе так объясню, Ваня, – добродушно заметил Голиков. – Вот ты меня угощаешь – спасибо тебе! Но ведь ежели у тебя на уме худое, мне все одно – ты ли, другой. Охнуть не успеешь!
– Успею! – ответил Сухинов. Услышав угрозу, он на мгновение потерял самообладание, забыл, кто перед ним и зачем они сидят за столом. Черные злые молвой полыхнули из глаз, рука нервно задвигалась. Голиков все это приметил, отстранился.
– Ну, ну, Сухина! Не вздымайся, – и вдруг захохотал доверчиво, открыто. – А нравишься ты мне, ей-бо, нравишься! Это ж надо, как глянул. Наповал! Нравишься, Ваня! Чего только хочешь, скажи?! Говори, не сомневайся!
– Потом скажу, в другой раз…
И на этом самом месте вернулись друзья. Увидели гостя – поздоровались. Удивились, но виду не подали. Голиков сразу поднялся, молча поклонился, ушел.
Сухинов сидел настороженный.
– Это кто такой? – спросил барон.
– А-а, – махнул рукой Сухинов. – Бывший фельдфебель. Так, угостил я его на бедность.
Пили чай в беспокойстве. Саша переглядывался с Соловьевым. У обоих в голове вертелась одна и та же мысль. Голиков одним своим видом внушал опасения. Когда разобрались ко сну, Соловьев не утерпел, поинтересовался:
– Иван Иванович, неужели ты не отказался от своих прожектов? Неужели принимаешься за старое?
– Что ты, Вениамин?! Не волнуйся ни о чем.
– Как же не волноваться, увидев такую рожу. Ведь ты нам дорог, Ваня! Да и мы тебе, надеюсь, небезразличны. Судьба нас навек связала.
– О чем ты?
Соловьев решил, раз уж случай такой, высказаться до конца.
– Иван, прошу тебя, ради нашей близости, выслушай спокойно и без предубеждения. Я отдаю себе отчет в разнице наших характеров и темпераментов. Возможно, неволя переносится тобой труднее, чем нами. То есть, возможно, ты так полагаешь. На самом деле всем нам выпал одинаково тяжкий крест, и нести его нам одинаково трудно. Но что можно изменить, тем более теми средствами, которые ты намерен употребить? За то не столь долгое время, что мы пробыли здесь, я вполне уверился в невозможности любых насильственных предприятий по нашему освобождению. Саша со мной согласен. Здесь нет достойных людей, Сухинов! Вот главная причина. О каторжниках, с которыми ты имеешь склонность водить знакомства, я не могу говорить серьезно. Может быть, и не их вина, что они превращены в скотов, а может быть, они такими и были прежде, не берусь судить, но это – скоты. От них нечего ожидать не то чтобы понимания наших взглядов, но даже и намека вообще на человеческие чувства. Теперь посмотрим на солдат, кои приставлены к нам для охраны. Разве это те солдаты, простодушные и разумные дети народа, с которыми мы рука об руку подымались на святое дело? Увы, нет! Специально ли они отбирались для этой службы по какому-то одному подлому признаку, или здешняя беспросветная жизнь их развратила – не знаю. Но они мало чем отличаются от своих подопечных. Чиновники, стоящие и над нами и над солдатами, – самая скверная часть и без того скверного, исковерканного душой и телом сословия. Они как будто выкормлены молоком от бешеной кобылы. Бог им всем судья… Здесь на руднике нас только трое, не потерявших человеческий облик, то есть образ мыслей и чувств, свойственных свободному человеку, а не рабу и не скоту. И спасение наше, как я уже не раз повторял, в том, чтобы среди мрака и тлена сохранить в неприкосновенности душу и совесть. Ты согласен со мной, Саша?
– Я согласен, – ответил Мозалевский. – Именно все так, как ты говоришь… Но ведь и Иван Иванович, конечно, не может думать по-иному.
Сухинов поежился, точно озяб.
– Могу, мой милый Саша, могу!.. Суть твоей речи, Вениамин, как я понял, есть призыв к покорности. Но для меня смириться перед насилием – значит ввергнуться в рабское состояние. Уверен, будь здесь Сергей Иванович, он поддержал бы меня, а не вас.
– Но…
– Постой, Вениамин, я не договорил. Очень важное. Вы не считаете за людей обездоленных братьев наших. И тут вы не правы, да и не можете быть правыми, потому что их не знаете. Не все, но многие из них чувствуют и понимают, как мы с вами, только не умеют это высказать. Вас напугало обличье человека, который здесь был, и вы готовы от него отвернуться. А ведь в этом страшном, действительно, мужике – горестная душа народа нашего. Вам это и в голову не приходит.
– Склонность к неосознанному слепому бунту – первый признак хищной коварной натуры… Я вижу, Иван, мы не поймем друг друга сейчас, так избавь нас по крайней мере от подобных посещений. Умоляю тебя!
– Хорошо! – сказал Сухинов.
– И еще. Ты слишком много тратишь денег неизвестно на что. Упаси бог, я не требую у тебя отчета. Но ведь мы собирались к лету купить собственный дом в поселении. Мы все этого хотели. Разве не так?
Сухинов задымил цигаркой. Ему было стыдно. Его вклад в их общую казну был мизерным, а тратил он больше всех.
– Обещаю впредь быть экономнее.
Услышав в голосе Сухинова несвойственные ему извиняющиеся нотки, Мозалевский с трудом удержался от желания броситься к нему в объятия.
– Иван Иванович! Мы же все… мы вместе… мы справимся со всеми кошмарами и, даст бог, вернемся живыми в Россию!
– Да, да, конечно, – согласился Сухинов.
И вдруг вскинулся, сорвался чуть ли не на крик. – Да поймите же, поймите и вы меня! Не могу я глядеть. Пусть ты во всем прав, Вениамин. Ты образованнее, больше знаешь, но разве в этом дело. Я жить не могу в неволе! Я, как волк, в неволе сдохну. Я это чувствую. А ведь не хочется подыхать задешево. Что же прикажешь мне делать? Ну посоветуй, пожалуйста!
Соловьев заглянул в его глаза и смутился: такая кромешная боль там мерцала.
– Ничего, Иван, ничего. Что кому на роду написано, то и сбудется. Не обижайся на нас с Сашей. Мы ведь… – не договорил, махнул рукой.
Скоро они все успокоились, и разговор пошел дружеский, доверительный. Это была хорошая, короткая ночь. Они еще раз вставали пить чай. Так и не уснули до утра. Спозаранку втроем вышли на воздух и наблюдали чудный в этих местах восход солнца. Оно подымалось из-за горизонта лучистой фиолетовой дымкой.
– Какая же красота, господи! – воскликнул Мозалевский со слезами на глазах.
– Скоро и сюда доберется весна, – озабоченно отозвался Сухинов.
2
Вставали затемно, умывались, поливая друг другу из ковша, и непременно проделывали несколько упражнений китайской гимнастики, которой их обучил Соловьев. Поначалу Мозалевский и Сухинов ворчали, почитая это занятие вовсе ненужным и бессмысленным, но постепенно втянулись и ощутили полезность этих упражнений.
Работали от пяти утра до полудня. В воскресенье – выходной. Рудник был глубокий, в шахты вел длинный спуск, подобный кротовой норе, извилистый, по нему надо было пробираться чуть ли не ползком, при этом из-за темноты рискуя сломать себе шею. Ежедневное урочное задание – не каждому по силам. В шахте тоже толком не разогнешься – духота, смрад подземных испарений. Первые дни им казалось, что они попали в ад. Они думали, что вряд ли существует на свете место страшнее этого и вряд ли они сумеют выдержать тут сколь-нибудь долгое время. Но притерпелись, пообвыкли – человек живуч. Труднее всех приходилось Соловьеву, совершенно непривычному к физическому труду. Мозалевского спасало крепкое от природы здоровье, Сухинова питала ненависть к тем, кто их загнал сюда. Он врубался в сочащиеся влагой каменные пласты с такой неутомимой яростью, будто наносил сокрушительные удары своим обидчикам.
Соловьев не жаловался, не взывал о помощи, но наступало мгновение, когда он с глубоким вздохом валился на землю и лежал несколько минут без движения, похожий на труп.
Сухинов и Мозалевский на первых порах помогали ему выполнить урок, не обращая внимания на его вялое сопротивление.





