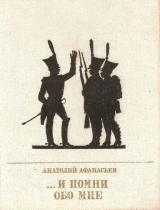
Текст книги "...И помни обо мне (Повесть об Иване Сухинове )"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– По какому, собственно, праву вы устраиваете обыск?
– Советую поменьше задавать вопросов!
Не прощаясь, Гебель и жандармы покинули дом. Михаил затворил дверь, сел к столу. Сразу почувствовал озноб. Он не успел одеться, накинул шинель на нижнее белье. Сидел за столом, дрожащий, обескураженный, пытался сосредоточиться, собраться с мыслями. Что случилось? Кто-то выдал? Но почему его самого не тронули? Не дошла пока очередь? Ох, не успел съездить в Москву, повидаться с отцом. Как он там после смерти матушки, один? Господи, моя дорогая матушка! Ты любила своего сыночка, и, может быть, лучше, что ты не дождалась и не увидишь, какая жестокая уготована ему судьба. Прости меня, и на том свете прости! Не о себе пекся. Настанет время, сгинут тираны, исчезнет подлое рабство – вот тогда, матушка моя, помянут добром твоего сына! Но все равно – прости, прости!
Из состояния скорбной прострации его вывел приход офицеров: Щепиллы, Соловьева, Сухинова, Кузьмина. Все были до крайности возбуждены, кроме Кузьмина. Мечтательно улыбаясь, он неожиданно обнял Бестужева за плечи и поцеловал. Пробормотал, точно в забытьи:
– Хорошо-то как, Миша, друг бесценный!
– Что хорошо?! – не понял и отшатнулся Бестужев.
– Да как же что! Как же что! Покатился ком с горы, теперь не остановишь! Ах, как славно!
– Покатился, да не по нашему расчету, – буркнул Щепилло. – Надо перво-наперво Муравьева предупредить.
Бестужев густо покраснел. Стыд от того, что он смеет думать о себе, когда его милому другу грозит смертельная опасность, окатил его жаркой волной. Лихорадочно, роняя бумажки, он начал пересчитывать деньги.
Сухинов стоял, скрестив руки на груди, следил за приготовлениями Бестужева. Ему вся эта суета не нравилась. Кузьмин ходил по комнате, переставлял с места на место разные вещички, продолжая счастливо улыбаться.
– Ты бы присел, Анастасий! – в раздражении бросил ему Щепилло.
Бестужев, наспех попрощавшись, убежал нанимать лошадей. Как только он ушел, заговорил Сухинов. Властный и ровный его голос сразу восстановил тишину.
– Надо действовать. Пушек нет – они есть в Киеве. Людей много в России, тех, кто ждут не дождутся сигнала. Однова помирать, так лучше не даром!
Кузьмин бросился к нему обниматься.
– На Киев, оттуда на Москву! Ах, славно, братья!
Соловьев развел руками: смотрите, мол, как можно принимать всерьез такого взрослого ребенка, даже мрачный Щепилло добродушно улыбнулся. Кузьмина все любили и многое ему прощали.
– Ты бы все же утих малость, Анастасий! – пробурчал Щепилло. – Не на игрища собираемся.
Кузьмин беспечно смеялся и сделал попытку поцеловать рослого Щепиллу…
В Житомире Сергей Иванович отправился к корпусному командиру, генералу Роту. Логгин Осипович жил в двухэтажном каменном доме по-холостяцки. Слыл оригиналом и дамским угодником. Сам себя Логгин Осипович понимал человеком уравновешенным, большого, пронзительного ума и вдобавок добряком. Был он действительно неглуп, правда, книг не читал вовсе, чтение как род занятий приравнивал к слабоумию, хотя и хранил в доме вольтеровскую «Орлеанскую девственницу» с соблазнительными картинками. К чести Рота он мало кого боялся. У него были две любимые темы застольных бесед: воинская дисциплина, понимаемая как философская доктрина, и развращение умов на почве осквернения святынь. Собеседника, не умеющего на должном уровне поддержать эти темы, он мог прилюдно обозвать болваном, а то и похлеще. Муравьеву-Апостолу он по странному капризу ума благоволил и два раза делал представление о его производстве в полковые командиры. Но у Сергея Ивановича за плечами, как гиря, висела служба в неблагонадежном Семеновском полку. О карьере ему не следовало мечтать.
На этот раз было еще одно обстоятельство, в силу которого генерал встретил Муравьева с особой, подчеркнутой любезностью. Не так давно он получил донос капитана Майбороды, по коему выходило, что аристократ Муравьев-Апостол является не кем иным, как опасным государственным преступником. Доносу он и поверил и не поверил и решил не принимать пока никаких мер, лишь установить за Муравьевым негласное наблюдение. «Что такое происходит? – думал Рот. – Свет перевернулся, если такие, как Муравьев, становятся бунтовщиками. Но горячку пороть не стоит. Если это правда, то вскорости непременно последует об нем распоряжение. Тогда-то уж мы за тебя, голубчик, и возьмемся». Ведя светскую беседу, он исподтишка, со жгучим любопытством наблюдал за Муравьевым. Острота ситуации его приятно бодрила. Он даже не думал сейчас о неприятностях, которые могли грозить ему лично, в случае, если донос справедлив. Они обсуждали арест Пестеля.
– Я этому не вполне верю, скорее всего, Павла Ивановича оклеветали, – генерал остро, со странной улыбкой взглянул прямо в глаза Муравьеву. Тот промолчал.
– Вы еще молоды, – продолжал Рот, – а я отлично знаю штучки-дрючки паркетных шаркунов и завистников. Павел Иванович – офицер безупречный и большого ума человек. Он на такое ребячество не пойдет. Конституция! Бог мой, да в России и слово-то такое в диковинку. Где-нибудь скажи некстати, подумают – ругательство. Вы знаете, Сергей Иванович, я по убеждениям почти либерал, но ведь должно же быть чувство меры. Вы согласны со мной?
Муравьев был согласен. Умствования генерала не вызывали в нем ничего, кроме скуки.
– Почему в моем корпусе не может быть никаких беспорядков? – наставительно заметил Рот. – Потому что я трезво смотрю на вещи и понимаю людей. Русский солдат всегда мошенник, а русский офицер большей частью белоручка и чистоплюй. Вы не обижайтесь, Сергей Иванович, я не вас имею в виду. Вы храбрый, дельный офицер, получили воспитание в цивилизованных странах. Но согласитесь, что я прав.
Муравьев опять охотно согласился. Он думал: «Какое убожество мыслей и чувств!» На душе у него было скверно, тревожно. В словах генерала он угадывал какой-то второй смысл. Его пронзительные взгляды были слишком красноречивы. У Муравьева было ощущение, что кто-то подкрадывается к нему сзади. Раза два он нервно оглянулся. Подумал: «Ничего, ничего, потерпим. Даст бог, это наша с вами последняя философская беседа, генерал!»
– Что же это делается, господи! – продолжал Рот. – Какой неслыханный упадок нравов! Пестель – мятежник! Может быть, его ядом опоили? О, бедная Россия! В какие еще бездонные пучины предстоит тебе опуститься! Вот вы все отмалчиваетесь, Сергей Иванович, а напрасно. Хотелось бы знать и ваше мнение.
– Недоглядели, – вяло отозвался Муравьев.
– Недоглядели? Ну уж нет! Недопороли, не до вешали – это да! А теперь пожинаем плоды своей мягкотелости и благодушия. Попустительство всегда приводило к бунтам. Тому пример французская и испанские революции.
Муравьев встал:
– Не смею далее обременять вас своим присутствием.
– Бог с вами, Сергей Иванович. Так редко удается побеседовать с умным человеком. Признаюсь, в глубине души я даже рад происшедшим событиям. Надеюсь, они послужат хорошим предостережением для императора, и он будет править более твердой рукой, чем его предшественник. Вы разделяете мое мнение?
– Только на это и остается уповать! – сказал Муравьев.
– Как вы, однако, бледны, Сергей Иванович. Вам нездоровится? Или что-то вас беспокоит? Ах да, это известие. Да уж вы не терзайте себя так. Надо полагать, с помощью своих верных слуг император очистит от скверны государство Российское.
– Иначе и быть не может, – согласился Муравьев.
Логгин Осипович и не подозревал, какая тяжелая ночь ему предстоит. Посреди ночи его разбудил дежурный офицер и, запинаясь от страха, доложил, что прибыл командир Черниговского полка с сообщением, не терпящим отлагательств. Генерал вышел к Гебелю в распахнутом халате, зло и тупо выслушал извинения, отмахнулся, как от мухи.
– Да говорите же, что у вас стряслось, Густав Иванович?
– У меня приказ об аресте государственного преступника Сергея Муравьева-Апостола и его брата Матвея Муравьева, – Гебель протянул бумагу. – Требуется ваше предписание о розыске, Логгин Осипович.
Тут генерал проснулся окончательно, хотя ему казалось, что он по-прежнему спит. Или бредит.
– А вы сами уверены, что братья Муравьевы – государственные преступники?
– Увы, ваше сиятельство!
– Может быть, и я тоже, по-вашему, государственный преступник?
Гебель оценил шутку и сдержанно хохотнул.
– Вам не смеяться следует, Густав Иванович! – мрачно сказал Рот. – Вам следует немедленно заковать преступников. Вы почему еще здесь?.. Боже мой! Я ведь знал, знал, что он изменник. Он был бледен, как смерть… Спешите, подполковник, спешите, не стойте истуканом. Уверяю, вас ждут большие неприятности. Настоитесь еще.
Гебель откланялся и, как гончий пес, пошел по следу Муравьева. Прощальные слова генерала подхлестывали его охотничий пыл пуще плетки. «Ну погоди, Сергей Иванович, – скрежетал он зубами. – Дай только до тебя добраться!» Вместе с Гебелем ехал жандармский поручик Ланг, задумчивый человек с бессмысленным взглядом крокодила.
Бестужев-Рюмин опередил Гебеля и застал братьев Муравьевых в местечке Любар, в Ахтырском полку, у Артамона Муравьева. Он сразу поделился ужасной новостью. Бестужев еще не знал, что есть приказ о его собственном аресте, тем не менее, когда надломленный известием Матвей Муравьев предложил брату немедленно застрелиться, готов был разделить их участь. Михаил Бестужев жизнью особенно не дорожил. Он рад был ею пожертвовать ради дружбы, ради идей. С самого детства глаза его были затуманены сочувствием к тем, кто страдает. Такие люди редко родятся на свет, и судьба их всегда тяжела, потому что общество не подготовлено к встрече с ними. Оно им не доверяет. По своему душевному состоянию, вечно восторженному, хотя ничуть не болезненному, Михаил Бестужев-Рюмин был, может быть, единственным по-настоящему счастливым человеком среди декабристов. Идея всеобщей свободы, ради которой он жил, держала его в постоянном радостном возбуждении. При этом он обладал умом, хотя и несколько рассеянным, но глубоким и цепким.
Сергей Муравьев любил его, как брата или сына, и с горечью понимал, что спасти его невозможно, предостерегать – нелепо. Когда самого Муравьева одолевали тяжелые мысли, он смотрел на это чистое лицо, изнуренное возвышенными страстями, слушал поэтически-жаркие Мишины речи, и сердце его утихомиривалось.
– Рано нам думать о смерти, Матвей, – обратился он к брату. – Есть и другой выход. Если ты, Артамон, нам поможешь, если ты немедленно поднимешь Ахтырский полк, пойдешь на Троянов и увлечешь за собой Александрийский гусарский полк, то еще многое может перемениться.
Артамон Муравьев в ответ на предложение Сергея Ивановича только нервно поежился. Какие-то перемены в нем уже произошли, и он мечтал единственно о том, чтобы очутиться подальше от этих свирепых людей, обуреваемых жаждой кровопролития. Артамон Муравьев был мужественным человеком, не раз это доказывал, но сейчас он не решился откровенно сказать, что не желает принимать участия в затее, которую считает заведомо обреченной на неудачу. По сумрачному лицу Сергея Муравьева он видел, что отговаривать его бесполезно. Печально глядя в окно, он выдавил из себя странные слова о том, что не медля поедет в Петербург и упадет в ноги государю.
– Государь справедлив, у него доброе сердце. Он не может не принять во внимание наши патриотические чувства. Конечно, он простит нас и, возможно, одобрит наши проекты. Найдутся в его окружении умные люди, которые ему подскажут. Даст бог, нас всех оставят на своих местах. И ежели…
– Погоди! – перебил его Сергей Иванович. – Ты разве говоришь всерьез?
Артамон обиженно заморгал. Старательно прятал взгляд от товарищей.
– Если так, – молвил Муравьев-Апостол, – я прекращаю с тобой всякое знакомство. Ты предал дело, Артамон, предал своих братьев, причем сделал это в самую критическую минуту. Бог тебе судья, а я тебя знать более не хочу!..
Артамон вытянул руки вперед, словно призывая понять его искренние намерения, но не возразил на упреки. «Слепцы, – подумал он, чувствуя, как в сердце входит тупая игла боли. – Они верят в то, во что верить уже невозможно. И все мы, конечно, погибнем!»
На измученных лошадях, заплатив возчику за усердие по три рубля за версту, под вечер офицеры притащились в деревню Трилесы и остановились на квартире поручика Кузьмина, чья рота здесь квартировала. Казалось, все трое до того устали, что сейчас упадут и уснут. Однако Бестужев, видя, что друзья его устроены, тут же заторопился куда-то мчаться. У Сергея Ивановича не было сил его остановить, не было сил даже расспросить. И охоты не было расспрашивать.
– К утру вернусь, – пообещал Бестужев. – Отдыхайте. Утро вечера мудренее. – Сверкнула его белозубая, прелестная улыбка. Уехал. «Милый брат мой, увижу ли я тебя еще раз на свободе?» – с грустью подумал Сергей Иванович.
3
Неисчерпаемо наше благодарное любопытство к судьбам декабристов, к их личностям. И вот удивительная происходит вещь: чем ближе, кажется, мы с ними знакомимся, чем с большим восхищением вникаем в их великие мечты, тем дальше они отодвигаются от нас, исполненные непостижимой тайны, дразнящей воображение, как рок. Полтора века минуло, и еще века пройдут, но снова и снова, круг за кругом, будут следовать люди по их трагически запутанным тропам, с воодушевлением вглядываться в светлые лица, обмирать от звуков отзвеневших слов, ибо это сама свобода, попранная и обезглавленная, посылает нам из глубины девятнадцатого века свой прощальный привет…
Когда Миша Бестужев уехал, квартира будто опустела. Матвей, не дождавшись чаю, разделся и лег. Изредка он тяжело вздыхал, и понятно было, что вряд ли уснет. Сергей Иванович жалел его, смятенного духом, хотел бы его утешить, да нечем было. Потоптавшись возле кровати и ничего не сказав, он вышел в другую комнату, потом, в одном мундире, на крыльцо. Ночь зачиналась морозная, крепкая. Заиндевевшие избы словно покачивались в хрустящем воздухе. Сергей Иванович поежился, потопал сапогами по крыльцу. «Чудно это, – подумал он. – Земля спит, тихо, покойно, будто ничего не происходит. А в самом деле, происходит ли что-нибудь? И скоро ли мой последний сон наступит… Задумчив, одинокий, я по земле пройду незнаемый никем… Да, сладкие слова…»
Откуда-то из-за угла вывернулся солдат. Сергей Иванович узнал его – фельдфебель Шутов. Даже имя вспомнил – Михей. Усатое непроницаемое лицо старого служаки.
– Что, Михей, тебя поздравить можно?
– С чем, ваше благородие?
– Ты в подпоручики произведен, не знаешь разве?
Шутов добродушно улыбнулся.
– Как не знать. Радость большая, конечно.
– Что же теперь, будешь, как и прочие, солдатиков мордовать?
– Вы бы взошли в избу, Сергей Иванович, студено здесь.
– Ты на мой вопрос не ответил.
– Мы, ваше благородие, не звери. Отца с матерью помним. А какой я есть человек, вы у Анастасия Дмитриевича поинтересуйтесь.
– Ах да, ты вот что, Михей. Отправь кого-нибудь в Васильков к Кузьмину. Я сейчас записку напишу.
Муравьев вернулся в избу и быстро набросал несколько строк, просил Кузьмина приехать как можно скорей, захватив с собой Соловьева и Щепиллу. Запечатав конверт, отдал вошедшему в комнату солдату. Попросил не медлить и обязательно передать лично Кузьмину. Солдат завернул письмо в кумачовый платок, важно ответил:
– Рази мы не понимаем, ваше высокоблагородие!
«Что, интересно, он понимает?» – удивился Муравьев. Заглянул в комнату, где лежал брат. Матвей негромко постанывал во сие. Сергей Иванович потряс его за плечо.
– Матюша, тебе плохое снится? Перевернись на другой бок.
– Не надо, Сережа, – сказал Матвей, не открывая глаз, но внятно. – Господь помилует.
– Помилует, помилует, спи!

Некоторое время, неизвестно сколько, сидел в оцепенении на своей кровати. Ощущение неминучей беды свинцовым комом распирало грудь. И умения сплющить этот ком, вытолкнуть его из себя у него не было. Осторожно, не раздеваясь, прилег на подушку. Перед сомкнутыми веками поплыли грезы. Царь Александр, молодой и красивый, скакал на белом коне.
– Эй, Муравьев, почему не в строю?!
– Виноват, государь!
– Робеешь, что ли? Я же наградил тебя золотым оружием за храбрость. Стыдно, Муравьев!
– Мне не стыдно, государь, больно! Душа моя болит, уязвлена страданиями стала…
– Чужими словами говоришь! – загрохотал царь, поскакал прочь, смешно клонясь с седла набок.
Муравьев в досаде хотел крикнуть вдогонку что-то дерзкое, главное, но ему помешали, окликнули. Он не понимал, кто его зовет таким отвратительно знакомым голосом. Открыл глаза, понял. Посреди комнаты стоял Гебель, морда растеклась в ликующей гримасе. Зубы торчат частоколом. Позади – жандарм, глядит с любопытством. Гебель:
– Трудненько в мои годы за вами поспеть, Сергей Иванович. Откроюсь, насилу догнал.
Муравьев лежал не шевелясь. Вошел в комнату фельдфебель Шутов.
– Караул расставлен? – обернулся к нему Гебель, пролаял. – Ты что же, подлец, спишь на ходу, не отвечаешь?!
Шутов смотрел на подполковника не мигая, в его уставной стойке «смирно» была тем не менее некая неуловимая раздражающая вольность.
– Так что не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, все приготовлено.
– Что приготовлено? Ты как разговариваешь, скотина?! Вот я тебя сейчас научу порядку! – Гебель занес тяжелый кулак, примерился в рожу наглецу. Не ударил, сплоховал. Что-то его остановило, сам не понял – что. То ли немигающий взгляд фельдфебеля, то ли его каменная неподвижность. Схватил со столика пистолет Муравьева, дрожащими пальцами ссыпал с полки порох. Сергей Иванович рассмеялся.
– Как у вас все ловко выходит, Густав Иванович. Что значит призвание иметь к сыску.
– Где подпоручик Бестужев-Рюмин? Извольте отвечать!
– Откуда же мне знать. Кажется, он собирался в Киев… А вот не желаете ли чаю, Густав Иванович? У меня есть плитка преотличного, как раз к случаю.
Гебель, насквозь продрогший, но в великолепном настроении, от чая не отказался. Он сумел выведать от денщика Кузьмина, что Бестужев должен воротиться к утру. Подождать несколько часов и – хлоп! – клетка на запоре. Скоро, скоро поубавят вам амбиции, Сергей Иванович! В пятом часу утра сели вместе чаевничать… Матвея звали, он остался лежать, отвернувшись к стене.
Кузьмин получил записку Муравьева поздно вечером. Они все засиделись в бездействии, замаялись, и записка эта была как сигнал к атаке. Сергей Иванович жив-здоров и покамест на свободе. Это ли не радость. Немедленно надо скакать. Там уж видно будет, что дальше. Наверняка у него есть какой-нибудь план.
Они поскакали разными дорогами, чтобы вернее было, Кузьмин с Сухиновым, Щепилло с Соловьевым.
Около восьми утра Сухинов и Кузьмин первыми, чуть не загнав лошадей, прискакали в Трилесы. Они еще издали увидели, что дом Кузьмина окружен солдатами.
– Опоздали, Иван, – горестно сказал Кузьмин, – Муравьев под караулом.
– Посмотрим, – бросил Сухинов. В нем закипало давно уже, казалось, забытое предвкушение схватки, и он повеселел, – Гебель, я полагаю, не о двух головах.
Они вошли в комнату, где Густав Иванович приканчивал невесть какую кружку чая, был красен и утомлен. Муравьев полулежал на кровати, спустя ноги на пол. Густав Иванович, увидя офицеров, поперхнулся чаем, не успев толком откашляться, заорал на Кузьмина:
– Вы что это, поручик, дисциплину забыли?! Вы где изволите шляться столько времени? Рота без присмотра.
Кузьмин, точно оглохнув, прошел в другую комнату. Там лежал на кровати, отрешенный от суеты мира, Матвей Муравьев. Кузьмин ласково ему улыбнулся.
– Что делать, Матвей Иванович?
– Ничего. Подчиняться силе, – безразлично отвернулся к стене. Он понимал, что офицеры могут истолковать его поведение превратно – как трусость, но сейчас это мало его заботило. Он не хотел бессмысленного кровопролития.
Гебель, взбодренный невероятной наглостью Кузьмина, заревел на Сухинова:
– А вы, поручик, вероятно, ждете, чтобы я отправил вас в Александрийский полк под конвоем?! Что ж, я вам это устрою, не сомневайтесь.
– Не сомневаюсь, Густав Иванович. Вы человек слова.
В комнату вернулся Кузьмин, подошел к Муравьеву и задал ему тот же вопрос, что и брату.
– Освободите нас! – шепнул Сергей Иванович пересохшими губами. Кузьмин кивнул, обернулся к Гебелю, у которого от сильного гнева отвисла челюсть.
– Бог мой, Густав Иванович, вы ли это?! – радостно изумился Кузьмин. – У меня на квартире, какая честь!
– Он давно тут сидит, – подтвердил Сухинов. – Ты, Анастасий, какой-то негостеприимный.
У Густава Ивановича уже не только челюсть изменила свое положение, весь он ходил ходуном. Но почему-то с места не вставал и решительных мер не принимал. Сказал только, не сказал – филином проухал:
– Вы мне за это представление ответите, господа!
– Пойдем, Анастасий, – позвал Сухинов. – Мы подполковнику действуем на нервы.
Все то время, что он оставался в комнате, он только раз встретился взглядом с Муравьевым и прочитал в его глазах суровый укор. «Сейчас, сейчас, – молча утешил его Сухинов. – Немного потерпи, Сергей Иванович!»
Они стояли на крыльце, решая, что предпринять, когда в конце улицы показались два всадника.
– Это наши, наши! – крикнул Кузьмин и бросился навстречу друзьям. Щепилло, узнав, в чем дело, рванул саблю из ножен. Сухинов положил ему руку на плечо.
– Не спеши, друг! Надо роту поднимать. Сможешь, Анастасий?
– Я? Свою роту?! – Кузьмин бегом бросился в караульню – пристройка по другую сторону от сеней. Обыкновенно тут была кухня. Сходу Кузьмин обнял и расцеловал Шутова, торопливо заговорил, обращаясь к солдатам:
– Все, ребятки, дождались светлого часа! Вот они подтвердят, – махнул на вошедших офицеров. – Ждать нельзя ни минуты. Сегодня подымаем знамя свободы! За нами пойдут Ахтырский полк, александрийские гусары и артиллерийская бригада. Первым делом освобождаем Муравьева, овладеваем Киевом, а там – на Москву. Братцы, постоим за отечество, не пощадим живота!
Солдаты переминались в смущении, небывалое перед ними открывалось, знойное, яркое, но и смутное. Ох, не сгинуть бы невзначай! Тяжело ворочались солдатские мозги. Шутов, потупясь, сосал ус, сказал, заикаясь:
– Чего уж, мы, ваше благородие, не отстанем, да вот, вишь, маленько оторопь взяла… Ктой-то там за дверью топчется?
– Что?! – Сухинов ударом ноги распахнул дверь, и все увидели унылое лицо подслушивающего Ланга.
– A-а, жандармская ищейка! Сам пришел! – Щепилло в один момент вырвал из рук ближайшего солдата ружье и, изогнувшись, достал Ланга штыком. Жандарм охнул, прижал руки к груди и отступил за дверь. Соловьев, худенький, гибкий, повис на плечах у Щепиллы.
– Пусти, барон!
– Не надо, поручик! Не пачкай рук.
Пока они препирались, Ланг отбежал шагов на двадцать и стоял, покачиваясь, то прижимая руку к груди, то поднося ее к глазам.
– Его надо арестовать, – сказал Кузьмин. – Он ведь и впрямь донесет. А у нас ничего еще не приготовлено.
– Я схожу за ним, – сказал Сухинов.
Увидев приближающегося, возможно, убийцу, Ланг вскрикнул и засеменил вдоль улицы, оскальзываясь на льду. От слабости и страха у него подгибались ноги. Сухинов быстрым шагом нагнал его недалеко от дома. Ланг, взглянув в смуглое, бесстрастное, как у идола, лицо офицера, не сулящее ему пощады, икнул и опустился на колени.
– Возьмите себя в руки, поручик, – брезгливо сказал ему Сухинов. – Вы же мужчина, черт побери!
– Детишки, больная сестра! – залепетал жандарм. – Помилосердствуйте! Я выполнял приказ. Вы же знаете. Против воли выполнял, убей бог! Сердцем сочувствую! Не убивайте меня. Я и так умираю от ран, вы же видите! – рванул рубаху и показал кровоточащую царапину на груди.
– Я вас не трону. Обещайте только сидеть тихо и не высовывать носа. Второй раз сегодня встречу, я его вам отрублю. Понятно?
Ланг поклялся. Сухинов отвел его в дом к священнику – это было рядом – и запер в погребе. Священнику сказал:
– Вы, батюшка, за это исчадие ада отвечаете головой. Поимейте в виду, я, хотя в бога и крепко верую, к его служителям в большой претензии. Все как-то случая не было с ними разобраться.
Сухинову было так весело и свободно, как в юности. Сомнения больше не терзали его. Он зачерпнул пригоршню снега и растер пылающее лицо.
– Где жандармская сволочь?! – кинулся к нему Щепилло.
– Как сквозь землю провалился! – смеясь, развел руками Сухинов. – Бежал, бежал – и сгинул, аки нечистый дух!
Щепилло ему не поверил, остальные поверили. Такой уж выдался денек – все могло случиться, самое невероятное. Щепилло ружье не выпускал из рук.
Гебель, на крик которого никто не отзывался, вышел узнать, в чем дело. Муки вышел принять, а думал, что шагает наводить ужас и порядок. Дверь в избу запер на засов, кряхтя от удовольствия. Портфель с бумагами об аресте нес под мышкой, как поросенка.
В караульне застал Щепиллу и Соловьева, которых еще не видел, и сразу заперхал, заухал грозно:
– Что такое, господа?! Как вы смели отлучиться без команды?! Всех под арест!
До того был упоен своей ролью облеченного высшими полномочиями усмирителя бунта, что опомнился, лишь увидя зверино изогнувшегося Щепиллу с ружьем наперевес. Гебель отступил к дверям. Тут его встретил Соловьев, схватил, швырнул на пол. Они его хотели убить. Ослепление туманило им очи, потому большинство ударов приходилось в пустоту. Перед ними в облике изувера-подполковника было все то, что они ненавидели, против чего готовились восстать, что надеялись уничтожить. Перед ними было вселенское зло, как они его понимали. Гебель сопротивлялся отчаянно. Как вверь, загнанный в угол, со всей силой отчаяния бился за свою жизнь. Удар штыком в плечо вверг его в темень беспамятства.
– Достаточно с него! – сказал, задыхаясь и отводя глаза, Соловьев. Сухинов, прибежавший на шум, не тронувший Гебеля и пальцем, первый покинул караульню. За ним потянулись солдаты, обходя скрюченного на полу Гебеля.
Щепилло с Сухиновым отправились разыскивать Ланга, потому что упрямый хохол своими глазами хотел убедиться в его исчезновении. Кузьмин с Шутовым ушли поднимать роту. Соловьев – освобождать арестантов. Он долго возился с засовом, руки тряслись, липкая испарина на лбу проступила. «Спокойнее, барон, спокойнее! – уговаривал он сам себя. – Это тебе не на плацу в солдатиков играть. Это – дело!» Справившись с засовом, ворвался в комнату, увидел разбитое стекло; и понуро сидящего на кровати Матвея Муравьева.
– Где Сергей Иванович?!
Матвей, не поднимая головы, указал пальцем на окно.
Гебель недолго был в забытьи. Он очухался быстро, крепкий телом был мужик. Да и раны неопасные. Два, нанесенных в спешке, в угаре ненависти, скользящих удара штыком да многочисленные тумаки – только и всего. Он, покачиваясь, поднялся и вывалился на пустой двор. Подумал в отчаянии: «Где Ланг, где жандармы? это бунт! – о, милосердные боги!» И тут увидел перед собой Сергея Муравьева с яростным, незнакомым лицом. С ружьем в руке. Муравьев, выпрыгнув из окна, только что вырвал ружье у пытавшегося задержать его часового. Мгновение подполковники вглядывались друг в друга. Гебель шевельнул спекшимися губами, хотел что-то сказать, попросить, не успел: точным ударом приклада Муравьев сбил его с ног. Гебель, рыча, перекатывался по снегу. Примчался Соловьев, заслонил собой Гебеля:
– Оставьте, Сергей Иванович, вам после будет нехорошо!
Муравьев отдал ему ружье покорно. Сказал:
– А ты в перчатках думал с ними сражаться?
Соловьев, поддерживая Муравьева за талию, повел его в избу.
Гебель не умер. Смерть от него отказалась в день суда. С разбитой головой, пускающий ртом алые пузыри, хромая, он вышел за ворота и упал посреди улицы. Михей Шутов, идущий доложить, что рота ждет команды, увидел лежащего поперек дороги Гебеля, подошел, постоял над ним. Сказал надсадно, обернувшись к сопровождавшим его солдатам:
– Царство ему небесное, сдох! Отнесите его, ребятки, за деревню, чего ему здесь валяться. Бросьте на виду. Кто-нибудь похоронит.
Солдаты положили его на краю села у обрыва. Гебель очнулся еще до пути, пока его несли, но сразу сообразил, что безопаснее быть мертвым. Подождал, пока солдаты ушли, перевернулся и сполз по скату на дорогу. Вскоре он увидел идущего по дороге солдата. У Гебеля не было выхода, и он солдата окликнул. Тот подошел, встал поодаль. Гебеля он признал и, кажется, ничуть не удивился тому, что командир полка валяется на снегу, окровавленный и избитый.
– Из какой роты, братец? – слабым голосом спросил Гебель.
– Из роты его благородия поручика Кузьмина.
– Верен ли ты царю и присяге? Или со злодеями заодно?
На бледном, изможденном лице солдата отразилась трудная работа мысли.
– Верен, ваше высокоблагородие, – ответил он, подумав.
Через полчаса Гебель на санях был отвезен в дом управителя, перевязанный, упакованный в бинты, как шелковичный кокон. Всего Гебель получил тринадцать ран и лишился нескольких пальцев на обеих руках. Четыре месяца проведет он в постели и встанет из нее героем, не пощадившим живота своего во спасение царствующего дома.
Муравьев, узнав, что Гебель исчез и неизвестно толком, жив он или убит, неожиданно разъярился. Это состояние было для него новым. Долго сдерживаемое напряжение потребовало выхода. Он метался по комнате, нагрубил брату, который с момента ночного ареста был словно в экзальтации и каждую, самую обыкновенную фразу произносил как бы принудительно, с отвращением к ее смыслу. Тут как раз явился за распоряжениями Сухинов.
– Это вы, вы!.. – закричал Сергей Иванович.
– Да, это я, – благодушно согласился Сухинов.
– Это вы упустили и Ланга и Гебеля! Вы понимаете, что сейчас они, вполне вероятно, уже несутся в штаб армии?!
– Гебель вряд ли несется. Скорее уж ползет.
Муравьев уставился на Сухинова округлившимися глазами.
– Вы находите в моих словах повод для острот? Извольте немедленно пойти и доставить Гебеля сюда! Живого или мертвого!
Сухинов поклонился и вышел. Постоял на крылечке, поглазел по сторонам. Улица была пустынна, как будто жители в одночасье покинули деревню. А денек разыгрался на славу, с солнышком, со стоячими дымами над избами. Эти дымы свидетельствовали о том, что жители все же никуда не исчезли и даже заняты приготовлением пищи, но на улицу выйти опасаются. Сухинов пошел вдоль села, держась вне досягаемости окон, откуда за ним мог проследить Муравьев. Набрел на какой-то вроде бы ничейный сарай, а за сараем с подветренной стороны широкий деревянный брус прислонен, словно специально для Сухинова, чтобы он тут отдохнул и покурил. Сухинов так и сделал, смахнул полой шинели снежок с доски, расположился поудобнее и достал кисет.
Жизнью Гебель, как и Ланг, обязан Сухинову, его счастливому, умиротворенному настроению. Оно скоро пройдет и, может быть, не посетит его до последних дней, но в те бурные часы, когда решалась судьба Муравьева и их собственные судьбы решались, он не испытывал особого возбуждения и искренне удивлялся, видя, как свирепствуют его миролюбивые товарищи. Он их и жалел слегка, ибо они забыли в ту пору, что пролитая кровь обязательно падет на их головы.





