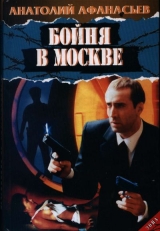
Текст книги "Сошел с ума"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Где-то среди ночи, когда во рту не осталось слюны, чтобы смочить пересохший язык, за дверью послышался такой шумок, будто по коридору протащили мешок с песком. Сердце скакнуло к ребрам. Но надежда оказалась преждевременной. Сколько ни прислушивался: тишина. Даже слышно было, как в бетоне скребется мышь. Но все равно что-то стронулось с мертвой точки. Погрезилась Полина, встала перед глазами, как въяве. Улыбнулась и помахала рукой. Я чуть не заплакал, глядя на нее. Лампочка над дверью замигала. Решил, что начинаю сходить с ума, но не додумал эту мысль до конца. Дверь открылась ровно настолько, чтобы мог протиснуться рослый человек, и он протиснулся. И он сам, и его суковатая палка с ореховым набалдашником. Набалдашник размером с грушу «бери-бери», и у меня не было уверенности, что он не свинцовый.
– Привет, мой мальчик, – сказал Трубецкой. – Заждался меня, да?
Он был в спортивном черном костюме от «Кетлера», в кроссовках на толстой каучуковой подошве. На голове черный берет. В общем, кроме палки, ничего лишнего.
– Ну-ну, – улыбнулся покровительственно, видя, что я как бы в обмороке. – Все нормалек. Я же тебя не бросил. Сознайся, ты в этом сильно сомневался?.. Но со звонком здорово придумал.
Он опустился на нары, предварительно плотно закрыв дверь.
– Ладно, Мишель, хватит дуться. Рассказывай, что тут у вас происходит?
– Дай сигаретку.
Сигареты у Трубецкого были, и зажигалка тоже.
– Что с Русланом? – спросил я.
– Отдыхает неподалеку. На редкость упрямый бычара. Ты о нем не беспокойся. Отмажется. Или в горы уйдет.
– А что с дочерью?
С Катенькой, по словам Трубецкого, было все в порядке: загорает на даче в ожидании папочки. С Полиной тоже все в порядке: соскучилась по мужу, спасу нет. Пока я не позвонил, всю плешь проела: куда послал, зачем послал? Мариночку, дочурку Полинину, тоже вернули, отследили. И все благодаря мне.
– Не такой уж ты беспомощный, Мишель, – задумчиво сказал Трубецкой, дымя «Мальборо» за компанию. – Напротив, иногда бываешь чересчур прыткий. Вон в самое логово угодил, и живой. Непонятное везение.
В свою очередь я коротко доложил о собственных приключениях, упомянув и о необыкновенной изобретательности Сырого в пыточном ремесле. Трубецкой небрежно махнул рукой:
– Он увлекся, погорячился. Он влип. Конец дуэли: отсюда он уже никуда не денется. Подонок.
Я счел нужным сообщить, что в тех же выражениях отзывается о нем Сырой. Причем, высказывает те же самые мысли. Правда, когда Сырой говорил, что Трубецкой никуда не денется, то имел в виду не этот именно дом, а всю Москву, вкладывая в слова «никуда не денется» глубокий, экзистенциальный смысл.
– Восхитительно! – одобрил Трубецкой. – Если сравнить то, что ты говоришь, с тем, как ты выглядишь, Мишель, – вот тебе и портрет типичного русского интеллигента в третьем поколении. Хоть ему кол на голове теши, а он все будет умствовать. Когда-то я много думал об этом феномене. К печальным выводам пришел.
– К каким же?
– Русский, или, точнее, советский интеллигент – это всего лишь непомерно развившийся мозговой отросток, не имеющий никакой перспективы выживания. С абсолютно усохшим пассионарным началом. Тупиковый вариант эволюционного цикла. Но в этом вопросе, как всегда, интереснее причины, чем следствия… Ребенок, выращенный в своеобразной загерметизированной колбе, каковой и была минувшая эпоха. Но если тебе неприятна эта тема, давай поговорим о чем-нибудь другом. У нас осталось десять минут. Ты на ногах-то держишься?
Честно говоря, я был счастлив видеть Трубецкого, всем своим видом излучавшего спокойствие неведомой мне силы.
– Что же будет через десять минут?
– Пойдем выкуривать гадину из норы. Этот гнойничок пора вскрыть. Давно пора.
– Попить бы на дорожку.
– Через час залью тебя шампанским. Потерпи. Ты хоть знаешь, где очутился?
– Нет.
Трубецкой рассказал. Старинный особняк в центре Москвы, владение Циклопа. Стационарный застенок и офис, и тренировочный спортивный комплекс, и винный погребок. Трубецкой и без наводки Руслана догадывался, что меня содержат именно здесь. Одно из любимых обиталищ Игнатки. Ему кажется, здесь он в безопасности, как Президент в Барвихе. Трубецкой бывал тут раньше, знаком со здешним распорядком. По ночам в доме дежурят не более двух десятков бойцов, правда, отменно обученных. Личный резерв Сырого. Основная часть этого резерва уже блокирована в левом крыле, в спальном помещении. Связь отключена. Три выхода заминированы, четвертый, парадный, – свободен. Кабинет и спальня Сырого на третьем этаже. Сейчас туда и направимся, вот только получим подтверждение, что путь открыт.
Подтверждение поступило сразу после этих слов. На груди Трубецкого запищала какая-то пуговица, и он, склонив голову, отдал распоряжение:
– Понял. Иду. Всем на выход.
– Лиза с тобой? – спросил я.
– Где же ей быть?
Усатая рожа лежала поперек коридора рубильником кверху. Глаза мечтательно закрыты. Возможно, видит сон, как мочится на всех своих врагов, а возможно, усоп. За первым поворотом коридора повстречали стройного юношу в таком же, как у Трубецкого, черном спортивном костюме, с рацией в руке, с расстегнутой кобурой на поясе. При близком рассмотрении оказалось, что это не юноша, а Лиза.
– Только что о тебе вспоминали, – обрадовался я. Лиза молча меня обняла и поцеловала в губы.
– Я думала о вас, Михаил Ильич.
– Я тоже, – потупился я. Наша вылазка, похоже, превращалась в увеселительную прогулку.
– После намилуетесь, – буркнул Трубецкой. – Ишь как вас тянет друг к другу. Я еще когда заметил.
По пути на этажах наткнулись еще на двух бойцов Трубецкого, одетых в черное и в черных беретах. Оба с короткоствольными автоматами. При нашем приближении вытягивались в струнку, а я машинально вздрагивал. Трубецкой удовлетворенно кивал.
– Операция захвата по схеме Джона Белью, – объяснил он. – Есть такой знаменитый террорист в ИРА. Ты, наверное, о нем слышал, Мишель?
– Твой коллега?
– Гудели пару раз. Я для них группу готовил в Южной Африке.
Что бы он сейчас ни ляпнул, я ему верил. Сознание было заторможено, но мозг ясен. Так же себя чувствуешь, если натощак, с похмелья хлопнешь сто пятьдесят грамм и выкуришь сигарету. Тут нам попалась дверь с крупной буквой «М».
– Туалет, – обрадовался я. – Там же есть умывальник? Я бы водицы попил.
– Попей, – согласился Трубецкой. – Почему нет. Отлей заодно.
Он сам зажег свет, потому что мне нипочем не отыскать бы выключатель. Туалет был чистый, большой, со стенами, выложенными необыкновенно красивой серебристой плиткой. С тремя отдельными кабинками. И с роскошным умывальником, над которым висел электрический вентилятор со странной надписью «ЗИКС!». Я наладил теплую воду и сунул голову под кран. Не только попил, но и освежился, затопив половину комнаты. Трубецкой прокомментировал:
– Гигиеничный ты человек. И это еще раз говорит о том, что Полина сделала правильный выбор. Может, зубешки почистишь?
Так, пошучивая, добрались до третьего этажа, где в полутемном коридоре встретили еще одного человека в черном, сидящего на корточках у одной из дверей. Лицо было закрыто полумаской; когда он встал, то оказался ростом под потолок. При этом весь был обмотан то ли пулеметной лентой, то ли альпинистским страховочным тросом. Да и дверь, возле которой он дежурил, была приметная: двустворчатая, выделанная затейливой резьбой, с массивной бронзовой ручкой.
– Ну? – спросил Трубецкой.
– Спит, как сурок, – доложил атлет. – Я проверил.
– Как проверил?
– Да я же заглядывал.
– Не разбудил, Толяныч?
– Да я же осторожно, на цыпочках.
– Ну что, Мишель, пошли?
– Пошли, – сказал я тоном Петрухи из замечательного фильма «Белое солнце пустыни».
28. КОНЕЦ СЫРОГО
– Вставай, Игнатушка! – Трубецкой потряс его за голое плечо. Сырой спал так крепко, словно репетировал смерть. На тумбочке рядом с кроватью какие-то склянки, пузырьки, рюмка, пепельница с окурками. Спальня, обставленная мягкой мебелью вкрадчивых, бледно-серых тонов, вполне в соответствии с запросами хозяина, все-таки оставляла впечатление нежилой, как бы еще не вывезенной из магазина. С мускулистой шеи Сырого свесился на подушку золотой медальон – знак Водолея.
– Игнатушка, – Трубецкой продолжал его трясти. – Божий суд проспишь, голубчик!
Наконец Сырой открыл глаза. В них не было привычной гнили, и вообще не было никакого выражения.
– Ах, это ты, Труба? – молвил с досадой. – Добрался все же? Ну и что дальше?
Трубецкой опустился в кресло, трость установил между ног.
– Дальше? Хороший вопрос. Я тоже над этим думал. Проще всего было пристрелить тебя прямо во сне. Но как-то это неблагородно, как-то примитивно, ты не находишь?
– Оставь свои шуточки для девочек, – Сырой, сморщившись, подтянулся на подушке повыше. – А этого зачем притащил? Без него не могли столковаться?
– Да нам вроде не о чем больше столковываться, Игнатушка. Вроде все уже предельно ясно.
– Что ты имеешь в виду?
– Только то, что сказал. Вставай, голубчик, вставай! Скоро рассветет, а мне еще в одно место надо успеть.
Сырой потянулся к тумбочке.
– Разреши, сигареты возьму?
– Не стоит. Там же у тебя пистолетик, верно? Любишь с пистолетиками баловаться, как урка какой-нибудь. Стыдно, Игнат!
Сырой не послушался. Распахнул створку тумбочки и сунул руку внутрь, но в ту же секунду на его кисть обрушился орехово-свинцовый набалдашник. Трубецкой, кажется, даже не пошевелился. Вторым толчком трости захлопнул тумбочку. Сырой поднес к глазам мгновенно распухшую руку. Заметил с удивлением:
– Больно!
Я решил, пора и мне обронить словечко, а то что я все как посторонний.
– У вас тут, Игнат Семенович, обстановка роскошная, но несколько неуютно. Как в комиссионке.
Сырой отреагировал на мое замечание, словно на писк заговорившего клопа.
– Надо было еще вчера тебя шлепнуть, писатель. Хорошее нельзя откладывать на потом.
– Справедливо подмечено, – поддержал Трубецкой. – Но это бы ничего не изменило. Не стоило Полинкину девочку умыкать. Вот где твоя главная ошибка. Ты же знаешь, как она к этому относится. Женщина балованная, вспыльчивая. Не рассчитал ты, голубчик.
– Дайте закурить, сволочи! – попросил Сырой. Трубецкой достал сигареты, и закурили мы все трое. Сырой изредка встряхивал правой рукой, словно сбрасывал воду с пальцев.
– Пошутили, и хватит, – сказал он. – Сейчас твоя минута, Эдька, покобенься, отведи душу. Но деньги все равно придется вернуть. Сам же понимаешь.
– Может, придется, может, нет. Ты, Игнатушка, об этом уже не узнаешь.
– Брось, это же глупо. Чего этим добьешься?
– Ты мне выбора не оставил. Вцепился, как клещ.
– У Циклопа таких клещей еще с десяток.
– Что ж, – Трубецкой вздохнул. – Придется всех передавить по очереди.
– Не надорвешься?
Трубецкой улыбнулся, и Сырой улыбнулся в ответ. Между ними пробежала искра взаимопонимания, которую я ощутил, как короткое замыкание.
– Вставай, Игнат, – поторопил Трубецкой, – действительно, хватит базланить.
– Куда спешить, – Сырой продолжал улыбаться, и от его улыбки, налившейся знакомой гнилью, у меня мурашки скользнули по коже. – Кончай здесь, если рискнешь. А лучше перестань валять ваньку, скажи, чего хочешь? Какие твои условия? Писателя отдать? Пожалуйста, забирай, не жалко. Такого говна везде полно. Только скажи, будь ласков, чего в нем Полинка нашла? У него что, член с насечкой?
– Пойдем в спортзал, Игнат.
– Ах вот оно что! Ты же чемпион. Перед этим сморчком, что ли, хочешь похвастаться? Но зачем тебе все это, Эдуард? Ночь ведь, остынь.
– Веди себя достойно в свой последний час.
Сырой скинул одеяльце, спрыгнул с кровати. Стройный, загорелый, весь сотканный из сухожилий и мышц. Ничего нигде лишнего. Кто бы мог подумать, что он сохраняет себя в такой форме. Длинный, глубокий, старый шрам на боку. Шелковые алые трусики. Он и мысли не допускал, что Трубецкой осуществит свои угрозы. Я тоже в это не верил. Слишком все происходящее напоминало киношную игру. Вдобавок, несомненно между ними существовал некий тайный сговор, подкрепленный некими обязательствами, которые нельзя нарушить. Сговор крупных хищников, защищающих каждый свою территорию, но не жизнь.
Гуськом пошли по коридору, в отдалении плелся Толяныч, человек-скала, обвешенный пулеметными лентами. Идти пришлось недолго: шесть лестничных пролетов, узкий, освещенный люминесцентными лампами коридор, тупик с обитой дерматином широкой дверью. Спускались в таком порядке: Игнат Семенович в алых трусиках впереди, за ним, на расстоянии вытянутой руки – Трубецкой с тростью, и я – замыкающим. Только раз, обернувшись, Сырой процедил:
– Лучше бы наверху потолковали. Там хоть тепло.
– Все учтено могучим ураганом, – ответил Трубецкой.
Что он подразумевал, я не понял. Видимо, какая-то японская цитата.
Спортзал – словно склад гимнастического оборудования. Все, что дружественный Новый Свет придумал для накачки мышц, было здесь свалено в кучу. Вообще, не мной замечено, у наших богатеев страсть к тотальному разрушению и грабежу сочетается с милой дамской привычкой загромождать пустое пространство всевозможной никому не нужной рухлядью. Лишь бы блестело и лишь бы – фирма. И здесь среди всяческих спортивных снарядов, измерительных приборов, тренажеров, массажеров и прочего в том же духе сразу бросались в глаза две совершенно неуместные здесь вещи: искусственный фикус почти под потолок и электрический пивной бар, украшенный фаянсовой панелью, на которой смелый американский всадник несся куда-то вдаль с безумным видом, сжимая в руке безразмерную пачку сигарет «Честерфильд». Однако в центре всего этого бедлама, освещенного потолочными светильниками, оставалась свободная полянка, пригодная для того, чтобы несколько человек могли посоревноваться в перетягивании каната. В воздухе плавал запах залежалого тряпья.
– И что теперь? – усмехнулся Сырой. – Разобьешь мне голову своей палкой? Но зачем было все-таки сюда переться? Это можно было сделать и наверху.
Трубецкой не ответил. Закрыл дверь, раскидал ногами тренажеры и массажеры, освободив и укрепив высокий черный стул с металлическими подлокотниками.
– Садись сюда, Мишель. Будешь судьей.
– Что же я буду судить?
– Показательное выступление. Последнее в сезоне. Наемный палач против озверевшей жертвы. Ты готов, Сыренький?
– Не смеши! Я не буду с тобой драться!
– Почему?
– У тебя палка. Я знаю, как ты ею работаешь.
– Ты не понял, Сырчик. Палка будет у тебя. Вот, лови! – Трубецкой кинул трость, которую Сырой поймал на лету.
– И еще вот это, – Трубецкой щелкнул кнопкой, и в руке у него вытянулось жало длинного ножа. Нож, брошенный в воздух, Игнат Семенович, изогнувшись, схватил за рукоять. Восседая на своем удобном стуле, я почувствовал, как вспотели ладони. Противников теперь разделяло метра три-четыре, но Сырому ничего не стоило развернуться и пронзить меня ножом насквозь. Оставалось надеяться, что пока ему было не до этого.
– Ну как, шансы равны? – спросил Трубецкой, самодовольно щурясь.
– Ты так в себе уверен, Эдичка?
– А ты в себе разве нет? Ты же два года занимался у Залманова. Потом, правда, вы зачем-то отпилили ему голову. Какой все-таки у тебя беспокойный характер, Сырчик.
– Залманов меня шантажировал.
– Ну что ж, больше тебя никто не будет шантажировать.
Получив в руки палку и нож, Сырой заметно приободрился. Как бы проснулся окончательно. Движения сделались пластичными, в темных глазах заплясал вызов. У меня еще достало хладнокровия, чтобы оценить его звериную красоту.
– Послушай, Труба, мир не так велик, как тебе кажется. Уйдешь из Москвы – достанут хоть в Бразилии. Давай потолкуем. Может быть, найдем какой-нибудь выход.
– Я его уже нашел. На тебе слишком много грехов, пора платить. И потом, ты обидел моего друга.
– Которого? Вот этого?! – в неподдельном изумлении Сырой обернулся ко мне. На мгновение мы соприкоснулись взглядами. В его глазах, шальных, как ночь, я прочитал приговор не только себе, но всему сущему. Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло.
– Чем же он хуже тебя? – спросил Трубецкой. – Тем, что прочитал много книжек и ничего в них не понял? За это ты так его изукрасил?
– Эдик! Хочешь, сделаю из него шашлык и сожру? Это тебя успокоит?
Он стоял боком ко мне и боком к Трубецкому, но, заканчивая фразу, незаметно наклонился вперед. Мне показалось, вдруг начал падать, но он не падал, а в яростном, сверхъестественном броске полоснул ножом по Трубецкому. Промахнулся на дюйм, Трубецкой отклонился. Черный блейзер на его груди, тронутый лезвием, раскрылся, как лепестки тюльпана.
– Ты в отличной форме, Сырчик, – похвалил Трубецкой. – И чего было так долго тянуть.
Дальнейшее меньше всего напоминало драку. Скорее это походило на какой-то ритуальный танец, исполняемый вдохновенно. Чудилось, лица разгоряченных танцоров освещены не электричеством, а призрачным пламенем ночных костров. Понимая, что если одолеет Сырой, то шашлык, обещанный им, станет явью, я все же поддался очарованию смертельного боя, насыщенного восточной негой.
Поначалу казалось, поражение Трубецкого неминуемо. Нож и палка в руках его противника выписывали причудливые фигуры, чередуя свирепые толчки с замедленными, плавными пассами, и все, что ему требовалось, это сократить дистанцию между собой и партнером, чтобы нанести роковой укол. Но хотя ограниченность пространства была в его пользу, достать Трубецкого было не так-то легко. Он весь превратился в скользящий, взлетающий, кувыркающийся сгусток черной энергии, и я вжался в стул, в буквальном смысле загипнотизированный. Но не я один. Опасные выпады Сырого раз за разом цепляли дымящуюся пустоту, и наконец это его обескуражило. На мгновение он замедлил круги, безвольно свесил руку с ножом. Если это был отвлекающий маневр, то неудачный. Просвистела каучуковая подошва и влипла ему в челюсть. Сила удара была такова, что он сперва подпрыгнул, как резиновый мячик, издал тяжкое хрустящее «Хр-рр!», попятился и обвалился на пол, круша спиной трапеции, тренажеры и безымянные металлические конструкции.
Что говорить, гвозданулся солидно, но отдыхал недолго. Пошатываясь, поднялся, стряхнул с себя инвентарь и снова попер на врага, но уже без ножа, с одной палкой. На него было жалко и страшно смотреть. Морда налилась кровью, с губ капала роса, спина изогнулась голубоватым горбом.
– Все равно задавлю тебя, падла! – бормотал обреченно.
Трубецкой отступил, разглядывая его с удивлением. Потом небрежно, ногой выбил палку. Сырой захрипел, воздел кулаки к потолку, словно призывая на помощь небесную рать. Но никто ему не помог. Трубецкой прислонил к его лицу растопыренную ладонь и правой колотушкой нанес несколько прямых быстрых ударов в сердце.
– Укус кобры, Сырчик, – объяснил, как на тренировке. – Теперь прикорни.
Сырой послушно припал на колени, подергался, икнул и вытянулся на спине. Когда я подошел, он был уже мертв. Замороженными, открытыми очами выискивал на потолке хоть какой-нибудь гвоздик, за который могла зацепиться отлетевшая душа.
– Ты видел, Мишель, все честно.
– Честнее не бывает. Ты его убил.
Трубецкой задрал рубаху. Наискосок, от соска к животу, кровянился глубокий разрез, белое и алое, будто по линейке.
– Чуть-чуть ему не хватило удачи, – сказал уважительно Трубецкой. – Чуть-чуть! Ты когда-нибудь задумывался, что такое это «чуть-чуть»? Я задумывался. Квинтэссенция бытия – вот что это такое.
– Давай перевяжем?
– Пустяки. Пошли отсюда.
– А с ним как?
– Падаль найдется кому прибрать.
Возле двери на корточках сидел Толяныч, человек-скала Трубецкой взял у него рацию, покрутил рычажок:
– Внимание! Всем внимание! Команда – отход.
Через минуту мы были на улице. Через две уселись в одну из стоящих возле дома легковушек. За рулем неизменный Витек-молчун. Я с ним поздоровался, он что-то пробурчал себе под нос.
Из дома выбегали черные фигуры, быстро рассаживались по машинам. Я насчитал человек семь-восемь. Рядом бухнулась на заднее сидение девушка Лизетта. Прижалась теплым боком, поцеловала в ухо.
– Я так переживала, Михаил Ильич. Слава Богу, все обошлось. Уроды какие! Мучили вас, да?
– Но кормили от пуза, – похвалился я.
– Трогай, Витя, – распорядился Трубецкой. Протянул сигареты: – Кури, Мишель, все беды позади.
Лиза щелкнула зажигалкой.
Я курил, но казалось, вдыхаю не дым, а сгустки лесной гари. В особняке – не успели отъехать – вспыхнули разом все окна.
Мчались через спящую Москву, точно на качелях, и мне было глубоко наплевать, куда едем.
29. СТАКАН ВИНА НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК
Начало июня – ласковая, солнечная, ровная погода. Теперь, когда по примеру Пушкина, с отвращением читаю жизнь мою, ясно вижу: летние дни в Переделкино были счастливыми. Я благодарен всем, кто был тогда со мной.
Песик Нурек, безродная дворняга с пышной, от пуделя, шевелюрой. Полдня он прятал и зарывал в саду свои многочисленные кости, мослы и рыбные хвосты, затем обходил дозором дальние владения – с севера до опушки леса, и на юг – до дачи известного поэта Н., частушечника и придворного сатирика. Этого поэта Нурек невзлюбил какой-то особенной, почти человеческой нелюбовью, и мог часами подстерегать его у калитки с единственной целью: лишний раз облаять. Может быть, знал про поэта что-то такое, о чем люди только догадывались. Звездный час Н. пришелся на начало гайдаровской реформы, когда ему вместе с хорошо зарекомендовавшей себя группой творческой интеллигенции доверили сочинить новый российский гимн. Под это поручение, кажется, выделили дачу, выкурив оттуда прежних хозяев, прихлебателей коммунистического режима, Однако то ли от избытка верноподданических чувств, то ли от идиотизма поэт Н., как и вся творческая группа, свой звездный час профукал. Гимн не сочинил, сказочный валютный аванс пропил, и от крутых административных мер поэта-частушечника спасло лишь то, что в роковые августовские дни черт занес его в нужное время в нужное место. На одной из бутафорских баррикад ему удалось попасть в объективы корреспондента из «Лайфа» и целой бригады с РТВ, которые заняты были тем, что снимали полнометражный документальный фильм о Евгении Евтушенко как о центральном борце сопротивления всем режимам. В фильме сохранился эпизод, где маститый трибун ногой выпихивает поэта Н. из кадра, но впоследствии, при соответствующей монтировке, получилось, что, напротив, великий вольнодумец помогает своему младшему, тщедушному коллеге подняться на самых верх баррикады. Знаменитый эпизод сослужил поэту Н. добрую службу сколько раз ни попадался на глаза кому-нибудь из властей предержащих, столько раз его награждали орденом и денежной премией. Последнее, что поэт ухватил в 93-м году, в одном списке с генералом Ериным – орден Героя России.
Когда-то, задолго до всеобщего крысиного рынка, я был шапочно знаком с поэтом Н., хотя вряд ли он меня помнил. В ту пору поэт был известен тем, что вечерами прятался в разных углах писательского клуба, подстерегая жертву, и когда угадывал какого-нибудь загулявшего с гонорара литератора, налетал подобно смерчу, распевая срамные частушки и пританцовывая; и отделаться от него можно было не меньше чем червонцем. В противном случае поэт Н., слывя психопатом, мог опрокинуть ресторанный столик или плюнуть зажравшемуся литературному жлобу прямо в рожу.
Еще песик Нурек любил ловить кротов, иногда в охотничьем исступлении зарываясь в землю так глубоко, что наружу торчали лишь задние лапы. Увы, ям он нарыл бессчетно, а крота не поймал ни одного за всю свою бесшабашную жизнь. Тем самым напоминая многих из нас, включая и меня, и поэта Н., если не принять за крота переделкинскую дачу, из которой его рано или поздно все равно вышвырнет какой-нибудь более удачливый собрат по перу. Вон их нынче выстроилась какая длинная очередь от Кремля до самого Вашингтона.
Яркий день, зеленый, цветущий сад, марево дождя и солнца и лопоухий пес Нурек, подбегающий, чтобы мимоходом, в знак бескорыстной дружбы, лизнуть руку…
Довольно близко мы сошлись с Прасковьей Тарасовной, немногословной содержанкой Трубецкого. У этой женщины была загадочная судьба. У нее было три мужа, и все померли при таинственных обстоятельствах: один угорел спьяну в избе от тлеющей печки; второго, богатыря и дебошира, расплющил самосвал, причем в таком месте, у речных мостков, где самосвалов отродясь не бывало; третий погиб и вовсе сомнительно: он был деревенским электриком, залез как-то на столб крутить провода, долго распевал на ветру «Широка страна моя родная…», потом ни с того ни с сего сиганул с самого верха вниз головой.
Самым примечательным фактом было то, что Прасковья заранее, за месяц-два, предсказывала день и час кончины всех трех своих горячо любимых супругов, а последнего, электрика, бесшабашного Петечку все утро умоляла, только что на коленях не стояла «Не лазь нынче на столб, дуралей! Не лазь, упадешь!»
Полез, упал. После этой трагедии Прасковья покинула родную деревню и отбыла в город на заработки. Никакой работы, естественно, не чуралась, но больше всего любила наниматься в домработницы. В одном богатом доме, где верой и правдой служила около года, ее приметил некто Илларион Вишневский, в обыкновенной жизни служащий какого-то советского учреждения, но на самом деле парапсихолог и маг. То есть как приметил? Сперва избалованный Ларисик польстился на свежую женскую деревенскую парнинку, а уж после, когда полюбовно сблизились, разглядел в застенчивой, податливой бабе Божий дар похлеще, чем у знаменитой Кулагиной. Надо вспомнить, что в ту пору все чудеса были под запретом и подвергались гонениям со стороны очумелых коммунячьих властей, что отчасти и способствовало пышному расцвету потусторонних явлений. Тайком Илларион показал деревенскую чаровницу специалистам, сведущим людям, которые, во главе с колдуном Захаром Гребенчуком, все как один пришли в неописуемый восторг. Никому доселе не известная жительница села Грачевки Рязанской губернии на первом же сеансе, в присутствии авторитетной комиссии, лихо потушила взглядом семь свечей, а затем, выпив для затравки стакан шампанского, напряжением собственного биополя вызвала в комнате настоящий ураган, который посрывал с окон занавески, опрокинул на пол книжный шкаф, причем увесистый зеленый томик из собрания сочинений Гоголя угодил в лоб Захару Гребенчуку. На сходке присутствовал известный диссидент и мистик Израил Кислюк, повидавший виды человек, уже хлебнувший тюремной баланды, но он в испуге завопил:
– Остановите же ее! Она все здесь разнесет к чертовой матери!
На что Ларчик Вишневский самодовольно ответил:
– Попробуй, останови! Пока сама не угомонится… Она и в постели такая же.
Несколько нелегальных выступлений Прасковьи Тарасовны засняли на пленку и по верным каналам (через Кислюка) отправили на Запад. Вскоре оттуда пришел официальный ответ, заверенный департаментом полиции и одновременно Всемирным обществом парапсихологов. На семи страницах, со множеством солидных научных ссылок было сказано то, что на русский можно перевести как: «Не гоните туфту. Этого не может быть!»
Как водится, в столкновении с русским феноменом западная наука спасовала. Никакой туфты не было и в помине. Все, что засняли на пленку, Прасковья Тарасовна проделывала натурально: ломала мебель, поджигала костер, сложенный из влажных поленьев, и – венец всему! – на несколько секунд остановила течение подмосковной речушки Воря, отчего из воды в ужасе выпрыгнуло с десяток писклявых щурят, последних живых обитателей отравленного водоема.
Как бы то ни было, после уничижительной депеши в умах местных телепатов началось брожение. Глубокая вера в то, что цвет оккультной мысли сосредоточен исключительно на Западе, а в России проживают одни придурки, вступила в противоречие с очевидностью, с реальным наличием бабы Прасковьи как инфернального фантома, и некоторые, не совладав с проблемой, погрузились в тягчайшую душевную депрессию, в частности, и сам Израил Кислюк. Говорят, он так и закончил свои дни в желтом доме, в окружении заботливых врачей, зациклясь на загадочной фразе: «Уберите ее отсюда, иначе я за себя не ручаюсь!»
Большинство наших телепатов, не раз и не два перечитав западный меморандум, все же пришло к выводу, что Прасковья Тарасовна, несмотря на внешние признаки Божественного дара, является не кем иным, как обыкновенной авантюристкой и подсадной уткой, используемой проходимцем Илларионом в сугубо корыстных целях. Чтобы поставить все точки над «i», кто-то из доброхотов настучал в органы, и вскоре Прасковью забрали на дознание.
О том, как это делалось при проклятом режиме, написано много хороших, честных книг, и тут ничего не убавишь, не прибавишь. Достаточно знать, что основная масса населения сидела в Гулаге, а остальные мыкались в очередях, и неизвестно, где было хуже. Тем более что многие из нынешних мемуаристов, по их собственному признанию, страдали там и там одновременно, а некоторых еще плюс к этому не выпускали за границу.
В глухих подвалах Лубянки Прасковью Тарасовну быстро привели в чувство, и она призналась, что совершала противозаконные действия лишь под влиянием коварного любовника. Понятно, что бы с ней сделали дальше (Гулаг, очередь, психушка), но на дворе уже воссияло солнце горбачевской Перестройки. Последним, кто испытал на себе редкостный дар ведуньи, был следователь, молоденький майор Казбеков. Уже когда женщина подписала все протоколы, по которым ей выходило по минимуму десять лет лагерей, майор, резвяся, спросил:
– Ну что, Параша? Не для суда, для меня лично. Мою судьбу можешь угадать?
Удал был майор, да поторопился с вопросом. Доведенная до отчаяния, бедная женщина поглядела в лучистые, игривые глаза и без задней мысли брякнула:
– У тебя, миленький, рак прямой кишки. Через полгода отмучишься.
Предсказание сбылось, и узнала она об этом прелюбопытным образом. Уже в новую эпоху, очутясь на воле, Прасковья некоторое время бродяжничала, ища хоть какой-нибудь заработок. В домработницы ее больше не брали (паспорт после тюрьмы вернули, но на каждой странице проставили какую-то черную треугольную печать, которая отпугивала нанимателей), а другой городской работы она не знала. Сунулась было по знакомому адресу к Лариоше Вишневскому, но тот, оказалось, при первом сквознячке свободы ломанул в Штаты. Кстати, напрасно спешил. Вскоре все его кореша, телепаты и колдуны, разбогатели и стали самыми уважаемыми людьми в обществе, кто экстрасенсом, а кто и банкиром.
Время подоспело гулевое, беспредельное, открывавшее необозримые возможности для простого честного труженика. Чтобы наскрести денег на обратную дорогу в деревню, Прасковья перепробовала множество профессий, только что проституткой не побывала: никто почему-то на нее не зарился после тюрьмы, да и конкуренция была чересчур высокой, себе дороже. Как-то на вокзале, где часто ночевала, Прасковья познакомилась с такой же праздношатающейся бабенкой, та и сгоношила ее поехать на Востряковское кладбище, где по выходным хорошо подавали. В первый день действительно много собрали и на радостях, изрядно выкушав, започивали с товаркой за оградкой у свежей, мягкой могилки. Очнувшись под утро, глазам своим не поверила. С могильного портретика, лукаво ухмыляясь, глядел на нее знакомый, молодой следователь, в такой же, как на допросе, лихо заломленной набок фуражке, но только уже неживой. Прасковья сверила даты: все сошлось. Ровно полгода отгулял майор с того дня, как насулила ему рак.








