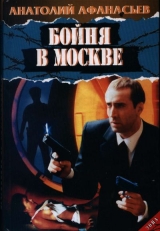
Текст книги "Сошел с ума"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
– Об этом пока забудьте и думать, – он даже испуганно замахал руками. – С собственным паспортом вам путь прямиком в «Матросскую Тишину». Через месяц приговор – высшая мера. При всем нынешнем беззаконии, Михаил Ильич, вы столько набедокурили, никакой адвокат не возьмется защитить… Да вы пейте, пейте, коньяк натуральный, греческий.
Я осушил рюмку, пожевал яблоко. Федоренко протянул сигареты. Я закурил.
– Что я должен сделать? Чего вы от меня хотите?
У Федоренко над переносицей проступили скорбные морщинки, как у врача, который заметил на рентгеновском снимке больного раковое пятно.
– Знаете, в чем вам повезло, Михаил Ильич?
– В чем?
– Вы можете оказать довольно серьезную услугу Сидору Аверьяновичу.
– А кто это?
– Сидор Аверьянович? Это как раз тот человек, которого вы ограбили и чьих людей перестреляли. Очень крупная фигура. Не нам чета, уверяю вас. Облеченный, так сказать, полномочиями.
– Циклоп, что ли?
Федоренко осуждающе покачал головой.
– В потемках блуждаете, Михаил Ильич, а пора бы прозреть. Там, где обитает Циклоп, не к ночи будь помянут, и ему подобные, с вами говорили бы совсем иначе. Там прежде чем просить об услуге, слегка подкоптят на вертеле. Натурально, без всяких метафор, дорогой мой! Пока же, как видите, мы ведем вполне цивилизованную беседу, и лучше нам оставаться в этих границах. Для вас лучше, да и для меня спокойнее.
– Но все же, кто такой Сидор Аверьянович? И зачем я ему вдруг понадобился?
Вместо ответа, Иван Викторович нажал сбоку от себя какую-то кнопку, и в углу засветился телевизионный экран. На нем возникло изображение заседания Госдумы. На трибуне стоял смуглый энергичный человек, который произносил речь. Естественно, я его сразу узнал. Это был Вельяминов, из партии власти, возглавлявший, если память не изменяет, одну из думских наблюдательных комиссий. На сей раз он разглагольствовал о валютном коридоре. Мне было интересно, но Федоренко дослушать не дал, щелкнул тумблером, и экран погас.
– Ну вот, а вы говорите, Циклоп. Это вам, не сомневаюсь, господин Трубецкой навешал лапшу на уши… Сейчас мы к этому Циклопу съездим, и вы сами убедитесь, какой это образованный, интеллигентный человек. Конечно, он очень на вас обижен, и есть за что, но думаю, вы сумеете договориться. Только не советую его нервировать.
– Прямо в Думу поедем?
– Зачем в Думу? Это пленка из архива. В Думе сегодня выходной.
В тоне Федоренко зазвучали пренебрежительные нотки. Я его понимал. Понаблюдав, он пришел к выводу, что с таким субчиком, как я, церемониться нечего.
На улице сели в коричневую иномарку («мерседес»? БМВ? – я в них не очень-то разбираюсь) и поехали. Федоренко рядом с водителем, со мной на заднем сидении пристроился безмолвный хмурый парень, заняв своими мышцами две трети салона. Следом тронулся синий «жигуленок», набитый такими же безмолвными парнями.
Ехать пришлось недолго – несколько кварталов. По дороге я загадал: если вернусь домой благополучно, напьюсь как скотина. По правде говоря, не слишком на это рассчитывал, уж как-то чересчур по-деловому меня опекали. С того момента, как раздался утренний звонок Федоренко, я остро чувствовал поддувающий в грудь холодок страха. Здесь, в уютном салоне иномарки, этот страх уже окутал меня целиком, мешал глубоко вздохнуть: я ехал, точно погруженный в тугой ватный кокон.
Двадцати минут не прошло, как очутился в точно таком же, как у Федоренко, кабинете, но с высоким зарешеченным окном. Сидор Аверьянович Вельяминов вблизи выглядел еще более внушительно, чем на экране. Он был похож одновременно на Шамиля Басаева и на кумира двадцатых годов поэта Бальмонта. Пронизывающий, бешеный взгляд темно-синих глаз, щека дергается в нервном тике. Но это, возможно, результат моего появления. Руки не протянул, из-за стола не поднялся. Первые слова были такие:
– Филимонов, которого вы убили, был мне как сын!
Я вспомнил щеголеватого Георгия Павловича, в золотых очечках, с простреленным плечом, и его прощальные слова: «До скорой встречи, писатель!»
– Извините, но когда я последний раз видел Георгия Павловича, он был вполне живой. Правда, немного раненный. Но не мной.
– Он скончался в больнице. Светлый, безгрешный человек. Последний романтик в этом говенном мире. Повторяю, он был мне как родной сын.
Левая щека Вельяминова дернулась так сильно, что глаз полностью прикрылся. Это меня озадачило.
– Но как он мог быть вам сыном, – удивился я, – если был старше вас?
Федоренко больно толкнул меня локтем в бок. Мы стояли на ковре перед столом Вельяминова, и это до смешного напоминало сцену из прежних времен – выволочка у начальника. Но смешно мне не было.
Вельяминов обратился к подчиненному:
– Иван, ты объяснил, чего мы от него ждем?
– Сидор Аверьянович!..
– Значит так, Михаил Ильич, человек вы культурный, пишите книги, мы их с Иваном просмотрели, книги плохие, поэтому попробуем договориться, как цивилизованные люди. Вы согласны?
– Почему это у меня книги плохие? Есть и хорошие.
– Брось, Михаил Ильич, – хохотнул сбоку Федоренко. – Книжонки грошовые. Другой бы постыдился писать.
– А про Суворова вы читали?
У Вельяминова еще раз дернулась щека, и я наконец-то понял, откуда у него кличка Циклоп.
– Вот что, ребятки, на литературные диспуты у нас времени нету.
Я устал стоять и без разрешения опустился на стул. Хозяин кабинета уставился на меня с изумлением и даже как бы не знал, что дальше делать: продолжать добрый разговор или вышвырнуть наглеца вон.
– Итак, Михаил Ильич, предварительно ответьте на такой вопрос. В каких вы отношениях с Полиной Савицкой, с этой богатой курвой, а также с неким господином Трубецким, про которого могу сказать только одно: зажился он на свете?
Я ответил, что Полина Игнатьевна является моей официальной супругой, а что касается господина Трубецкого, то с ним нас связывает лишь то, что он пытался меня убить, а потом сдал в психушку.
– Ну не только это, – благодушно возразил Вельяминов. – Вас еще связывает общее преступление. Кровцой вы с ним повязаны, кровцой.
– Это уж как вам будет угодно.
Чувствуя, что терять все равно нечего, я демонстративно закурил, стряхнув пепел в вазочку для карандашей. Федоренко осуждающе крякнул.
– Цивилизованные отношения, – доверительно разъяснил Вельяминов, – подразумевают обоюдное взаимопонимание. Вы здесь сейчас, уважаемый писатель, так вольготно расположились только потому, что нужны нам для небольшого поручения. В противном случае… – Вельяминов горестно развел руками, как бы намекая, что перед судьбой мы все бессильны. – Вы понимаете, о чем я?
– Прекрасно понимаю.
– Кстати, что это за новая бабеночка вокруг вас вьется?
– Это Зинаида Петровна, медсестра из психушки. Добрейшая женщина. Она меня спасла.
– Спелая девушка, ничего не скажешь. Ценю ваш вкус. Так вот, и эта медсестра, и ваша дочь Катя, и бывшая жена Ирина, и все прочие, кто вам близок, уверяю вас, надеются, очень надеются, что вы не наделаете каких-нибудь очередных глупостей.
– Я их не наделаю.
К этому времени страх, который я переносил с места на место, как нищий торбу, приобрел успокоительные черты как бы уже случившейся беды. Этот загадочный смуглый человек – Циклоп, Вельяминов, Коханидзе, – хотя он пока не сделал мне ничего дурного, излучал острое, точно запах нарцисса, тягостное очарование смерти. Я почему-то не сомневался, для того, чтобы покончить со мной, ему действительно достаточно лишь разок покрепче мигнуть щекой. Сейчас такие люди повсюду правят бал – на улицах, в ресторанах, в правительственных учреждениях, в творческих союзах – за ними знобяще любопытно наблюдать издали, как за терминатором в исполнении Шварценеггера, но я все же надеялся, что судьба помилует (срок-то остался небольшой) от близкого знакомства, да вот не обошлось. Не помиловала.
– Не наделаете? – переспросил Вельяминов, в очередной раз дернув щекой. – Что ж, время покажет… Значит так, поручение вам предстоит несложное и в сущности для вас, как для писателя, даже заманчивое. Вы же инженер человеческих душ, верно?.. Так вот, поедете в Италию и привезете домой – хм! – свою супругу. Выманите ее оттуда, как лисицу из норы. А уж господин Трубецкой, надо полагать, потянется за ней, как нитка за иголкой. Он ведь тоже при ней вроде мужа. Как думаешь, Иван, прискачет Трубецкой?
Федоренко по-прежнему стоял посредине комнаты в скромной позе просителя, вытянув руки по швам.
– Куда он денется? Все счета на нее.
– Но почему в Италию? – спросил я, словно это было самое важное.
– А ты хотел в Париж? В Италии они, братец, в Италии. В благословенной Венеции отдыхают от праведных трудов. Тратят мои денежки… Михаил Ильич, ты вот что скажи, ты мужик в натуре или нет?
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, что эта лихая парочка использовала тебя, как презерватив, и выкинула на помойку. Разве тебе не обидно? Разве не хочется отомстить?
– Конечно, хочется. Но как вы себе это представляете? Я подойду и скажу: Полина, поедем домой, там тебя ждут хорошие люди?.. Это же нелепо.
– Правильно рассуждаешь. Но зацепка у тебя будет… Иван, да что ты стоишь как истукан. Ну-ка, сделай писателю кино.
Второй раз за день меня побаловали «видаком». Федоренко вставил кассету, нажал кнопку. На сей раз я увидел прелестную любительскую сценку. По цветущему лугу бежала крохотная девчушка в нарядном сарафанчике и с сачком в руке. Растрепанные волосенки, озабоченно-радостное личико. Она ловила бабочку. Но забава продолжалась недолго. Навстречу девочке, откуда-то сбоку, вымахнул дюжий детина в безрукавке, поймал ее в растопыренные ладони и резко подбросил к небу. Дальше последовал гениальный кадр. Камера приблизилась, крупно снимая детское лицо, и на нем в доли секунды сменилось несколько выражений – от наивной счастливой улыбки до почти старческого ужаса и слез. Экран мигнул и закрылся светлым пятном. Вот и весь фильм. Федоренко выключил телевизор.
– Ее дочка, – с удовлетворением пояснил Вельяминов. – Так что, писатель, если Полина тебе сказала, что ты у нее первый, то обманула.
Полина как-то обмолвилась, что у нее есть ребенок, но в такой несерьезной форме, что меня, помнится, покоробило и я не стал углубляться, выяснять подробности. Она упомянула о дочери, словно о дорогой, но потерянной где-то игрушке.
– Зачем вы мне это показали? – спросил я.
Вельяминов поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Росту он был хорошего и сложен отменно. Это было видно по экономным, точным движениям. Из тех, кто худ, костляв, но силен. Наткнулся на Федоренко:
– Ваня, присядь, не мельтеши! – потом обернулся ко мне: – Пленку передашь Полине. Пленку и привет от меня.
– Почему бы без меня не передать?
– Тебе она поверит, нам – нет. Ты же ее муж. Главное, ты должен сказать, что лично присутствовал при съемке. Остальное детали, тебе все Иван разъяснит. Он с тобой поедет.
– И что вы с ней сделаете, если она вернется?
Федоренко улыбнулся от уха до уха:
– Орден ей дадим. А Эдьке Трубецкому – сразу два.
Вельяминов, будучи лицом официальным, к сатире и юмору прибегать не стал:
– Получим долг – и отпустим на все четыре стороны. В этом не сомневайся.
– Вы можете дать гарантии?
– Зарываешься, Ильич, – сказал Федоренко.
– Нет, почему же, – возразил Вельяминов. – Он вправе поинтересоваться. Гарантия – мое честное слово. Этого, надеюсь, достаточно.
– Вполне.
– Тогда с Богом. Вылетите послезавтра. Да, не забудь, писатель, за каждым твоим шагом следят мои люди. Никаких резких движений, понял?
На прощание, как и при встрече, руки не подал, чему я был рад.
Домой вернулся около девяти. До этого Федоренко завез еще в одно место: укромный ресторанчик в подвальном помещении, где-то в районе Текстильщиков. Угостил ужином (осетрина в тесте, белое вино), и кое-что дополнительно растолковал. Оказывается, моя жена Полина принадлежала к тем редким женщинам, которые способны одурачить самого умного и строптивого мужчину. Она владеет даром гипнотического внушения. Список ее жертв огромен, и что характерно, от многих любовников остались только могильные холмики. Некоторые, из кого она высосала деньги, вообще исчезли бесследно, как исчез бы, скорее всего, и я, если бы не мое цыганское везенье. Полина, по всей видимости, родилась ведьмой и, как это часто бывает с ведьмами, приняла облик соблазнительной, вечно текущей самки, в присутствии которой большинство мужчин попросту теряет рассудок, что случилось и со мной.
– Разве не так, Михаил Ильич? – спросил Федоренко, бережно полив осетрину терпким сливовым соусом.
– Похоже на то, – я в основном налегал на белое вино.
Федоренко дал научное толкование неуязвимости Полины. Разумеется, ее много раз пытались ликвидировать, но все попытки кончались неудачей по той простой причине, что применялись обычные человеческие средства – пуля, штык и веревка. А ведьма, как известно, поддается полному распаду только в огне.
– Не совсем так, – сверкнул я трансцендентной образованностью. – Можно использовать заговоренную серебряную пулю.
– Верно, – Федоренко посмотрел на меня благосклонно и задумчиво. – Но в этом случае необходимо вбить в могилу осиновый кол.
– Уж это непременно.
За ужином мы с Иваном Викторовичем немного подружились, к чему он, по его признанию, и стремился, потому что нам предстояло совместное довольно опасное приключение. В порыве дружеской откровенности он сообщил, что и сам однажды удостоился ее ночных прелестей и сохранил в душе самые трогательные, незабываемые воспоминания. Это еще больше нас сблизило.
– Всего разок обломилось. Ты же знаешь ее характер. Разжует и выплюнет. Ведьма. Но я тоже был на грани. Чудом уцелел.
С Трубецким дело обстояло проще. По словам Федоренко, это был обыкновенный авантюрист и убийца, но с княжескими амбициями. Полинин выкормыш и ее правая рука. Вообразил себя крутым бизнесменом, но не заметил, что время первого передела миновало. С ним будет покончено, как только он появится в Москве. Его можно было бы кокнуть прямо там, в Венеции, убытка никакого, но хозяин против. Хочет сперва о чем-то поговорить с зарвавшимся ублюдком. Лично поглядеть в бесстыжие глаза.
– У него нет ни чести, ни совести, – ухмыльнулся Федоренко. – За лишний доллар родную маму на кол посадит. Чемпион сраный.
После осетрины, за кофе раздавили еще графинчик «Камю», и под сурдинку я поинтересовался у нового побратима:
– Как вы думаете, Иван Викторович, если доставим Полину в Москву, Циклоп меня все равно не пощадит?
– Совсем необязательно, Ильич. Ты ему не опасен, а пригодиться можешь. Скоро выборы, а перо у тебя бойкое.
…На скамеечке возле дома, меж двух больших сумок восседала Зинаида Петровна. Вокруг нее нежно струилась вечерняя комариная сырость. Сколько бы она ни ждала, скучать ей не пришлось, потому что за ее спиной, шагах в трех от лавочки, маячил мой неунывающий друг Володя. Чтобы переговариваться с красавицей, ему приходилось напрягать голос, и может быть, поэтому, а может, оттого, что он уже изрядно принял на грудь, рожа у него пламенно раскраснелась. Была какая-то тайна в таком неуклюжем ухаживании, но я ее сразу разгадал. Если бы он уселся рядом с любезным предметом, то есть с Зиночкой, то оказался бы приметным, как мишень, а в таком положении, в отдалении, высокая развесистая ива надежно укрывала сердцееда от возможного придирчивого досмотра жены (пятый этаж, третье окно от угла). Или он надеялся, что укрывает.
Зиночка, увидев меня, беспомощно всплеснула руками:
– Да куда ж ты подевался, Мишенька?! Я ведь извелась вся.
Володя гукнул из кустов:
– Предупреждал вас, Зиночка. Ходок он, ходок. Про него сказано: сколько волка ни корми…
Я нагнулся, чмокнул девушку в теплую щеку, опустился на скамейку, достал сигареты:
– Миша, где ты был? Отвечай!
– По делам ездил. Оформляюсь за границу.
Володя обогнул скамейку, уставился на меня:
– Куда, куда?
– В Италию, дорогой, в Италию, точнее, в Венецию. Помнишь, где по улицам плавают на гондолах?
– Ты с ума сошел! – Зиночка напряглась, как перед броском. – Ты же еще совершенно не выздоровел.
– Бизнес, – коротко объяснил я. – И потом, ты же знаешь, от слабоумия не выздоравливают.
– Он правильно говорит, – подтвердил Володя.
16. БРОСОК НА ЮГ
С паспортом гражданина Зуева я чувствовал себя матерым контрабандистом. В зале ожидания, когда мы с Федоренко уже миновали таможенный контроль, он достал из сумки портативный телефон, соединился с кем-то, аппарат протянул мне.
– Говори, Ильич. Это тебя.
В трубке я услышал сдавленный, растерянный Зиночкин голос. Мы с ней расстались два часа назад у меня дома.
– Зина, где ты?!
– Миша, Мишенька! Что происходит?
– Ты где?
Путаясь в словах, кое-как объяснила, что, как только я ушел, явились трое молодцов, показали милицейское удостоверение и велели ехать на допрос. Она поехала, потому что привыкла подчиняться властям. В машине ей завязали глаза, ткнули в бок пистолетом, и теперь она сидит в комнате с железной дверью и решеткой на окне, неизвестно где. Зиночка неожиданно хихикнула.
– Миш, такая же палата, где ты лежал. Как у нас в больнице. И тумбочки такие же.
– Что от тебя хотят?
– Ничего. Сижу, курю. Об нас думаю.
– Зиночка, не перечь им и не бойся. Ладно?
– Вот еще! Буду я бояться всякую шпану!
Федоренко отобрал телефон. Смущенно буркнул:
– Это не моя инициатива, поверь, Ильич.
– Зачем она вам понадобилась?
– Шефу так спокойнее.
Сердечное томление охватило меня.
– А Катя? Катя тоже у вас?!
– Врать не буду, – Федоренко смотрел на двустворчатую дверь, куда уже начали запускать пассажиров на рейс «Москва-Рим». – Катя под колпаком. Но она дома, не волнуйся. С ней ничего не случится. Ну, сам понимаешь, если…
– Что – если?
– Да ладно тебе, Ильич. Мы же не дети.
Разговор продолжили в самолете. Я уже кое-что знал про Федоренко. В политику и в бизнес он пришел из младших научных сотрудников, и это важная подробность. Новые русские, как известно, хлынули во власть тремя потоками: первый составился из партийных и комсомольских перевертышей, второй – из натуральных уголовников, а третий, гайдаровский, как раз вот из таких неприкаянных, несостоявшихся интеллектуалов. Последний поток выгодно отличался от первых двух: у его представителей сохранился на лицах слабый отпечаток разума. К примеру, Федоренко признавал, что мы все очутились в первобытно-общинном строе, хотя и с приметами супертехнической цивилизации. Нынешний обыватель бесправен точно так же, как его исторический пращур в пещерах. Подобное тотальное подавление личностных начал, с применением новейших психотропных разработок, конечно, никаким коммунистам не снилось. Но выводы, которые Федоренко из этого делал, отличались от моих. Я считал, что надо как-то переждать, пока все само собой образуется, и это произойдет непременно, потому что путь, на который вступило общество, вел в никуда и противоречил инстинкту самосохранения. То, что мы сейчас переживали, был просто очередной самоубийственный виток, на которые так щедра история России. Самый разрушительный из них, считалось, был связан с семнадцатым годом, но теперь выяснилось, что бывают витки и покруче.
Федоренко соглашался, что страна в агонии, но полагал, что усилиями энергичных людей (подразумевалось, таких, как он и Циклоп), ее еще можно волоком перетащить на Запад, где она воспрянет от тупой многовековой спячки и сладостно задышит обновленными рыночными порами. Естественно, при таком колоссальном перемещении не обойдется без жертв, зато попутно произойдет неслыханное очищение от накопившейся в общественном организме человеческой гнили и трухи. Иными словами, Федоренко представлял идущие в стране процессы, как глобальную дезинфекцию, и эта мысль мне понравилась, хотя по его красноречивым намекам было понятно, что моя личная перспектива заключалась в том, чтобы отвалиться вместе с гнилью и трухой.
Целый час проспорили, и от сердца отлегло. Нет лучше лекарства от страха и тоски, чем пустая интеллигентская болтовня. И чем гуще она замешена на крови, тем целебней.
Под крылом самолета, как пелось в старинной песне, тянулось что-то сине-зеленое, похожее на крапивный суп. Салон был переполнен. Мы пили все тот же коньяк и кофе. За несколько последних суток мои внутренности проспиртовались до полной задубелости, и нигде ничего не болело. Так бы и улетел в вечность без промежуточных посадок.
– Но зачем, – спохватился я, – зачем все эти дешевые трюки – с Зиночкой, с Катей? Несолидно как-то. Зачем?
Федоренко глотнул остывшего кофе.
– Что тебе сказать, Ильич? Я тоже этого не одобряю. Но у каждой игры свои правила. Сидор Аверьянович не глупее нас с тобой. Страхуется как умеет. На его месте я бы поступил иначе.
– А что бы сделали вы?
– Я бы вообще тебя не посылал. Не верю в эту затею.
– Почему?
Федоренко поправил модные очки, закурил.
– Если честно, не годишься ты для этого. Ты же в самом деле писатель, интеллигент. Сплошь рефлексы и комплексы. Вашего брата дальше прихожей и пускать нельзя. Ничего не могу сказать, Сидор Аверьянович умен, цепок, прозорлив, в чем-то даже гениален, но тебя играет не в масть. Против Трубецкого с Полиной ты не просто омелок, тебя даже не заметно.
– Все верно, – важно я кивнул. – Почему же вы ему раньше не объяснили?
– Объяснял, – огорчился Федоренко, – да он не слушает. Наше дело щенячье.
Приземлились в Риме, и из нервной московской весны переместились в пышное южное лето. От асфальта дохнуло таким жаром, что у меня в висках сразу загудела кровь.
– В гостиницу? – спросил я с надеждой.
– Не совсем так, – ответил Федоренко.
К огромным западным аэропортам, с транспортерными лентами, с немыслимо пестрой людской толчеей, с гомоном, напоминающим рокот экскаватора, я уже, после Парижа, начал привыкать, но на стоянку машин выбрался в полусогнутом виде, измятый, хватающий пересохшим ртом горячий воздух, – как из чрева матери. Благо, багаж у нас был небольшой: у меня кожаный чемоданчик и у спутника – тугой министерский портфель, из тех, которые опять, кажется, входят в моду среди деловых.
Встретили нас двое молодых, загорелых парней спортивного сложения, у одного из них Федоренко, пожав руку, первым делом поинтересовался:
– Ну что, Микола, скучаешь по матери-родине?
На что парень развязно ответил:
– Скучаю, Иван Викторович, только когда бабки кончаются.
По сытой ухмыляющейся морде было видно, что скучал он последний раз очень давно.
Сели в автомобиль, который называется джип «чероки». Один из парней за руль, второй с ним рядом, мы с Федоренко расположились на заднем сидении. Для тех, кто пока в таком джипе не ездил, сообщу: это не «нива». Чувствуешь себя одновременно как в танке и как в гамаке. Минут пять, не больше, я боролся с неудержимой дремой, а потом без стеснения повалился набок, головой на черный упругий валик. Так стало уютно, как в детстве на бабушкиной печке в родимой деревне Назимиха. Сон был долог и крепок, но и во сне я ни на мгновение не забывал, что еду на свидание с Полиной. Грустно было, что предыдущий паспорт исчез. Кому теперь докажешь, что она моя жена.
Проснулся оттого, что машина остановилась. Выглянул в окошко – обомлел. Сколько глаз хватает, оранжевая полоса, полная солнца и цветов, и на горизонте синяя блестящая кайма, будто там – море. Но это справа. А слева – двухэтажный, ярко выбеленный домик, трехногие столики в кипарисовом саду, опрятные итальянцы и забавная вывеска над фасадом – толстый палец с болтающейся на нем гирляндой ослепительно красных сосисок. Ага, едальня!
– Разомнемся немного, – прогудел сбоку Федоренко. – Ты как, Ильич, очухался?
– Все нормалек.
Первая трапеза в Италии. И первый раз Федоренко снял свои безразмерные очки, положил на стол. В его глазах открылась такая невероятная голубизна, что не только я, но и девушка официантка в накрахмаленном затейливом передничке, загляделась в них, не сразу поняла, чего от нее хотят. Федоренко доверительно погладил ее руку. Засмеялась, убежала.
Обед: сочное, нежное мясо, груда овощей, желтоватое, с кислинкой вино. Смеющаяся девушка с полной грудью, темными, озорными глазами. Стоило прилетать из-за тридевяти земель.
– Где же спагетти? – спросил я капризно.
– Спагетти в Венеции, – Федоренко улыбнулся. – Часика три потерпи.
– Сколько же я спал?
– Ильич, а ты мне нравишься.
– Чем это?
– Люблю людей, которые любят пожрать.
Микола с напарником остались в машине, распахнули настежь все дверцы. Чего там делали – не видно.
Я съел все мясо, много овощей без разбору и выпил около литра вина. Брюхо раздулось, и что-то в нем поскрипывало.
Опять поймал себя на том, что никуда не тороплюсь. Это часто случалось в последнее время: прислонюсь где-нибудь – так бы и замер навеки. Старость подбирается, старость. Шаги у нее кошачьи.
…Открылись пригороды – нарядные дома, зеленые улочки, урчащий поток машин – шибануло в ноздри тяжелым запахом. Вкатили в город под гогот Миколы, чуть не зацепившего колесом совокупляющихся на обочине болонку и терьера.
Венеция – тягучая серенада любви, призрак земного рая, громадная плошка, брошенная с небес, наполненная лампадным маслом. Подтеки каналов вдоль грациозных, с отпечатком тлена дворцов напоминают пятна мазута, разлившегося на километры. Воняет не то мартеновской печью, не то тухлой рыбой. Дряхлеющая жемчужина, сотворенная гениями, поджаривающаяся на беспощадном солнце. Великий памятник человеческой тщете, отзывающийся в сердце восхищением и печалью…
Полуживым добрался до душа в невзрачном, пыльном гостиничном номере, встал под прохладные струи, совершил омовение. Виски набухли свинцом – осадок долгой дороги.
Закутался в белый махровый халат, вышел в гостиную. Федоренко сидел у телефона.
– Давай, Ильич, звони. Чего тянуть, верно?
17. ЛЮБИМАЯ ПОЛИНА
Моэм писал, что срок любви мужчины к женщине никогда не превышает пяти лет. Потом наступает апатия. Полагаю, хитроумный англичанин ошибся. Во всяком случае, в отношении меня. Всех женщин, которых любил, я люблю и поныне, другое дело, что пришлось со всеми расстаться по разным причинам. Расстаться – не значит разлюбить. Напротив, долгое расставание часто возвращает любовь во всей ее первобытной, чувственной силе. Дольше всего мы были вместе с Ириной, моей женой, и теперь, когда давным-давно разошлись, и юная Ирушка день и ночь прислуживает другим партнерам, я более, чем когда-либо, уверен: наш брак нерасторжим. Она тоже про это знает. В ином мире наши души обнимутся, и уже ничто не сможет их разлучить. То же самое могу утверждать про других женщин, даривших мне любовь. С каждой из них мы когда-нибудь встретимся окончательно, чтобы договорить недоговоренное на земле. В моем рассуждении нет противоречия, хотя на первый взгляд оно бросается в глаза. Я так чувствую, знаю, что так именно будет, и никакие иные доводы для меня не имеют значения. Формальная логика, на которую так падки образованные умники, тут, разумеется, ни при чем.
Теперь о Полине. Пока меня держали в сумасшедшем доме, у меня было время спокойно подумать о ней. Встреча с ней не была случайной, как могло показаться. Исполнилось некое предначертание, питавшее мои грезы с юных лет. Полина была расплатой за все грехи прежних дней и еще подарком судьбы на прощание. Этакая стопка огненного спирта на посошок. Иначе откуда взялась эта неудержимая прыть плоти, сопровождаемая глухой, могильной тоской? В нашем стремительном романе ничего не значили внешние атрибуты. Предательство, ложь, кровь, дурные страсти – все исчезало, как только гас дневной свет и ее теплая, страждущая бездна поглощала мои суетливые охотничьи посягательства. Мы не совокуплялись, а каждый раз погибали заново в сладчайшем из земных полетов, и Полина ощущала это с таким же острым восторгом и беспамятностью, как и я. Чтобы удостовериться в этом, надо было ее повидать.
Восемь цифр набрал Федоренко, прежде чем я услышал музыку, плеск воды и томный голос:
– Алло, вас слушают! – дальше то же самое по-английски. Это была она. Я положил трубку на рычаг.
– Ты что? – вскинулся Федоренко, – Что с тобой?!
Лицо у него стало скучное.
– Ничего. Мне нужны гарантии. Ты их дашь.
– Какие гарантии, опомнись! Все обговорено.
– Обговорено, но не с тобой.
– Чего ты хочешь?
– Объясню, не волнуйся, – я закурил, откинулся в кресле. Жаль, что не видно его глаз, они такие голубые. – В самолете ты все правильно говорил про меня, но упустил одну деталь. Ее и Циклоп не принял во внимание, а напрасно. Да, я слабый человечек, гнилой, рефлексующий, куда мне до вас, героев, но вот какая штука, вы за жизнь цепляетесь, а я – нет. Тут тебе придется поверить на слово. Я устал жить, особенно после того как нюхнул электричества. Но помирать подлецом неохота. Пожалуйста, Ваня, можешь убить меня прямо здесь, в номере, но тебе это выйдет дороже, чем мне, не правда ли?
– Это все лирика. Какие тебе нужны гарантии? О чем ты?
– Я должен быть уверен, что вы не убьете Полину.
Федоренко завертел шеей, будто вытягивая ее из грудной клетки, изображая ту степень изумления, за которой наступает коллапс.
– Боже мой, Ильич! Ты всерьез?
– Совершенно.
– Из-за этой похотливой сучки ты готов… Ильич, да ты все же мужик или нет?! Она же тебя кинула и еще кинет при первой возможности.
– Это наши маленькие семейные проблемы.
Федоренко недоверчиво хмыкнул, подошел к холодильнику и достал две жестянки пива. Одну отдал мне.
– Хорошо, говори конкретно. Чего хочешь?
– Напиши записку.
– Какую записку?
– Я продиктую.
Еще малость поторговались, но к тому времени как опустошили жестянки, записка была готова. В ней говорилось следующее: «Михаил Ильич, ничего не опасайся. Циклоп не в курсе. Как только узелок завяжется, пошлем его на х… Его давно пора выносить. Ф.»
– Не знаю, куда ты прилепишь эту гарантию, – задумчиво сказал Федоренко, – но ты хитрее, чем кажешься. И от тебя, Ильич, немного попахивает говнецом.
– Ты к себе почаще принюхивайся… Набирай номер.
Заново прослушав ее мелодичное «Але, але!», я поздоровался:
– Полюшка, это я.
– Миша? Не может быть!
То, что она узнала меня сразу, говорило о многом. Но радости в ее голосе не было, как не было и разочарования.
– Миша, ты где? Как ты меня нашел?
– Это не сложно. Тебя многие знают. Ты самая прелестная обманщица на свете.
– Ты в Москве?
– Намного ближе. Почти у твоих ног.
– Миша, не пугай меня!
Я самодовольно ухмыльнулся, шепнул внимательно слушающему Федоренко:
– Рада до безумия!
– Еще бы, – одними губами произнес он, – ты же вон какой красавец.
– Полинушка, – позвал я в трубку, – а где мой дорогой друг Эдичка? Он с тобой, надеюсь?
– Зачем он тебе, Миша? Ты приехал сводить счеты?
Быстро она взяла быка за рога.
– Какие счеты? Какие у меня с ним могут быть счеты? Я же для него давно труп. Какие могут быть счеты у трупа с преуспевающим, блестящим джентльменом?








