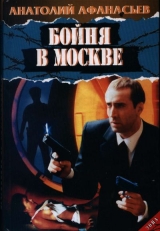
Текст книги "Сошел с ума"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Да, – призадумался Игнат Семенович. – Хлопотно с тобой иметь дело, писатель. Слишком быстро отключаешься. Но ничего, что-нибудь сообразим.
Подмастерье Артур, человек-крыса, был тут как тут со своим плотницким ящиком. Но тоже находился в затруднении:
– Другому яички подрежешь, дак он еще после кувыркается. А этому ноготок не дерни! Слякоть какая-то. Тьфу!
Обсуждение проходило в той же комнате и в том же составе, что и на первом допросе, но в более непринужденной обстановке. Меня сразу повалили на пол, и Сырой удобно поставил ногу мне на грудь. Но пока не душил. Он был вообще немного рассеянный, как бы с похмелья. Видно было, что предстоящая экзекуция его забавляла, но какая-то посторонняя забота мешала сосредоточиться. Во мне же после безумной ночи и короткого сна вообще не осталось никаких чувств, даже страха. Скажу прямо, мое состояние ничем не отличалось от ожидания в кабинете дантиста. Нездоровое любопытство, чуть сосет под ложечкой – и больше ничего.
– Ну чего, Семеныч, – поторопил Артур. – Чего предлагаешь? Может, током попробуем?
– Током не надо, – подал я голос с земли. – Током меня в психушке лечили. Секунды не выдержу. А вырубаюсь на сутки. Проверено.
Гнилые глаза Сырого сверху вонзились мне в лоб.
– Придурок! Неужто думаешь, Эдька не знал, зачем тебя посылает? Или думаешь, эта сучка не знала? Да они тебя просто сдали. Выкинули, как старую рухлядь на помойку. Ты и есть старая рухлядь. Может, образумишься?
– О чем вы, Игнат Семенович?
– Где прячутся эти двое паскуд?
– Рад бы помочь, но…
Сырой убрал ногу, нагнулся:
– Ты мне динамо не крути. Хуже будет.
– Куда уж хуже.
– У тебя связь с ними есть. Должна быть.
– Но я же объяснял. Когда вернусь домой, они позвонят.
– Как они узнают, что ты вернулся?
– Наверное, наблюдают.
– Ах, наблюдают! – в справедливом раздражении Сырой пнул ногой мне в бок, но не сильно.
– Семеныч, давай его пощиплем по-турецки? – Артур томился от безделья.
– Приступай, – распорядился Сырой.
Турецкая пытка заключалась вот в чем. Артур вскипятил электрический чайник. Достал из ящика пластмассовую воронку, вроде той, какую водители используют при заливании бензина в бак. Кончик воронки аккуратно смазал вазелином. Меня перевернули на живот, и Артур аккуратно вставил воронку в задний проход. Довольно глубоко погрузил, но ничего не разодрал.
– Дай-ка мне, – Игнат Семенович отобрал у него чайник и лично приступил к процедуре. Когда в тебя через задницу вливают кипяток, испытываешь много разнообразных ощущений, и не последнее среди них – чувство безумного унижения. Но это только в первый миг. Когда возникает боль, кишки начинают плавиться и рвота устремляется в горло, об унижении уже не думаешь. Завопив дурным голосом, я вывернулся из железной хватки крысы и коленом вышиб чайник из рук Сырого. Но если бы я даже этого не сделал, им все равно бы понадобился перерыв, чтобы отсмеяться. Смеялись они недолго и соблюдая приличия, как бы извиняясь передо мной за неуместное веселье. Полагаю, если бы здесь присутствовал Игорь, его бы непременно от смеха хватил родимчик.
Отквохтав, Сырой поинтересовался:
– Ну что, Миша, еще чайничек примешь? Тебе вроде понравилось.
Говорить я не мог, кипяток проник в желудок, спалив попутно двенадцатиперстную кишку. Как рыба на берегу, я жадно глотал ртом воздух.
– Крепкий орешек, – пошутил Артур. – Таких у нас еще не было.
– Партизан, – уважительно добавил Сырой. – Товарищей нипочем не выдаст. Давай-ка, Артуша, наладим саратовскую гармошку. Ему будет любопытно. Порадуем старичка.
Дружно взялись за дело. Если судить объективно, пытка «саратовской гармошкой» более интеллигентная, чем «турецкая», хотя для нее потребовались довольно громоздкие приготовления. Автором этой пытки, как я понял из разговора, был сам Игнат Семенович и чрезвычайно этим гордился. Меня усадили на стул и привязали к спинке. Артур раскалил на спиртовке обыкновенную вязальную спицу и ловко проколол в мочках моих ушей, в каждом по два, отверстия. Затем вместо сережек продел в отверстия длинный черный шнур, хитрыми петлями обмотав голову, стянув плотно подбородок и нос. Артур и Сырой взялись за концы шнура и разошлись в разные стороны. Сырой оповестил:
– Теперь ты гармошка, писатель. Но не вздумай дергаться, глотку перережет, как бритвой.
Кровь капала на плечи, уши жгло огнем, но я был в полном сознании.
– Заказывай музыку, Артуша! – сказал Сырой.
– Ноктюрн для фортепьяно с оркестром, – радостно отозвался человек-крыса. Эффект был потрясающий. Они поочередно или оба сразу дергали, тянули концы шнура, а я вопил на разные голоса, не имея сил остановиться. Ощущение было такое, будто череп распиливают на куски, а из ушей и ноздрей подтекает мозг. Особенность пытки была в том, что стоило ослабить натяжение шнура, как боль становилась терпимой и сменялась мерным, тяжелым звоном в башке. Чередование вспышек боли и гулкой тишины исторгало из меня такие звуки, что я и сам поражался. При этом, если я неосторожно кренился, шнур металлической струной врезался в кадык. Я был уже близок к тому, чтобы рвануться вперед и покончить со всем разом, но Сырой чутко уловил этот момент.
– Антракт, – провозгласил он торжественно. – Конец первого акта. Артуша, принеси-ка нам пивка. Музыканта надо освежить.
Человек-крыса удалился, утирая счастливые слюни рукавом. Сырой закурил.
– Миша, ну как? Вижу, вижу, понравилось. Ничего, отдышись, и начнем заново. Весь не выкладывайся, береги силы. У меня еще много чудесных сюрпризов. Ты ведь никуда не спешишь, нет?
– Садист вонючий! – сказал я. Или только показалось, что сказал. Больше всего мне хотелось пощупать голову, проверить, сколько мозгов накапало, но руки были примотаны к туловищу.
– Обзываешься напрасно, – миролюбиво молвил Сырой. – Думаешь, мне больше делать нечего, как только с тобой возиться? Это ты ко мне пришел, не я к тебе. И не я Трубецкого ограбил, он меня. Знаешь, сколько он увел? Скажу – не поверишь. На круг за двадцать миллионов долларов. И что значит твоя или моя жизнь в сравнении с такими суммами? Миша, ты же культурный человек. Прямо зло берет. Из-за чего упираешься? Из какого принципа? Представь, как эта веселая парочка сейчас над тобой глумится. Трахают твою Катюшу в хвост и в гриву – и животики надрывают. Куда дочь увезли, ты тоже, конечно, не знаешь?
Я молчал.
– Ну молчи, молчи, совочек ты наш!.. Да ты хоть представляешь, кто такая Полина? Или она тебя между ног пустила, и ты ослеп? На старости лет сладенького обломилось? А по виду не скажешь, что такой примитив… Миша, да если меня, Артушку да еще покойного маркиза де Сада сложить вместе, все равно на ее портрет не потянет. Обязательно придется добавить какую-нибудь бешеную собаку. Не веришь? Ну-ну… По правде говоря, я ее уважаю. Классная баба. Экстра. Люкс. Люциферу и не снилась такая дочурка. Ты для нее, конечно, на один зубок мясинка. Эдька Трубецкой, врать не стану, тертый калач, круче не бывает. Артист, чемпион, кавалер, убийца, с ним вровень мало кто станет, а поди ж ты. Подмяла под себя, как курчонка. Только клювик торчит. Ему самому разве пришло бы в голову с Циклопом схлестнуться – она подбила. Курва заговоренная! Два раза ее лично на мушке держал, увертывалась, падла. Постыдись, Миша, кого покрываешь? Один черт, с твоей помощью, нет ли, мы их обложим. На этот раз не уйдут. Дочурку пожалей. Я ее видел, Эдька ее живо сомнет. Телка сисястая, свежачок. Он таких не пропускает. Хочешь скажу, чего они с ней сделают?
Вернулся Артур с пивом. Целый ящик жестянок приволок. Но мне не дали ни одной. Да я бы и не смог выпить: рот захлестнут шнуром, как скобой.
Мучители откупорили по баночке, посмаковали под сигаретку.
– Чего он, – спросил Артур, – не колется?
– Упертый очень. Придется на кол сажать.
– Может, правда не в курсе?
– Скоро узнаем. Готовь насадку.
Одеревенело я следил, как Артур извлек из своего безразмерного ящика металлический штырь, напоминающий комнатную антенну, растянул метра на полтора и начал нанизывать острые блестящие пластины, укрепляя каждую гаечкой.
– Да, Миша, – опечалился Сырой. – Ты правильно понял – это конец. Называется «поймать окуня». Один поворот резца – пол-литра крови. Но наружу не вытекает, скапливается внутри. Вскрытие покажет: весь пищевод разрезан на абсолютно равные лоскуты. Не скрою, мучения адские. Рассчитано на полчаса. Можно запустить в зад, но в рот эффективнее. Кричать не сможешь. Красивая, молчаливая, геройская смерть. Напоследок надуешь много разноцветных больших пузырей. Первую партию сам увидишь. Незабываемое зрелище.
– И ничего нельзя изменить?
– Нет, Миша, уже нельзя. Слишком ты гордый человек. Не по чину. Давай, Артуша, приступай. Потом еще пивка попьем.
Человек-крыса, осклабясь в отвратительной ухмылке, медленно понес к моему лицу сверкающее острие, и тут я наконец отрубился. Щелкнул в голове спасительный клапан, и сознание блаженно погрузилось во тьму.
26. В КАМЕРЕ
Опять целый. Лежу на нарах, как король на именинах. Та же камера, та же параша. Но все же не верилось. Мелькнула даже блудливая мыслишка, что именно так выглядит рай – нары, окно в решетке, напротив, тоже на нарах, смуглый волосатый человек иного вероисповедания: брат.
– Теперь спать нельзя, – хмуро объявил брат Руслан. – Застукать могут.
– Кулаком по брюху, – вспомнил я.
– Зачем кулаком? – смутился. – Мы же не звери. Кунаки. Застукают – другого пришлют. Лучше не будет.
На мне – порванные прекрасные брюки, драная рубашка. Во рту вкус желчи и крови. Голова гудит, уши пылают. Но какие все это пустяки. Живой. Отдыхаю.
Руслан сидел в позе лотоса, могучий темно-коричневый живот горой навис на бедра. Воровато оглянулся на дверь.
– Для тебя радость есть, Миша.
– А?
Перегнулся, пошарил за спиной и – о, Боже! – извлек бутылку вина. Запечатанную, с яркой наклейкой.
– Тебе нужно. Попей. Только тихо.
Зубами сорвал крышку, мизинцем, без всяких усилий, вдавил внутрь пробку, протянул. Я приник к бутылке надолго, навсегда. Булькал, перхал, сосал до изнеможения, пока внутренности не залил с краями. Руслан наблюдал с сочувствием.
– Уши проткнул, печень вынет. Крепко за тебя взялся.
– Крепче не бывает, – подтвердил я, отдышавшись. В бутылке оставалось едва ли на треть. Прижимал ее к груди, как младенца.
– Чего задолжал, скажи?
– А ты не знаешь?
– Ребята говорят, человечка не сдаешь?
– Это он так думает.
– Сдай. Не держись. Может, помилует.
– Сдал бы, если бы знал как.
– Человечек кто, кунак тебе?
– Тамбовский волк ему кунак.
Руслан кивнул с пониманием:
– Игнатка грубый, кровь любит. Однако слово держит. Поторгуйся, сдай человечка. Тебе хорошо будет. Жить будешь, вино пить. Бабки в банке возьмешь. К девке пойдем. Гулять будем. Разве плохо? Помирать не надо, было бы за что.
– Эх, Руслан…
Вино усмирило кишки, прижженные кипятком. Я привалился к стене, закрыл глаза. Думать было не о чем. Абсолютная ясность перспективы. В третий раз Сырой додавит, поймает окуня, тут сомнений нет. Вобьет в глотку сверкающий стержень с насечкой. Выроет в сокровенной нежной глубине кровавую яму. Ему забава, мне – кранты. Ждать недолго, можно помечтать. Вспомнить Полину. Она совсем не такая, как уверял Сырой. Ее никто не знает, кроме меня. Заблудшее чадо любви. Пусть наваждение, пусть что угодно, но и с железом в горле я хотел бы заглянуть в волшебные глаза. Не насмотрелся, не налюбовался. Все время что-то отвлекало. Смешная, нелепая история со мной приключилась. Почти пятьдесят лет отпыхтел трудолюбивым, рассудительным, педантичным хорьком, а со смертью свело влюбленным юношей. Зато понял: только в дурости человек и бывает счастливым.
– Миша, – окликнул горец. – Допей вино, бутылку спрячу.
Я добулькал, хотя без прежней охоты. Предстояла последняя, почти нереальная попытка выкарабкаться, спастись. Теперь каждое слово, каждое движение должно быть взвешенным, точным. Без дублей.
– Картишки при тебе?
Руслан озадаченно поднял брови.
– Играть хочешь?
– Отыграться хочу.
– Ну давай, попробуй.
Нехотя, небрежно раскидал карты. Он оказывал мне красивую услугу: знал, что не расплачусь, но уважил последний каприз. Потянулась прощальная сика, безнадежная, как жертвоприношение. Карты двоились в глазах, с трудом отличал я семерку от десятки, вальта от дамы, но сумел за короткое время подзалететь еще на пяток тысяч. У Руслана постоянно выскакивали его три туза, а у меня, как песок из прохудившегося мешка, сыпалась всякая шваль.
Отложив карты, я сказал:
– Совесть меня мучает, Руслан.
– Пусть не мучает. У меня претензий нету.
– Долг есть долг. Не могу я так. По-другому воспитан. Карточный долг – долг чести.
– Да, верно, – согласился горец удрученно. – Помирай, но долг плати. Я сам такой, Миша… Сдай человечка, иначе нельзя.
– Не могу, не знаю, где он.
Оба мы глубоко задумались. Горец первым нарушил грустное молчание:
– У тебя, Миша, кто на воле есть? Может, родичи? Может, верный кунак?
Вот он сам и сказал что следовало. Но сразу я не ответил, хотя подмывало. Повеселев от вина, попросил у него зеркальце, чтобы глянуть на уши: не отвалились ли.
– Чего смотреть, – отсоветовал он. – Морда как морда. Другой нету.
Однако зеркальце у него, как у каждого уважающего себя джигита, нашлось: дамское, вделанное в серебряную пластину. В своем роде удобная вещица, при необходимости можно использовать как резак.
Уши были на месте, при этом увеличились в размерах и напоминали две перезрелые свеклы. Морда раскрашена разноцветными полосами и синюшными подтеками, будто у матерого панка с Пушкинской площади или у индейца-делавара, выходящего на тропу войны.
– Ничего, – успокоил Руслан, – девки уродов любят.
Я сделал вид, что загоревал, но ненадолго. Уточнил, который час, оказалось – шесть вечера. В прежней жизни я обыкновенно в это время пил кофе после дня трудов.
– Пожрать не дадут? – спросил утвердительно.
– Почему не дадут? Мне дадут, тебе нет. Я поделюсь.
– Почему же мне не дадут? Обязаны дать. Хоть каши какой-нибудь.
– Вчера кушал в долг, сегодня в долг. Нехорошо. Не поверят. Могут обидеться.
– А покурить?
– Покурить пожалуйста, – протянул сигареты, щелкнул зажигалкой. Глядел с упреком. «Ну давай, давай!» – мысленно я поторопил. Он словно услышал. – Что же, Миша, в городе у тебя есть родич? Или нету родича?
– Не родич – друг, – я вздохнул тяжело, опустил глаза.
– У него бабки есть?
– Он знает, где мои лежат.
Руслан почесал волосатую грудь, состроил умильную гримасу.
– Давай записку пиши. Смотаюсь, привезу бабки. Туда, обратно. Честно будет. Сколько может дать?
– Сколько хочешь даст. Не в этом дело.
– В чем, дорогой?
Я отвел глаза. Затянулся сигаретой. Как бы мучительно размышлял.
– В чем, дорогой? – повторил он таким тоном, каким скромная женщина интересуется у мужчины, любит ли он ее. – Почему сомневаешься?
– Я не сомневаюсь. Записке не поверит.
– Чему поверит?
– Голосу поверит.
Руслан почти переместился на мои нары.
– По телефону говорить хочешь?
– По телефону можно, – буркнул я. Руслан положил руку на мое колено. Тяжелая рука.
– Блефуешь, Миша?
Очень важный был момент, переломный. Слишком осторожно горец нюхал наживку. Но кому из нас алчность не затуманивала мозги. Да и чем он рисковал? Ничем.
– Как ты можешь?! – я вложил в слова всю обиду, которая у меня к тому времени накопилась: на садиста Сырого, на себя, на Полину, на бездарно обрывающуюся жизнь. – За дешевку принимаешь?! Хорошо, оставим этот разговор.
– Зачем оставим? Разговор нормальный. Телефон можно устроить.
– В чем же заминка?
– Слушать буду, как говоришь.
– Слушай, пожалуйста. У меня тайн нет. Да и как я могу обмануть, сам подумай. Просто хотел отблагодарить за все. Долг отдать. Ну и покушать напоследок по-человечески. Водочки выпить. Знаешь ведь, чего меня ждет. Не танцы-шманцы.
– Пятнадцать тысяч у него есть? – уточнил Руслан.
– У него сколько хочешь есть.
– Проси двадцать. Девочек позовем.
– Чего-то дорогие получаются девочки.
Руслан просиял чернотой глаз, как небесными зарницами.
– Всякие есть, но нам таких не надо, верно?
– А каких нам надо?
– Рыженькие, беленькие, чистенькие. Десять лет, двенадцать лет. Все целки. Тебе и мне по две штуки, а?!
В полном экстазе поцеловал кончики пальцев, изобразив букет. Мне ничего не оставалось, как восхититься его вкусом.
– Попрошу двадцать, ладно. Все одно помирать.
– Замечательно сказал. Дай обниму тебя, брат.
Мы обнялись, при этом если у меня оставалась хоть одна целая косточка, то и она хрустнула. Руслан по-кошачьи спрыгнул к двери, постучал условным стуком. Что-то гортанно выкрикнул, но не по-русски. Его выпустили.
Пока его не было, я мечтал. Это лучший способ одолеть кошмар надвигающегося небытия. Кроме молитвы. Но во мне было слишком мало веры, чтобы на нее опереться. Улыбающийся смертник – это либо молящийся, либо мечтающий. Я мечтал о том, что было давно и никогда не вернется. Вспоминал родителей. Как много они пережили, но остались добрыми, доверчивыми, наивными людьми, верящими в неостановимую поступь прогресса. На долю их поколения выпали такие беды, перед которыми нашествие новых гуннов кажется вообще пустяком, вечерней прогулкой под дождем. Еще мечтал очутиться на даче в летнем саду, где распустились гладиолусы, розы и клубничные грядки искрятся бледной росой. Сидим в беседке с милым старым другом перед накрытым чайным столом, а неподалеку дымится труба нашей крохотной баньки… Боже мой!
Руслан притащил аппарат сотовой связи с отводной трубкой. Улыбался застенчиво. Словно его окропили святой водой.
– Еле выпросил. Игнатку боятся, шакалы. Придется кое-кому отстегнуть.
– Это не проблема. Сейчас все уладим.
Телефонный номер, который дал Трубецкой и который горел в мозгу огненными цифрами, был единственной ниточкой, связывающей с волей, с надеждой, но я не торопился его набирать. Слишком многое зависело от этого звонка, и слишком велика возможность неудачи. Первое – надо застать Трубецкого на месте. Второе – малейшая неточность, неверное слово, интонация, и горец догадается, что его хотят одурачить. Я не сомневался в сообразительности и реакции Трубецкого, но все же… Да и с чего я взял, что он захочет помочь?
– Чего, Миша? Чего ждешь?
– В горле пересохло.
Продолжая застенчиво улыбаться, Руслан из внутреннего кармана куртки достал точно такую же бутылку, какую я уже выпил.
– Ну ты фокусник! – восхитился я.
– Зачем фокусник? Тебе надо, я принес.
По очереди сделали из горлышка по несколько глотков.
– Звони, Миша. Или передумал?
Я отстучал заветный номер. Трубку снял Трубецкой. Будто ждал звонка, но от меня ли?
– Алло, можно попросить Викентия? – быстро сказал я. Трубецкой ответил дружески, весело:
– Ты что ли, Мишка? Не узнал меня? Я и есть Викентий. Ты что, керосинишь с утра?
Уф, первый, самый трудный этап пройден. Руслан, прилепивший отводную трубку к уху, глубокомысленно моргал.
– Викеша, нет времени объяснять, но у меня небольшое затруднение.
– Весь внимание.
– Срочно нужны деньги.
– Сколько?
– Много. Двадцать… нет, двадцать пять тысяч.
– Каких тысяч? Миш, приди в себя. Тебе бутылки не хватило? Сейчас привезу. Говори куда.
Руслан делал какие-то странные знаки, будто ловил на груди блоху, но мне было не до него.
– Викентий, соберись, пожалуйста. Мне срочно нужны двадцать пять тысяч долларов. Ты знаешь, где их взять, верно?
– Ну даешь, парень! – Трубецкой растерянно хохотнул. – И вроде трезвый по разговору.
– Это дело чести. Тебе что, трудно передать деньги?
– Нет, не трудно. А сам почему не можешь? Это же твои деньги, не мои.
– Перестань валять дурака, – я разозлился вполне натурально. – Если бы мог, не просил бы. Я занят. Деньги отдашь посыльному. Сейчас он тебе сам скажет, куда подвезти… Викентий, слышишь?
Трубецкой молчал, и это было правильно. В этот момент он и должен был помолчать, потому что растерялся.
– Викентий, ты что, оглох?!
– Хорошо, Миша, – отозвался замогильным голосом. – Все сделаю, раз просишь. Но скажи одно, у тебя с головой в порядке?
– У меня – да. А у тебя?
– Миша, не обижайся, но пусть этот твой посыльный привезет расписку.
– Будет расписка, крохобор!
Руслан сверлил меня зрачками, как двумя паяльниками. Я передал ему трубку.
– Слушаю вас! – сказал он важно. Я забрал у него микрофон, приложил к уху. Трубецкой холодно спросил:
– Это вы Мишин гонец?
– Ага. Встретимся, да?
– Мне нужно часа два, чтобы управиться.
– Два, три – разница какая. Говори место.
Трубецкой подумал.
– Вы откуда поедете?
– Ты скажи куда, – хмыкнул Руслан. – Откуда неважно.
– Остряки, черт бы вас побрал, – выругался Трубецкой. – А то, что у человека свидание, вас, конечно, не касается? Двадцать пять штук, шутка ли! Может, вы скажете, чего там старый греховодник затеял?
– Чего затеял, не мое дело.
– Ладно, подъезжайте к девяти на Ногина. Устраивает?
– Очень устраивает. Давай на Курский вокзал, да? Там лучше будет.
– На Курский так на Курский. Где там?
Руслан долго объяснял, какой выход из метро, и как идти к кинотеатру, и где расположено кафе «Звонница», а Трубецкой никак не врубался, сердился, и это выходило у него блестяще. Наконец, сговорились, и Руслан отключил аппарат. Крупно хлебнул из горла, вернул бутылку.
– Друг твой дебил, да?
Я тоже выпил.
– Вот ты бы к женщине собрался, а тебе помешали. Чего бы сделал?
– Может, убил, – честно признался горец. – Смотря какой причина. Важный причина – женщина подождет.
– У тебя документ какой-нибудь есть?
– Зачем документ. Паспорт есть. Прописки нету.
– Захвати на всякий случай. А мне нужна бумага и ручка. Расписку напишу.
Руслан отнес телефон и вернулся с листом бумаги. Пока ходил, я осушил бутылку до дна. У нас еще оставалось время, и от нечего делать перекинулись снова в картишки. Произошло чудо: пару лимонов я отыграл на бубновой масти. Руслан был рассеян, что-то его беспокоило. Три туза выскакивали через раз.
– Скажи, Миша, твой друг – он кто?
– Хороший человек. Бывший профессор. Его даже в Америке уважают.
– Со мной лучше не хитри. Если чего знаешь плохое, скажи. Потом поздно будет. Я человек вспыльчивый, стреляю прямо в лоб.
– Викентий повода не даст, – уверил я. – Он тихий. Вы как друг друга узнаете?
– Ты же слышал. Он в черной шляпе, большой трость. Ореховый набалдашник. Узнать легко.
Отчего-то мне стало жаль могучего мусульманина, хотя он вовсе не шутил, когда сказал, что стреляет прямо в лоб. В Трубецкого вряд ли попадет.
В начале девятого попрощались. Руслан дал последние наставления: сидеть тихо как мышь, ждать. Хипежа никакого не будет: дежурит верный кунак.
– Чтобы веселее ждать, – намекнул я, – хорошо бы еще бутылочку.
– Бутылочка, девочки – все потом.
Вторично за этот вечер крепко обнялись.
27. В КАМЕРЕ
(Продолжение)
Был писателем, мнил о себе. Думал, напишу про Сухинова, про поручика, про несчастного, страдающего, бьющегося лбом об стену, затерянного в девятнадцатом веке брата своего – и кто-то прочитает, и у кого-то, ну, пусть у трех, двух десятков людей откроются глаза на правду жизни. Теперь спроси, о какой такой правде помышлял, убей – не отвечу. Как не отвечу на вопрос, где та недописанная рукопись, в чьих руках? Сожжена ли, валяется ли в мусорном баке, прибрана ли хозяйственным мужичком для домашних нужд? Жалею ли о затраченном всуе, впустую труде? Нет, не жалею. Нисколько не жалею. Чернышевский, помнится, переживал, когда забыл свою рукопись в вагоне (пьян был?), а я – нет.
Был мнящий о себе писатель, а стал дрожащий от страха, истерзанный кусок полугнилого мяса, остатками разума цепляющийся за то, что, в сущности, гроша ломаного не стоит. И если такое превращение возможно, а полагаю, не только возможно, но естественно, то какая еще есть правда жизни, кроме этой: гнусной, мелкой, отрицающей наличие Божества?
Писатель?
Самое ужасное, опасное явление на свете – это человек, знающий за других, как им жить, и диктующий свою волю. Если такой человек достигает достаточно высокого общественного положения, то сеет вокруг себя беду, как старуха лебеду. Обыкновенно это политики, которые вдруг, в силу каких-то потусторонних причин, начинают вмешиваться в природный ход бытия и навязывать миру свои порядки, якобы намного лучшие, чем были до них. Объясняют они свои патологические действия, как правило, стремлением к прогрессу и всеобщему счастью. Что на самом деле таится на дне их больных душ, один Господь ведает. Иногда кому-то из них удается совершить такие кошмарные деяния, которые отвергает нормальный рассудок. Миллионы ни в чем не повинных людей перемешиваются в труху, в гниль, целые поколения выкашиваются, как сорная трава; вся человеческая история зияет незаживающими ранами. Достаточно вглядеться в фигуры диктаторов, в которых персонифицировано вселенское зло – Чингисхан, Наполеон, Ленин, Гитлер, Сталин, – чтобы понять, о чем идет речь. В этот же сакральный ряд, торопясь, пытаются втиснуть свои ненасытные тушки многие из нынешних реформаторов. А что же писатель?
Да он только тем и отличается от политика, что излагает свои убогие воззрения, свои грошовые заклинания на бумаге и вроде бы не лезет нагло каждому в душу. Вроде бы ничего никому не навязывает, никого не принуждает жить по его хотению. Но это только видимость. Писатель, берущий на себя роль пророка и учителя жизни, еще хуже, грязнее любого политика-революционера, хотя бы потому, что его труднее поймать за руку. Зло, которым он смущает сердца, маня к лучшей доле, ведомой лишь ему одному, подобно радиации, разъедающей дух невидимыми, бесшумными взрывами. За целые века писатели так много насочиняли зловещей возвышенной чепухи, что теперь любой гад найдет в их книгах оправдания для своих преступлений, причем оправдания убедительные, подкрепленные талантом, умом и страстью.
Лежа в ожидании Руслана или в ожидании смерти, я дал себе слово, что первым делом, если вернусь домой, выкину с четвертого этажа пишущую машинку, но скорее всего, как обычно, пытался обмануть самого себя. Увы, никому не дано отречься от своей судьбы.
Я почти задремал, когда пришел хохотун Игорь. В руках поднос: каша, чай, хлеб. Взгляд, против обыкновения, унылый.
– Поешь немного, батяня?
– Который час, Игорек?
Оказалось, половина одиннадцатого. Выходит, я не почти задремал, а натурально проспал часа три. Спина – не разогнуться, в башке туман.
– Крепко тебя уделали, – посочувствовал Игорь. – Вроде ты мирный. За что, интересно?
– Много будешь знать, скоро состаришься, – ох, сколько я помнил таких никому не нужных истин. Игорь попытался хохотнуть:
– Держишься хорошо. Поешь, пока горячая. Я маслицем заправил.
– Ты что же, и за сторожа и за повара?
– Когда как.
Пожевал кашки с хлебом. Игорь стоял у стены в своей любимой позе мыслителя. Ясноглазый, молодой, крепкий. Встреть такого на улице, раньше бы подумал – студент, теперь – барыга, спекулянт, а он ни то и ни другое. Он же наверняка стоял за дверью, когда Зиночку казнили.
– Давно здесь работаешь?
– Годик будет.
– Нагляделся, небось, разных мертвяков?
– Я их еще раньше нагляделся, в Афгане.
– Вон как. Не снятся по ночам? Не пугают?
Прищурился – и не улыбался.
– Не о том думаешь, батяня.
– О чем же я должен, по-твоему, думать?
– На хозяина напрасно попер. Не с твоими силенками.
– Я не попер. Так вышло.
– О мертвяках вспомнил. Они, батяня, что здесь, что там – везде одинаковые. Не встают, не дышат. Это все бабушкины сказки. Но бывает такой мертвяк, что живее живого. Вот об этом подумай.
Он давал хороший совет, и я его понял.
– Спасибо за ужин, Игорь.
– На здоровье.
Собрал посуду, ушел.
Началась ночь. Первые час-два я лежал спокойно, прислушивался. Странно, но до сих пор я не имел никакого представления о том, где нахожусь. Склонялся к мысли, что это какое-то приватизированное отделение милиции, но почему же тогда здесь не было ни одного милиционера? Возможно, для надежности Сырой заменил их своими ребятами – Игорь, Руслан и прочий обслуживающий персонал, то есть все те же, как и повсюду, боевики на найме. Сборная солянка из шалых, не знающих удержу молодцов. На случай пыток одни, для убийств – другие, для нормального общения – третьи, вроде Игоря. Но сколько их тут всего, что это за здание, где из него выход – понятия не имею. А пора бы иметь. Я понял, о чем думает узник, брошенный в каменный мешок. Он думает не о том, как хорошо на воле, а о том, что неплохо бы очутиться в обыкновенной тюрьме, где есть хоть какой-то логический ток времени. Еще по психушке я помнил, что неопределенность перспективы губительнее для рассудка, чем даже демократическое телевидение со всеми его «полями чудес», рекламой тампонов и душераздирающими сериалами из жизни латиноамериканских кретинов.
Устав лежать, слез с нар и походил по камере. Параша призывно подмигнула эмалированным боком. Где-то, казалось, за тридевять земель печально подвывала старушка Вайкуле, моя любимая певица. Я любил ее за мелодичную отстраненность от прозы жизни, за прелесть и пластичность жеста, но как-то по телевизору услышал, какую бездарную пропагандистскую чернуху несла она открытым текстом, и все ее песни поблекли для меня. Конечно, ей все равно не удалось в холуйском раже переплюнуть свою гениальную товарку Аллу, которая в соседней передаче, сидя в элегантном кресле в какой-то богатейшей частной клинике в Швейцарии, вдруг обрушилась на подругу учительницу, прозябающую на двухстах тысячах в обыкновенной средней школе. «Не говорите мне про нее, – с кокетливым пафосом вещала мадам, томно сияя бедовыми очами. – Да ее просто замучила гордыня. Почему бы ей, вместо того чтобы жаловаться на зарплату, не бросить свою мерзкую школу и не открыть ресторанчик или какой-нибудь фирменный магазин?»
Уверяю вас, знаменитая певица, певшая когда-то Шекспира, Цветаеву и Мандельштама, говорила это всерьез. Так и хочется попросить всех этих очаровательных звезд: милые красотки, безмозглые мои певуньи, рубите свои бабки, пойте и пляшите, но никогда не лезьте в политику, замешенную на крови…
Не выдержав, я потолкался в запертую дверь, а потом постучал условным стуком, как стучал Руслан. С той стороны произошло движение, подобное сквозняку, открылась щель, и в ней возникла заспанная усатая рожа:
– Чего тебе?
– Водички бы попить. Или сигарету.
– Еще раз услышу, – хладнокровно сказала рожа, – нассу тебе в рот.
Дверь затворилась, и я, довольный, вернулся на нары. Удалось накоротке пообщаться с очередным гомосапиенсом.
Еще час или два протекли в скуке бессмысленного ожидания. Я твердо знал, если за ночь ничего не произойдет, поутру потащат на последнюю правилку. Они итак неприлично долго растягивали удовольствие. Правда, возможно, я тут не один для подобных забав. Возможно, в соседней камере томится какой-то мой брат по несчастью, с переломанными костями, с отбитыми внутренностями. Ждет не дождется, когда его прикончат. Почему-то эта мысль взбодрила меня, и от нечего делать я тщательно выстучал стены, но безрезультатно. Ответа не получил. Зато уяснил, что здание старое, с надежной кладкой: стены издавали тупой глухой звук, почти ватный.








