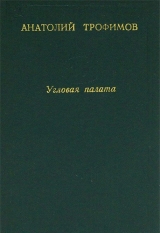
Текст книги "Угловая палата"
Автор книги: Анатолий Трофимов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Глава семнадцатая
Малорослая, кругло обточенная, большеглазая и с яркими щеками Надя Перегонова в свои двадцать три напоминала рано созревшую девочку-подростка, закормленную любящими родителями. Она пришла на смену непроспавшейся и капризно-вялой. Вроде бы нехотя, но и не упустив ничего, посмотрела отметки о состоянии раненых, зевнула, сказала Машеньке:
– Топай. За меня всхрапни часика два.
Машенька оглянула палату, прощально помахала рукой тем, кто не спит, кто видит ее, и вышла в сумрачный коридор. Только тут она почувствовала, что за время дежурства вымоталась без остатка. Опершись о подоконник, постояла, невидяще поглядела в сгущающиеся сумерки. В былые дни приткнулась бы где в сестринской, опрокинулась в мертвый сон. Сейчас у нее был «свой» дом. После того как фронт перешел к обороне и налеты немецкой авиации на город прекратились, майор медслужбы Козырев, строго-настрого запретил бивачные ночевки в помещении госпиталя Женщинам-врачам и медицинским сестрам отвели двухэтажный особняк через дорогу. Машеньке с Юрате досталась крохотная и уютная комнатка на втором этаже. Выскоблили, вымыли, Мингали Валиевич раздобыл для них трехстворчатое трюмо, две перины и гору разной посуды, которая в общем-то и не нужна им была.
Даже совестно от благ этих. Сроду Машенька не спала на перинах, в большое, до пят, зеркало не смотрелась. Машенька загрустила о Настюхе, Веруньке, вспомнила тех, кто поменьше: Сему, Варю, Дуняшку, Никитку с Захаркой... На одной картошке, поди. Мама бедная мама... Как они там? Послать бы чего...
Дверь палаты отворилась, выглянула Надя Перегонова. Увидела заплаканную Машеньку, заторопилась к ней.
– Ты чего, Машка, чего нюни распустила? Опять влюбилась, да?
Перегонова вынула из кармана халата марлевую салфетку, промокнула ею ручейки на щеках Машеньки, с бабьей жалостью притянула к себе, обдала устоявшимся табачным запахом.
– Не надо, Надя, так я, своих вспомнила.
Печальный голосок Машеньки, ее слезы отыскали больное в Перегоновой, чувствительно тронули. Она отзывчиво всхлипнула, погладила атласную, плотную косу Машеньки.
– Извини меня, дурочку, что про любовь я... Люби, только не так, как... На меня не смотри, я тебе не пример. Мою любовь под Псковом зарыли, отлюбила свое. А что с этим... Это так, от тоски, от всего. Старухой ведь скоро стану.
– Что ты, что ты. Буровишь не знамо чего, – теперь уже Машенька успокаивала подругу.
– ...ты полюбишь, ты хорошая. И любовь будет хорошая, – продолжала свое Надя.
Постояли прижавшись, потужили молчком – о себе, о других девчонках. Перегонова водворила на место съехавшую косынку. Всплакнула чуток, разжижила кручинушку Надя Перегонова – и прежней стала. Грубовато шлепнула Машеньку по спине:
– Шагай давай к Юрате, заждалась, поди, – и спросила со смешком: – У этой литовской мадонны, кажись, налаживается с Володькой, тем лейтенантом? Пусть хомутает, пока кто другой не охомутал. Чего глазки пучишь? Без руки, скажешь? Что из того, вон какой видный мужик.
– Пустое говоришь, ничего у них не налаживается. А что встречи, разговоры... Земляки они. Он ведь литовец.
– Ври-ка! – недоверчиво гуднула Перегонова. – Может, он не Гончаров, Ганчарюнас какой?
– Нет, Гончаров. Пойду, родненькая.
– Спокойного сна тебе. Пусть миленок приснится. – Надя побренчала коробком спичек, направилась в конец коридора, где лестница на чердак – «курятник», как называют раненые, – подымить, продлить бодрость.
Машенька миновала госпитальный двор, вышла за проходную – и усталость будто испарилась. Слабый ветер шевелит листву деревьев, несет из парка запах скошенной травы, поздних цветов, бодрит Машеньку. Улыбнулась светло и свободно, привстала на цыпочки, потянулась.
– Эй, сестрица, – окликнул пожилой солдат у ворот, – зарядку-то по утрам делать надо.
Машенька весело помахала ему рукой и тропинкой побежала к крыльцу особняка.
Узкое окошко на втором этаже светилось. Значит, не спит Юрате. Чай, поди, вскипятила. Юлиан Альбимович Будницкий банку варенья принес из дому, подарил давней приятельнице. Ждет теперь Юрате, вместе хочет распробовать. Неловко стало за свои недавние слезы. Подумаешь, братишки-сестренки на одной картошке сидят, будто всегда пироги с яблоками ели. С мамой живут, картохе радуются, друг другу радуются, а Юрате одна, совсем одна...
Нет, так дальше нельзя. Машенька завтра же пойдет... К самому Козыреву пойдет или Ивану Сергеевичу нажалуется! До сих пор Юрате не пристроена к месту. Когда раненые потоком шли – в операционной прибиралась, в санпропускнике как проклятая крутилась, у тяжелых грязь ворочала... Всякого нагляделась – в горле хлеб застревал. Теперь то на кухне, то в какой-нибудь палате за санитарку. Сколько раз обещали перевести помощницей к Машеньке, и все тянут и тянут. Почти не видятся. Дотянут, начнется наступление, а тогда... Мамонька родная!
Сжалось Машенькино сердце, больно и непонятно стало от посетивших дум, никак с ними не сладит. Ужас как не хочется наступления. Как все хорошо установилось. Раненые на прогулки выходить стали. Протоптанная тропинка к холму зарастает, и открытая яма, поди, обвалилась без надобности, а тут... Опять хлынут машина за машиной, машина за машиной, и все полнехоньки стонущими, бредящими, изуродованными. День и ночь будут скрипеть ворота – хоть не закрывай совсем. И обратный поток начнется: в светлое время – к вокзалу с теми, кому в тыл навсегда, в потемках – к холму с теми, кто на носилках под простыней. Тоже навсегда... Стоять бы да стоять вот так в обороне...
Опять же как без наступления? Без наступления война не кончится. К логову подошли, добивать надо полоумного Гитлера...
Не идут дальше мысли, запутались. Машенька заторопилась по крутой дощатой лестнице. Удивилась, застав в комнате пожилого солидного мужчину. Голова гладко выбрита, в очках. Он сидел у стола со шляпой на коленях, в позе виделась неловкость. Гость встал, поклонился Машеньке, попросил прощения за позднее вторжение.
– Вижу – огонь в окне, не спят, значит, – объяснял он. – Лучше, конечно, сделать как положено, но, думаю, поспрашиваю для начала.
Юрате пояснила ничего не понимающей Машеньке:
– Гражданин про того капитана интерес имеет. Они его с братом на улице подобрали и в госпиталь принесли. – Повернулась к пришельцу, что-то сказала по-литовски и тут же Машеньке: – Я говорю – он в твоей палате лежит, что ты лучше знаешь про него.
– Ради бога, – приложил гражданин шляпу к груди. Машенька освободилась от халата, повесила его на рогульку возле двери, благодарно улыбнулась:
– Спасибо вам. Если бы не вы, умер бы там, на улице.
– Зачем спасибо? Каждый бы... Разве можно... Не сказывал, кто он, откуда? Кто его так изранил?
– Говорить он не может. Ранения очень тяжелые, крови много потерял.
– Горе-то какое... Навестить бы, передать чего. Несчастье с человеком, большое несчастье.
– Приходите. Врачи говорят – поправится. Не скоро, наверно, температурит еще. Но ничего, уже кушать стал...
Юрате, обняв Машеньку, погордилась подругой:
– Для него она свою кровь дала.
– Героини вы наши... – гость посморкался в платок. – Придем, навестим с братом. Если разрешат, конечно.
– Почему не разрешат, – сказала Машенька. – Навещают же других.
Проводив гостя до лестницы, Юрате вернулась и торопливо притронулась к чайнику, ойкнула – горячий! – стала разматывать нитку на бумажной закрывашке стеклянной банки, прихватила на палец налипшее с краю, слизнула.
– Вкусно!
Машенька представила этот вкус, сглотнула слюну и побежала мыть руки.
С заваркой было скудно, чай жиденький, но этот недостаток восполняло ароматное и вкусное до умопомрачения вишневое варенье. Прихватывали попеременке чайной ложечкой, клали на язык и с наслаждением пили бледный чаек.
– Какие хорошие люди, – вспомнила Машенька позднего гостя, – не побоялись, помощь оказали. Ночью-то! А если бы засада? Бандиты могли и их так же Теперь вот о здоровье справляются... Раньше я ни литовцев, ни поляков не знала. В голову не приходило, что литовская девушка мне роднее сестры станет.
Юрате благодарно положила ладонь на Машину руку, погладила.
– Сколько хороших народов, – продолжала Машенька свои раздумья. – Только немцы вот... В кого они такие уродились?
Юрате осторожно, стараясь не обидеть Машеньку, сказала:
– Немцы тоже есть хорошие.
Машенька нахмурилась.
– Правда, правда, Маша. Есть немцы плохие, есть немцы хорошие, есть литовцы плохие, есть литовцы хорошие. Или вот начхоз наш, Мингали Валиевич... Нам что говорили? Придут киргизы, татары, эти... бородатые. Казаки. Всех изрубят! Порубили свои, литовцы...
У Юрате заподрагивал подбородок, навернулись слезы. Машенька посунулась успокаивать:
– Не надо, Юрате, не надо... Пей чай.
Быстрый умишко Маши Кузиной стал искать другой путь разговору.
– Ты знаешь, почему Мингали Валиевич по фамилии Валиев? Почему отчество и фамилия одинаковы?
Юрате пожала плечами. Особого интереса не проявила – о своем думала. Но смысл сказанного Машенькой не уходил, ответила:
– У русских тоже есть. Шофер санитарной летучки Семен Николаевич по фамилии Николаев.
– У русских совсем другое, – запнулась Машенька, – у русских просто так, а у татар... Мингали Валиевич первый сын в семье, а первому сыну отчество дают по фамилии отца. Остальным по имени отца, а первому – по фамилии. А еще вот... У брата Мингали Валиевича не было мальчиков, только девчонки рожались, тогда одному сыну Мингали Валиевича дали отчество по имени брата, будто он стал его сыном. Чтобы братов род продолжался. Интересно?
– Это благородно, Маша.
– А почему у литовцев нет отчества? Я – Мария Карповна Кузина, а ты просто Юрате Бальчунайте? Как по отцу?
– Никак. Отца звали Альфонас, но у нас не принято. Юрате Бальчунайте – и все.
– Ин-нтересно... А лейтенанта Гончарова зовешь Владимиром Петровичем. Он ведь литовец, сама говорила.
– Он литовцем давно был.
– Мамонька родная! Был, а теперь не стал?
– Я, наверно, плохо говорю. Владимир Петрович рассказывал. Отец его литовский революционер. Жандармы посадили его в тюрьму. Другие революционеры сделали так, чтобы он мог убежать, но отец Владаса – так звали Владимира Петровича – отказался. Сказал: из-за его побега жандармы могут плохо сделать с его женой и сыном. Тогда эти люди вывезли жену и Владаса в Советскую Россию, а потом помогли самому бежать из тюрьмы. Отец Владимира Петровича много перенес в тюрьме, сильно болел и умер в вашей стране. Его жена вышла замуж за русского, и Владас стал Владимиром Петровичем. Вот...
– Интересно как! Знаешь, Юрате, сейчас Надя Перегонова сказала мне... Ты не обидишься? Нет? Ты не сердись на нее. Она сказала... Правда, не будешь сердиться? Сказала – у тебя с лейтенантом Гончаровым налаживается.
– Что налаживается?
– Ну, любовь, что ли...
Юрате зарумянилась, но ответила серьезно, тоном более умудренного человека:
– Владимир Петрович очень хороший, я бы могла полюбить его, но...
– Что – но? Не хочешь, да?
– Страшно говорить. Я не буду, Маша, ладно?
Машенька разгрызла вишневую косточку, обидчиво передернула угловатыми плечиками:
– Не хочешь – не надо. Я-то не стала бы секретничать от подруги.
– Это не секрет, Маша. Я скажу, почему не могу полюбить Владимира Петровича, но больше ни о чем не спрашивай. Не будешь?
– Не буду, – поспешила заверить Машенька.
– Обещай богом.
– Божиться? Вот еще. Бога я запросто обману. Сказала – не буду. Чтоб у меня язык отсох, чтоб мои глаза лопнули, чтоб мне с лестницы...
Юрате замахала руками: дескать, зачем страсти такие, верю.
– Ну? – Машенька в нетерпении даже приостановила дыхание.
– Я, кажется, люблю другого человека.
– Вот так раз – кажется... А кого?
– Ты же обещала ничего не спрашивать больше. Машенька потерянно заморгала. Ин-те-рес-но-о... Другого... Кого – другого?
Машенька поелозила на стуле, не нашлась, как поступить. Заглядывая Юрате в глаза, с заискивающей безнадежностью спросила:
– Даже на букву не назовешь?
– Как – на букву?
– Как начинается имя? – беспомощно, в предчувствии бесславного поражения, лепетала Машенька. – На Пэ, на Вэ? Или еще на какую букву?
Юрате Бальчунайте не внешне, а на самом деле была житейски взрослее и мудрее подруги, рука так и тянулась погладить Машеньку, пожалеть ее как ребенка, но именно в силу того, что была внутренне взрослее и мудрее житейски, не пожалела, не протянула желанный пряник. Умиленная детской непосредственностью Машеньки, сказала шутливо:
– Маша, ты же языком поклялась. Вдруг да отсохнет.
Машенька с поглупевшим видом подавила вздох. Вот же какая Юрате! Гадай теперь, ломай голову. Не уснешь, пожалуй...
Уснула Машенька сразу – как только коснулась подушки. Вот Юрате не спалось. В голове, как говорила мама, девять баранов дрались. Неужели полюбила? Или действительно – кажется? Как это бывает по-настоящему? В гимназии – все больше из богатеев, нос задирали, а на хуторе какие парни? Потом, когда... Потом жить не хотелось, не только про любовь думать. Что же теперь с ней? Неужели – правда? Нет-нет, такой человек... О-о, святая дева...
Юрате приложила нагрудный крестик к губам, в непонятной, смутной печали шепчет собственную реажанчус{12}: «Божия матерь, обрати свой взор на Юрате, погаси огонь ее слабой души к человеку, желать любви которого такой же великий грех, как желать земной и плотской любви сына твоего – бога...»
Глава восемнадцатая
Сидели в скособоченной парковой беседке, редко присыпанной листом, отжившим свое к началу сентября. Мингали Валиевич не раз подумывал починить беседку, но хлопотное госпитальное житие не ссудило времени на такое, в сравнении со всем другим, пустячное дело.
– Не рухнет? – улыбаясь глазами, спросил Пестов. В ответ Мингали Валиевич ударил кулаком о столб, обсеял всех древесной трухой, озорно вскинул голову:
– Еще сто лет простоит.
Осмотр «игровой комнаты», состоящей из трех полуподвальных, где не так давно шилась одежда для вражеского воинства, закончен, и можно потолковать о чем-то, не касаемом сегодняшних хозяйственных забот. В разговоре об отделке, убранстве помещения, поскольку эта работа была как-то связана с ним, коснулись и самого Гончарова, в частности, его увольнения из армии.
– На пенсию в мои-то... – угрюмо изрек Гончаров.
Это еще на пути к беседке. И теперь, взглядывая на удлиненное, сухое и неулыбчивое лицо Гончарова, Мингали Валиевич спросил:
– Ты с какого года, Владимир Петрович?
– С четырнадцатого.
Пестов с удивлением отметил про себя, что Гончаров казался ему значительно старше. Почему? Откуда он взял лишние годы? Вон, ни единой сединки. Вероятно, из этой вот отчетливо увиденной сейчас основательности человека, знающего не только почем фунт лиха, но и как с ним обходиться.
– Слышал, твоя родина здесь. Так? – продолжал любопытствовать Мингали Валиевич.
Гончаров пальцем по столу придвигал желтые, с лиловым отливом листья и скидывал их один за другим себе под ноги – словно собирался пересчитать, сколько их тут, на столешнице. Не поднимая взгляда, подтвердил слышанное Валиевым и внес уточнение:
– Верно, родился в Литве, но с двадцатого года – в России, как говаривали в то время.
– Твердо решил обосноваться в Вильно? – поинтересовался Иван Сергеевич Пестов.
– Да.
– Родственники есть?
– Не знаю.
– То есть? – удивился Мингали Валиевич.
– Может, и есть. Не знаю. Молодой был – не проявлял любопытства, а потом спросить было не у кого.
– Как же так? – не понимал Валиев.
– Видите ли... – Владимир Петрович остановился затяжным взглядом на какой-то никому не видимой точке. После небольшой паузы продолжил: – Молодость моя состоялась не так, как хотелось бы. Слишком отчаянной была. Нет-нет, – торопливо поправил он себя, – была школа – вот в чем дело. Шумная, безалаберная, но – школа. Одно нехорошо – ничего не сделал путного. Ни-для-ко-го... Сам брал. У жизни, у людей, у... обстоятельств, что ли. Много несладкого. Но и несладкое, что брал и что давали, шло на пользу. Только вот сам так ничего и не сделал...
С литовским революционером-марксистом Петрасом Бэлом студент Высшего художественного училища Петербургской академии художеств Петр Гончаров познакомился летом 1911 года. Бэл приезжал в Россию в период подготовки крайне назревшей большевистской конференции РСДРП и принимал активное участие в создании Российской организационной комиссии (конференция состоялась в январе следующего года в Праге). Позже еще были встречи: дважды в Кракове, куда агент большевистской газеты «Правда» Петр Гончаров привозил с Урала письма рабочих, один раз в Вильно, оккупированном летом 1918 года войсками кайзеровской Германии. В сложнейших условиях подполья здесь начиналась подготовка к созданию Коммунистической партии Литвы.
Последняя встреча произошла в Москве. Петрас Бэл прибыл сюда после побега из застенков польской дефензивы{13} неизлечимо больным. Умер он сорока двух лет от роду. Петр Назарович Гончаров увез его жену Алдону Бэл и их шестилетнего сына Владаса в Екатеринбург, где занимал к тому времени пост заведующего отделом губкома партии. Алдона была на пятнадцать лет моложе своего мужа, и нет ничего удивительного в том, что три года спустя после кончины Петраса стала женой его русского друга Петра Назаровича.
Своей несбывшейся мечтой стать художником бывший студент Петербургской академии художеств Петр Назарович Гончаров заразил приемного сына Владаса, которого теперь называли на русский лад Владимиром.
После окончания художественного училища по настоянию отца, понимавшего живопись и видевшего у сына незаурядные способности, Володя Гончаров уехал в Москву, чтобы решительно окунуться в жизнь, учиться, постигать мастерство больших художников.
Судьба кинула его в стихию претенциозной публики – великих, непонятых реформаторов и непризнанных «гениев».
По одному, по одному – и Гончаров, насколько доставала рука, очистил стол от палого листа. Привстал, ребром ладони пригреб к себе ближе то, что уцелело, но безотчетное занятие оставил. Поглядел на загрязнившийся палец и опустил руку на колено. После некоторого напряженного молчания сказал:
– С тех пор прошло десять лет, а память... Память ничего не отпускает.
Гончаров впервые, пожалуй, за этот день улыбнулся Улыбка получилась хорошей, открытой. Оплеснулись живой водой и глаза.
Чуточку иронизируя над собой, он продолжал рассказ:
– Возле Усачевского рынка мне показали неказистый домишко в три этажа, на чердаке которого пустовала убогая мастерская недавно скончавшегося художника-сюрреалиста. Одно то, что этот почтенный человек был поклонником Миро, Эрнста, Арпа... Одним словом, я купил ту мастерскую и, поскольку вдова жила в большой нужде, отвалил больше, чем мастерская стоила.
Без яркой внешности, казалось мне, художник – уже не художник. Завел шикарную куртку с галунами, псевдоним друзья давно дали – Владас Гончар... Куртка и всякая атрибутика – ладно, главное, что тут было, – Гончаров потыкал в лоб пальцем. – Обуяла меня страсть создать такое, что враз вознесет, и Владас Гончар обретет вселенскую славу. Эту славу должен был принести цикл полотен под общим названием... Прекрасным названием – «Цветные сны». Вот так вот... Работал как проклятый, одним хлебом, бывало, питался. Не потому, что в кармане пусто. Было в кармане. Время жалел, чтобы в лавку сбегать... Дорогой моему сердцу Петр Назарович, отчим мой, верил в меня, – оживленные глаза Гончарова, как внезапным заморозком, прихватило грустью. – Верил сердечный человек, снабжал непутевого... Через полгода завершил первое полотно, которое назвал «Вожделения мадонны». Заполучить хороших натурщиц неизвестному еще молодому художнику было не просто, и свою мадонну я писал черт знает с кого. Но я обладал смелым и неуемным домыслием, и мое богохульство получилось довольно выразительным.
Времени на следующие две картины ушло меньше – восемь месяцев. Это «Союз страстей» – о блуде святых дев и «Затененный рассвет». Последняя была моей гордостью... Цикл еще не был завершен, но я решил отдохнуть, развеяться, показать свои работы на какой-нибудь выставке. В художественном совете кхекали-мекали, дескать, озорство молодости, но хвалили, восторгались способностями молодого дарования, на выставку же – шиш с маслом. Разобиженный, оказался и я в рядах непризнанных гениев. Мы устраивали свои вернисажи, выставки то есть. Вот там я наслушался похвал и восторгов! У солидного метра голова закружится, что уж говорить обо мне. Но дальше этой сомнительной славы дело не шло. Потом наступил тридцать седьмой год...
Гримаса иронии исчезла с лица Владимира Петровича, глаза потускнели, он откинулся на ветхую, замшелую загородку беседки, баюкая занывшую культю, долго сидел в напряженном раздумье. Пестов с Валиевым не нарушали установившегося молчания. Предполагая, что сейчас будет сказано, Мингали Валиевич нервно курил.
– В тридцать восьмом отчима не стало... – Гончаров замялся. – Больше материальной помощи ждать было не от кого. Неустроенность, косые взгляды...
У меня оставались кое-какие сбережения, и я бросил их на кон. Задумал создать большое полотно, изобличающее закулисную скверну царизма. Нашел все же чертовски хорошенькую натурщицу. Совершенство форм ее тела было поистине изумительным, и это мне обошлось в солидную сумму. Вторая натура – бородатый мужик – стоила гораздо дешевле... До чего же был неорганизован мой умишко! «Мрачная тень» – так назвал я свою картину. Тенью был известный вам из истории Гришка Распутин, старец, которому не исполнилось и сорока лет. Изобразил я его в парной бане, изгоняющим беса из прелестного тела доктора философских наук Гейдельбергского университета Алисы Гессенской, иначе говоря – Александры Федоровны, жены царя Николая Второго. Алисой она была до помазания... Уработался, высох в щепку, остался в одном заношенном костюмишке... Шуму картина наделала предостаточно, остальное же... Как в той присказке: стриг черт свинью, визгу много, а шерсти нет.
Нервы сдали. Ревел, как ревел только в детстве. Маму вспомнил: где она, как она, бедная? Кинулся искать покупателей. В свое время старички-эротоманы предлагали за мои работы большие деньги, но тогда, сами понимаете, Владас Гончар не мог отдать свои шедевры даже за полцарства Теперь старички занизили цену ужасно. Но мне хватило этих денег, чтобы привезти очень больную, убитую горем маму к себе. Работал на фаянсовой фабрике, раскрашивал по трафарету миски и суповые тарелки...
По-прежнему тянуло учиться. В Москве когда-то существовало художественное училище живописи, ваяния и зодчества. После революции его расщепили на несколько учебных заведений, а в тридцать девятом на базе этого училища создали художественный институт Туда-то я и начистил сандалии. Наивный, даже в голову не пришло, что тень отчима... Лечил маму, не вылечил. Оставшись один, задумался: что делать, куда податься? Подался вот сюда – в Вильно. Отца моего, подпольщика Бэла, здесь не забыли и помогли мне получить место в только что созданном Вильнюсском государственном театре драмы. На родимой земле решил начать все с начала. Оформлял «Поросль» Бинкиса, «Бронепоезд 14-69» Иванова. Между делом написал несколько недурственных пейзажей. Купили, приоделся. Вроде бы все хорошо, замороженная душа стала оттаивать, но дорога опять вильнула – началась война. Опустошенный, сидел я возле печурки, на которой разогревал клей и краски, и думал, думал... И додумался: сгреб кисти, тюбики, мастихин, еще не изношенную куртку с галунами – и в огонь. Все к черту, Владас Гончар! Ты никогда больше не возьмешь эти вещи в руки! Остальное вы знаете...
Рассказывая, Гончаров больше смотрел себе под ноги Сейчас поднял отяжелевший взгляд, повторил через короткое время:
– Остальное вы знаете. Вот он я, перед вами, безрукий Владас Гончар.
* * *
В тот же день, как сжег орудия труда художника, Владимир Гончаров отправился в военкомат.
Сражался рядовым стрелком, заряжающим артиллерийского расчета и закончил войну командиром саперного взвода.
Нет, не войну, конечно, закончил. Война еще шла, но ему-то уже не воевать. Всякого навидавшись, он лежал теперь на госпитальной кровати в родном Вильно с ампутированной рукой и с горькой иронией думал о том Владасе Гончаре, который полагал, что навсегда отмыл руки от краски. Сейчас, как никогда, тянуло к мольберту. Он чутко осязал большим пальцем отсеченной руки приятную окольцованность палитрой, остро улавливал запах выдавленных из туб многоцветных червячков, переживал вдохновенный восторг от явившегося в память постукивания кисти по атласно просохшей грунтовке.
Солдатское дело ему теперь не по плечу, но по плечу ли то, к чему стремился в предшествующие годы? Владимир Петрович вспомнил «Цветные сны» с лимонно-пунцовыми телами рубенсовской упитанности, а потом вглядывался в лица товарищей по палате.
Какую жизнь вложил он в тех, изображенных им на полотнах, с которыми грезил войти (ворваться!) в историю искусства? И чем живут вот эти, прикованные недугом к лазаретным тюфякам? Написать бы майора Щатенко Петра Ануфриевича. Угрюмого и раздражительного не от слабо посоленного супа, не от того, что дует под дверь, не от того, что встал с левой ноги, на которую, между прочим, и встать-то не в состоянии, – от другого совсем.
На пути его батальона стоял ощетиненный пулеметами фольварк. Полковник Полудов приказал дерзкой, стремительной атакой сковырнуть этот фольварк до наступления темноты. Щатенко захватил фольварк, но не дерзкой и стремительной – всю силу батальона обрушил левее, на менее укрепленный фланг немцев. Когда здешняя оборона была смята, круто повернул роты и внезапным ударом сбоку, используя наступившие сумерки, с первого раза ворвался в фольварк и «сковырнул» его, как и было велено.
Сковырнуть-то сковырнул, но, вопреки приказу, на три часа позже. От того, когда взят фольварк, не мог нарушиться и не нарушился ход дальнейших боевых действий, напротив, майор Щатенко содействовал успеху последующих боев хотя бы уже тем, что сохранил десятки людей, которых при дневной атаке в лоб мог умертвить шквальный огонь немецких пулеметов. Но полковник Полудов чтил принцип исполнительности, и ссамовольничавший Щатенко едва не угодил под военный трибунал. Спасло ранение.
Вот кого на холст – Петра Ануфриевича! В чем-то с неправотой своей, с гневом своим, обидой, с раздумьями о смерти и жизни на войне. Как, товарищ Гончаров? Это тебе не «Затененный рассвет».
Одни хвалили тебя за то, что будто сумел возвысить чувственную красоту человека, другие, напротив, видели в полотнах осуждение порочной чувственности – и за это тоже хвалили... Было что-то, было. И главное – экспрессия, рожденная упоительным трудом выразительность. Напиши-ка вот с такой же выразительностью рассвет в госпитальной палате! Изобрази этих разных, абсолютно непохожих и в то же время духовно объединенных людей, передай широту и богатство чувств и мыслей такими, как есть, – ничуть не пыжась возвысить эти чувства и мысли...
Владимир Петрович посмотрел на замотанный обрубок предплечья, шевельнул несуществующими пальцами. Шевельнул и оцепенел от испуга. Он был наслышан о физиологических курьезах человеческого организма, но слышать – одно, испытать самому – совсем другое. Гончаров еще раз подвигал пальцами, стиснул их в кулак и даже почувствовал остроту впившихся в кожу ногтей. Снова вернулся памятью к палитре, ощутил на руке, которой давно уже нет, ее легкую, радующую весомость. Мистика!
Вошла Машенька, поставила возле настольной лампы стерилизатор – никелированную коробочку со шприцами. Ей показалось, что отлучка была долгой. Машенька окинула палату зорким и озабоченным взглядом, не нашла, что могло бы встревожить, вызвать укоры совести, успокоилась, закусив губку, стала листать журнал с врачебными назначениями.
Написать картину на противопоставлении? Грубость и нежность. Грубость – война, нежность – Машенька.
Владимир Петрович потянулся к тумбочке, извлек папку с листами ватмана, положил себе на колени.
День за днем, эскиз за эскизом. Схватить жизненную натуральность, потом ее негде будет взять, некому будет позировать. После – на холст. А, лейтенант Гончаров? На переднем плане семнадцатилетняя Машенька с ее прозорливым, отзывчивым сердцем, со всей ее нежностью, безыскусно открытой душевной прелестью... Рассветным утром. Именно – утром. Когда вот эти чистые листы превратятся в эскизы, когда он приспособит что-то для смешивания красок, научится обходиться без привычной палитры, когда на подрамнике будет натянут холст, – тогда тоже писать утрами. Легкими рассветными утрами, чтобы ясность зарождающегося дня осветила Машенькину радость за излеченных, набирающих силу бойцов и не скрыла страдательных думок о тех, которых еще будут и будут привозить; чтобы увидеть в ее не очень ладной фигурке разбуженное цветение молодости, кроткое, доверчивое желание любви.
С композицией успеется. Придет в свое время, определится. Сейчас – люди. В карандашных набросках запечатлеть израненного, недвижного парня по фамилии Смыслов, которого недоверчиво называют в госпитале начальником штаба и который в свои двадцать лет далеко не парень, поскольку – майор и действительно начальник штаба артиллерийского полка. Хоть карандашным штрихом ухватить душевную боль противоестественно седого разведчика Ивана Малыгина, едва вытащенного врачами с того света. А разве можно обойтись без Василия Курочки, отгораживающегося от постигшей беды веселым балагурством?
Владимир Петрович положил лист ватмана поверх папки, вооружился карандашом. Плохо заточен карандаш. Незакрепленный лист соскальзывает с картона. Тщатся придержать ватман пальцы руки, которой лишился еще в июле. Гнетущей, неутешной болью тянет что-то под сердцем...
Ничего, Владас Гончар, не все потеряно. Собери волю, укрепись в ней. Теперь у тебя есть верный, захвативший тебя замысел, теперь ты знаешь, что писать!








