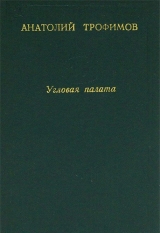
Текст книги "Угловая палата"
Автор книги: Анатолий Трофимов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Глава тринадцатая
Олег Павлович Козырев строго выговаривал что-то начальнику аптеки. Увидев своего начхоза Мингали Валиевича, он дал знак подойти, а маленькому, сухонькому фармацевту с тоскующими непроспатыми глазами напоследок требовательно сказал:
– Отчет о расходе ректификата представить к вечеру. Вы поняли меня, Иосиф Лазаревич? За недоданное по рецептам взыщу со всей строгостью.
Иосиф Лазаревич понимал. Что тут не понимать. Отчет он представит правдивый до грамма. Только вот под каким соусом подать в документе нехватку? Написать, что споил червячку, который давно и болезненно точит его? Майору Козыреву выложит как на духу Да и знает майор Козырев, куда исчезает спирт, но в отчете... У Иосифа Лазаревича потянуло внутри, так потянуло – ну прямо беги и снова наполняй мензурку до верхнего деления.
Иосиф Лазаревич потеребил складки халата, томительно вздохнул и направился вниз по лестнице, в свое пропахшее медикаментами заведение – наполнять Теперь все едино. Олег Павлович с мрачной жалостью поморщился вслед и спросил Валиева:
– Что с ним делать? – Увидел идущих по коридору женщин, кивнул в их сторону: – У сестер горе не меньше.
Валиев удивленно уставил взгляд на Козырева.
– Еще не хватало, чтобы женщины...
– Что из того? Из тех же ворот, что и весь народ. Живые люди. – Олег Павлович поморщился от своей корявой нелогичности, задал другой вопрос: – Закончил с трофейным барахлом? Помещение освобождать надо, Мингали Валиевич.
– Полуподвал же, – без всякой надежды возразил Валиев.
– Ничего, для игровой комнаты сойдет. Ходячие реже к пани Меле шастать будут... Ко мне когда зайдешь?
– С операциями когда управишься? – в свою очередь спросил Валиев.
– Попробуй определи загодя.
– Ладно, когда освободишься – сам узнаю. Зайду Подошел ведущий хирург госпиталя – длинный и сутулый подполковник медицинской службы Ильичев и две похожие женщины: крупная, ширококостая терапевт Свиридова и ее уменьшенная копия – хирург Чугунова. Родные сестры, овдовевшие в одну и ту же ночь – во время бомбежки санитарного поезда.
Немного погодя в коридор, где скучились врачи, вышел из ординаторской замполит Пестов. После приступов язвы он выглядел совсем никудышно.
– С нами? – закругляя разговор, спросил Валиева Олег Павлович, предоставляя ему этим вопросом право присоединиться к начинающей обход свите или раскланяться.
Вместо Валиева ответил майор Пестов:
– С Мингали Валиевичем мы свой обход сделаем. Начальника столовой прихватим, поваров.
Олег Павлович вопросительно вскинул брови:
– Что, жалобы на пищу?
– Жалобы не жалобы, а претензии есть, – ответил Пестов.
– Ну-ну, – произнес Козырев и, увлекая за собой врачебный синклит, направился к дальней палате.
Мингали Валиевич несогласно помотал головой. При чем здесь повара? Палатная сестрица без глаз, что ли? Могла предусмотреть. А-а, разве все предусмотришь! Подали на второе отварное мясо, а тому, из восьмой палаты, вид этого мяса... В такой переделке мужик побывал, такие исшматованные тела видел... И на свою оторванную ногу насмотрелся до обмороков. Ассоциировалось, ударило по психике. Миску швырнул на пол, сестру обматерил, истерику закатил. Вид отварной говядины не для глаз вот таких впечатлительных. Лучше поджарить или котлету слепить... Сводить надо поваров в палаты, пусть послушают тех, кого кормят.
В угловой палате медсестра Маша Кузина прежде всего указала врачам на кровати, отделенные от входа круглым обеденным столом и пустовавшие последнее время. Сейчас одну занимал весь в бинтах капитан, другую – старший лейтенант, привезенный утром из армейского госпиталя.
У старшего лейтенанта – фамилия его Середин – черепное ранение оказалось не черепным ранением, а пустяковой ссадиной над макушечной костью, а вот рука, забинтованная выше кисти, требует досмотра специалистов, и потому его переадресовали в козыревский госпиталь, профиль которого – конечности.
Середин встретил обход приветливой улыбкой, попросил врачей не волноваться за него, обещал быстро поправиться, перестать своим цветущим видом мозолить глаза занятым людям.
Вид у него, надо сказать, был не очень цветущий, даже напротив – блеклый был у него вид, и подполковник Ильичев, узнав о характере ранения, распорядился было направить его сразу после обхода в перевязочную, чтобы самому посмотреть, что и как. Но Середин растерянно, будто ища покровительства, глянул на Олега Павловича, и тот, поняв его, сказал Ильичеву:
– Утром я его сам принимал. Все в норме.
Возле капитана задержались. Козырев посмотрел температурный лист, повернулся к Ильичеву, который оперировал капитана этой ночью. Тот пояснил, что из груди раненого извлечены две автоматные пули, ранение в шею – сквозное. Тоже автоматное. Козырев перевел взгляд на Машеньку.
– Как дела, донор?
Машенька смутилась. Успел узнать откуда-то, что кровь для капитана взяли у нее и еще двух медсестер. Машенька ответила не о себе – о капитане:
– Поел немного, чаю попил.
Попал сюда капитан не по профилю. Но о каком профиле можно говорить, если человек истекал кровью, а ближайшая дверь, за которой спасение, – вот этот госпиталь. У большерослого, молчаливого лейтенанта Малыгина, что лежит в соседнем ряду и которого выслушивает терапевт Свиридова, тоже не одни конечности повреждены, но не расчленишь же его по профилям: туловище к полостникам, руки-ноги – к конечникам.
Едва живого капитана без оружия и документов подобрали ночью на тротуаре местные жители. Черт его понес на улицу в такое время! Бессонница, что ли? Или командированный? Зачем же шляться одному ночью!
Замполит Пестов склонился над капитаном, стараясь уловить его взгляд, спросил:
– Куда сообщить о вас? Назовите полевую почту хотя бы.
Лысеющий, почтенной внешности капитан смотрел на него пустыми глазами и молчал.
– Не можете говорить? А писать? Два-три слова о себе?
Капитан переводил бессмысленный взор с одного врача на другого и по-прежнему молчал.
Олег Павлович притронулся к плечу Пестова, дескать, всему свое время.
Сидя на кровати, заискивающе поглядывал на врачей сорокалетний младший лейтенант из пехоты Якухин. Улучив момент, коротконогий, упитанный, он кошачьей походкой приблизился к врачу Чугуновой, тихо спросил о комиссии. Та кивнула на подполковника Ильичева – от него, мол, зависит. Якухин сник. Поди-ка сунься к этому остроязыкому, вечно занятому. Хотел вернуться к своей койке, но понадобилось помочь переложить на каталку полуживого, ушедшего в себя парня по фамилии Малыгин. Якухин подсобил и вызвался отвезти Малыгина, надеясь там, в операционной, вызнать кое-что ему нужное.
Врачи закончили разговор между собой, остановились возле кровати младшего лейтенанта Курочки, соседа Бори Басаргина. Младший лейтенант, обращаясь к Ивану Сергеевичу Пестову, показал рукой на край своей постели.
– Товарищ майор, извините. Задержитесь на пару минут.
Пестов садиться не стал, только склонился над раненым.
– Слушаю вас.
Курочка с фальшивой бодростью сказал:
– Исповедаться надо бы. Вы теперь, я слышал, в замполитах ходите, а я скоро год как в партии. Если захотелось в жилетку поплакаться, то самое подходящее – вам.
– Тогда пары минут не хватит, – сдержанно улыбнулся Иван Сергеевич, присматриваясь к человеку с больным и тревожным взглядом. Жестоко обошлась с ним война, похоже, не первый раз на госпитальной койке и, не исключено, если говорит «теперь вы в замполитах», побывал и в его, Пестова, руках. Но внешность раненого ничего не напоминала Ивану Сергеевичу. Хирурги редко вглядываются в лица своих пациентов, еще реже запоминают. Если действительно оперировал, то шов бы посмотреть, по шву вспомнил бы, где и когда. А вот кого оперировал – все равно бы не вспомнил.
– Хватит и двух минут, Иван Сергеевич, – уверенно заявил Курочка, подчеркивая настойчивым тоном, что разговор не будет праздным.
– Приду после обхода. Или очень неотложно?
– Да не так чтобы караул кричать, но все же боюсь тянуть дальше, – ответил Курочка и покосился на нездоровую руку Пестова.
– Договорились. – Иван Сергеевич повернулся к майору, который когда-то грозился огреть костылем Борю Басаргина, спросил: – Как ваши дела, Петр Ануфриевич?
– Спасибо. Нормально.
– Полковник Полудов о вас справлялся. Поклон шлет.
– Не хочу слышать об этой суке, – гневно сверкнул глазами майор и хотел добавить еще кое-что, но сдержался.
Что-то знал замполит Пестов об этих двоих – майоре Петре Ануфриевиче и каком-то полковнике Полудове. Расстроенно покачал головой и ничего не ответил майору. Шагнул в проход, подтвердил свое обещание младшему лейтенанту Курочке:
– Вернусь скоро.
В коридоре за дверями Ивана Сергеевича ждал Гончаров, успевший выйти сюда вслед за врачами. Усмотрев на его лице нерешительность, Пестов остановился.
– Прошу прощения, Иван Сергеевич. Потянуло вот, вопреки мировым и личным катаклизмам. На складе или еще где, не знаю, – баульчик мой, а там папка с ватманом...
Иван Сергеевич бросил недоверчивый взгляд на подвешенную в перевязи руку Гончарова.
– Распоряжусь, принесут. – Вспомнив о своем, извинительно добавил: – Просьба к вам будет.
– Если смогу... Всегда рад.
– Сможете, – обретая уверенность, ответил Пестов и поспешил вдогон свите Козырева.
* * *
Иван Сергеевич, разговаривая с Гончаровым, посмотрел на его увечье и подумал: сможет ли быть полезным госпиталю однорукий художник? Младший лейтенант Курочка, посмотрев на его, Пестова, увечье и пожелав исповедаться, тоже имел на уме что-то о пользе для себя. Сейчас, увидев Пестова возле своей кровати, не торопился, выжидал, когда разговорится Иван Сергеевич. А тот не спешил приступать к главному, понимал, что призванный для разговора, он не минует этого главного, что младший лейтенант сам выложит то, что его заботит. Пока расспрашивал о том о сем, а Василий балагурил:
– Фамилия-то? Мою фамилию, товарищ майор, писателю Чехову в какое-нибудь произведение. Курочка моя фамилия. Не Курочкин, не Курицин, а Курочка, Курочка Василий Федорович, гражданин одна тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения. Арине, когда за меня выходила, ничего, нравилась даже моя фамилия, нравилось называть себя: Арина Курочка. На втором году супружества разонравилась почему-то. Говорит: «Раз я жена Курочки, то должна быть не Курочка, а Курочкина». Даже в милицию ходила, чтобы в паспорте переделать. Курочкина так Курочкина, думаю, иди переделывай. Все равно моя, раз Курочкина, не черта рогатого. Только года через три опять вздумала менять фамилию. Не Курочка я, говорит, и не Курочкина, а Петухова. И ревет: «Васька, какой ты Курочка, петух ты самый породистый». Вредный, колючий язык у Арины, но пустого не молола. Правду говорила: грешил помаленьку. Детишек уже двое было, а я... Душа у меня – всех бы любил. Эвон сколько пригожих да желанных... Хоть в мусульмане записывайся, чтобы жен побольше...
Через койку от Бори Басаргина хохотнул художник Гончаров:
– И у них, Василий, больше четырех не полагается.
– Четыре – тоже неплохо, – посмеиваясь, тянул приступить к основному младший лейтенант Курочка.
К сказанному Гончаровым Иван Сергеевич добавил:
– И то при условии, что муж создаст женам безбедную, обеспеченную жизнь.
Василий Курочка лукаво покосился на него и порадовался, что разговор налаживается. Вон, даже занудистый майор голову приподнял, на подушку облокотился Василий Федорович подыграл Пестову:
– Д-да, на шоферскую зарплату кормить-одевать четверых... Нет, товарищ майор, правду Арина говорила – не был я курочкой, курочкой я теперь стану. Жена восемь лет окорочивала и не смогла, здесь враз окоротят... на обе ноги. В самый раз для куриной должности – цыплят высиживать.
Иван Сергеевич осудительно покачал головой:
– Вот вы к чему... Длинная присказка, Василий Федорович.
– Чем плохо? – пощурился на Пестова Курочка. – Расскажите и вы о себе. Начните с того, как вас ранило. Не забыли, поди, бомбежку под Лопанью?
– Вы... Откуда вы-то знаете об этом?
– Как не знать. Я ведь из сто пятьдесят второй.
– Из нашей дивизии? – подал удивленный голос майор, которого все называли Петром Ануфриевичем. – Надо же... Однополчанин, можно сказать, а чуть не перелаялись тут. Из какого полка-то, младший лейтенант?
– Из сорок седьмого, – ответил Курочка.
– Совсем поразительно, – потеплел голос Петра Ануфриевича еще больше. – И я из сорок седьмого, третьим батальоном командую. Может, встречались?
– Едва ли. У меня принцип: подальше от начальства – крепче нервы. Я ведь ванька-взводный. Да и звездочку только месяц назад приляпали, до того пулеметным расчетом командовал.
Петр Ануфриевич скосил глаза на Пестова, вспоминая свое, произнес:
– Лопани я не застал. В сто пятьдесят вторую после Харькова пришел... Вон вы откуда полковника Полудова знаете!
– Оттуда, Петр Ануфриевич, – отозвался Пестов. – Медпунктом у него ведал.
Младший лейтенант Курочка, недовольный, что майор, с которым поцапался из-за Бори Басаргина, встрял в разговор, не дал больше ему вставить и слова.
– Тогда, под Лопанью, Иван Сергеевич, я возле операционной палатки сидел, дожидался, когда позовут на перевязку. Помните «мессеры»? Вы в тот момент связистку оперировали.
Разве забудешь такое! Потом в «дивизионке» писали, что доктор Пестов совершил героический поступок, девушку-бойца от смерти своим телом прикрыл, на себя осколки принял. Какой там к дьяволу героический поступок! От той адовой бомбежки душа обмирала. Но не сиганешь же в ровик, не бросишь на столе обнаженную, бездвижную от наркоза девочку, не оставишь ее на растерзание «мессерам»!
В общем-то верно, прикрыл. Сознательно прикрыл, отдавал себе отчет, что делает. Будь на операционном столе мужик, солдат-окопник, не исключено, что Пестов присел бы от того взрыва, развалившего грохотом все пространство, прянул бы куда в ужасе, но на столе лежала девчонка. Осколок, угодивший в Пестова, мог и в нее попасть, а тамбовской Афродите с избытком и того омерзительно зазубренного, который он извлек из раны под маленькой упругой грудкой.
Сволочным оказался стальной обломок, прорвавший брезент палатки и угодивший в Ивана Сергеевича. Рука осталась держаться бог знает на чем, и коллеги сразу же хотели отсечь ее напрочь. Иван Сергеевич воспротивился, вручил свою судьбу хирургу эвакогоспиталя Олегу Павловичу Козыреву, начинавшему свою врачебную практику под руководством Николая Ниловича Бурденко и прослывшего одним из лучших его учеников. Все «за» и «против» взвесили тогда два хирурга: тот, которого оперировать, и тот, который будет оперировать. И решились.
Какую бучу поднял начальник госпиталя Прозоров! Шарлатанство! Рука держится на ремешке мышц! Перебит лучевой нерв! Угрожает газовая инфекция, сепсис! Я не допущу бессмысленной операции во вверенном мне медицинском учреждении!
Не угрожали Ивану Сергеевичу ни гангрена, ни заражение крови. Во всяком случае, признаков пока не было И крови он потерял не так много. Ко всему прочему уцелела плечевая артерия, кровообращение не прекращалось через главный пучок. Неужели не понимал этого начальник СЭР, недавнее светило известной московской клиники? Лучевой нерв – да, перебит, но это не самое страшное...
Все понимал или потом понял Прозоров. Поворчал, поворчал и перестал противиться. Больше того, сам взялся ассистировать Олегу Павловичу Козыреву.
Рискованную операцию сделали. С давящим беспокойством ждали исхода. Спасли руку! Правда, висит теперь плетью вдоль тела, но Олег Павлович и Пестов, ставший его замполитом после сформирования нового эвакогоспиталя, по-прежнему не теряют надежды: нерв постепенно восстанавливается и должен срастись!
Вот, значит, почему младший лейтенант Курочка заговорил о своих ногах и его, Ивана Сергеевича, ранении! Прознал где-то про ту отчаянную операцию Олега Павловича и теперь, оказавшись в его владениях, приголубил надежду любым способом добиться для себя такой же смелой операции, искал поддержки у Пестова. Можно понять Василия Курочку, не осудишь его за такое желание. Только неприятно подумалось: к чему он о партийности? Напрямую спросил об этом.
– Не надо за дурака меня, товарищ майор, – обиделся Курочка, на лице даже брезгливое проступило. – Привилегий – или как там еще сказать? – я не ищу. Привилегия наша – жить и умереть не размазней. Когда вступал в партию, думал об этом... О другом я хочу сказать, Иван Сергеевич, как коммунист коммунисту. Понимаю: риск и все такое... Это я на себя беру, письменное заявление оставлю. Иван Сергеевич, – проскользнули умоляющие нотки, – прежде чем ноги мои... лишить меня ног, пусть майор медслужбы еще разок, как с вами, попробует. Не получится – ну и ладно, так и так ампутировать... А, Иван Сергеевич? Вдруг да получится? А?
Пестов погладил здоровой рукой занывшую малопригодную руку и ответил:
– Видите ли, Василий Федорович, операция операции рознь. Меня на стол положили вскоре после бомбежки, вас с поля боя вынесли на вторые сутки. Мне кровотечение остановили без промедления, вам, спасая, вливали донорскую кровь. Газовая гангрена – это омертвение тканей, их полная нежизнеспособность, ее процесс на вашей правой ноге необратим. Сейчас наблюдают, надеясь на новый препарат, но шанс мизерный. Завтра-послезавтра пойдете под наркоз.
Василий Курочка потускнел, ужал губы, приостановил дыхание.
– Под-нар-коз... – выдохнул сильно, даже колыхнулись на окне маскировочные занавески. – Чего уж там – под наркоз, под нож, так-то точнее, – повел глазами направо. – Как же вон тот, на второй койке, седой который? Ведь совсем умирал, подняли, – никак не мог смириться со своей участью Иван Курочка.
– С Малыгиным случай особый, Василий Федорович. Отец с матерью, вероятно, на двоих рассчитывали, а получился один – вот такой русский Иван, богатырь Малыгин. Сердце у него бычье, и помощь на первых порах кое-какая была. Малыгина можно поднять. Если со стороны ничто не вмешается, еще воевать будет.
– А мне – каюк? В наседки?
– Зачем так... Прямого разговора захотели вы, а раз так – наберитесь мужества знать всю правду до конца. А она, к вашему счастью, не такая уж горькая. Левую ногу вам сохранят. Я видел ее, видел рентгенограмму. За левую ногу нет опасений, позади остались. Ильичев, наш ведущий хирург, убежден в благополучном исходе Если Олег Павлович для вас большой авторитет... Убежденность Ильичева он разделяет.
Василий Курочка недоверчиво притих, но в глазах затеплились искорки радости. Приподнялся над подушкой.
– Я думал – обе лапы под самую сидячку... вот спасибо-то! Ваше бы слово, Иван Сергеевич, да жене в ухо. – Он протянул руку для пожатия и, сдерживая накатившую на глаза слабость, перешел на прежний грубовато-шутливый тон: – Слава богу, теперь в доме мир и покой будет – реже спотыкаться стану. С одной ногой жить еще можно... А, Иван Сергеевич? Нехорошо только все время вставать на левую – характер подурнеть может...
– Не будем вешать носа, Василий Федорович, поживем еще, детей поднимем, а там, глядишь, и внучат дождемся.
Василий Курочка был растроган, но не вытерпел все же, спросил Пестова, когда он уходил:
– Иван Сергеевич, может, тот мизерный шанс все же выпадет мне?
Иван Сергеевич ничего не ответил, закрыл за собой дверь. А что ответишь? Начинать разговор заново?
Младший лейтенант понял это. Закинул руки за голову, осчастливленный, пропел озорно и бессмысленно: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...» Закончил неуместную вроде бы песенку тоскливым, затухающим голосом «Срубил он нашу елочку под самый корешок...»
Не шибко, видно, осчастливлен, и горечи – хоть отбавляй.
Глава четырнадцатая
Мингали Валиевич постучал в дверь ординаторской, не дожидаясь ответа, вошел. Олег Павлович сидел на низком диване, согнувшись и опустошенно свесив руки к полу. Серафима, ассистировавшая при операциях, развязывала на его спине тесемки халата. Не менее уморившаяся, она с теплой жалостью смотрела на худую пробритую шею Козырева и едва сдерживалась, чтобы не сказать вслух того, что расплывчатой болью теснилось в душе. Оборвет ведь, не любит сочувствий и жалости. Грубого слова не скажет, но и взгляда будет достаточно, чтобы все нутро ожгло досадливым смущением.
Серафима стянула с Олега Павловича халат наизнанку, вывернула его, подала висевший на спинке стула китель. Козырев моргнул благодарно и показал жестом, что надевать не будет. Откинувшись на спинку дивана, отрешенно уставился на Валиева.
Мингали Валиевич готов был уйти: похоже, пришел не вовремя.
– Давай в другой раз, Олег Павлович, – сказал Валиев и направился к двери.
– Присядь, я сейчас, – не меняя позы, остановил его Козырев. – Две минуты. Через две минуты я очухаюсь.
Мингали Валиевич пристроился сбоку письменного стола. Отодвинув лежащие тут газеты, стал выбирать из полевой сумки нужные бумаги. Козыреву хотелось поблаженствовать в покое, но, не ощущая этого покоя из-за того, что уже было здесь сказано Серафимой, он продолжил начатый до прихода Валиева разговор с нею:
– Что же она пишет?
Серафима повспоминала содержание письма, подумала, что можно сказать, а что нельзя.
– Спрашивает, как поживает, – заглянула в письмо, выделенно прочитала незнакомое слово: – Как поживает кюз-ну-рым... как его здоровье...
Козырев приоткрыл один глаз чуть больше, остро прицелился им в Серафиму.
– Думаете – соврала? – поежилась Серафима под этим взглядом. – Могу показать, прочитайте.
Козырев сел прямо, не убирая прежнего взгляда и не скрывая вопроса от Мингали Валиевича, спросил:
– Кто? Сын, дочь?
– Для нее – сын, – ответила Серафима и, сердясь на свое невольное сострадание к обидчику подруги, добавила с вызовом: – Для нее – сын, а для кого-то – никто.
– Не вам об этом знать, Серафима Сергеевна, – укорил Олег Павлович, и пружины под ним сердито заскрипели.
– Да вот знаю... Еще и Олежкой назвала. Эх, Руфинушка... Не в вашу ли честь?
Олег Павлович резко поднялся, взволнованно прошел к окну и задумчиво замер. Не оборачиваясь, каким-то ободранным голосом произнес:
– Оставьте адрес.
– Нет адреса. В дороге родила, в Чебоксарах... Я не нужна вам больше?
– Спасибо, Серафима Сергеевна, можете идти.
В дверях Серафима оглянулась. Козырев, опершись о подоконник, смотрел в темноту парка и думал о своем. Даже не видя его лица, любой скажет: чертовски хорош майор медслужбы Козырев! Не показной аристократизм, не нарочитое пижонство и щегольство в нем (какое щегольство в нижней-то рубашке!). Собран, неустанен. Родился таким. Другого десять часов за операционным столом вымотали бы, выжали, а он – гляди-ко! Какая удержится, если поманит? Прижмет ушки, как заяц, и... В-во удав, чисто удав...
Стирая стыдные перед подругой мысли, Серафима, сердясь на себя за эти мысли, резко спросила:
– Когда пришлет письмо с адресом, известить?
Резкость в голосе Серафимы заставила обернуться Козырева. В прищуре глаз медсестры, верного своего помощника, уловил злой огонек и стал закипать. Чего суется! Чего лезет! Вон и Мингали Валиевич, черт лысый, ледяной коркой покрылся. Что они знают? За что осуждают? За что? Долбануть вот кулаком по оконной раме: «Не мой, не мой это ребенок! Из санбата привезла!» Да разве долбанешь, разве скажешь такое, если сам в то не веришь. Ну, был у нее кто-то, был! И не кто-то, а капитан Прибылов, командир медсанбата. Так что, у тебя не было? Ведь любишь, потому и терзаешься, сердцем болеешь, мозги черт-течем нафаршировал... О чем думал? Очередной мимолетный роман? «Простите нас, но мы имели право...» Несомненно, как же!
Да нет же, нет, Олег Павлович, майор медслужбы Козырев, все сложнее и гораздо серьезнее. Все приключавшееся до этого – пустое и недостойное. Что должно прийти – пришло, а коли пришло – радуйся, пылай, гори до золы!
Нарастающее в душе раздражение – на Серафиму, на Валиева, на себя, что дал волю этому раздражению, – не держалось, перло наружу. У кого-то оно и выперло бы, только не у Олега Павловича. Сказал Серафиме сдержанно:
– Буду благодарен за адрес.
Серафима не вышла и на этот раз. Строптиво вздернув голову, она подошла к Валиеву, ткнула пальцем в письмо:
– Как по-русски это ругательство?
Мингали Валиевич прочитал вслух: «Кюз-ну-рым» – и улыбнулся Серафиме:
– Так ругают у нас самого близкого и дорогого человека. Свет очей моих, если по-русски.
Серафима смущенно хмыкнула, покосилась на Козырева и только тогда направилась к дверям.
Нет, неймется-таки окаянной девке, снова остановилась, кивнула на газеты, лежащие с краю стола:
– Читали «В Совнаркоме СССР»? Прочитайте. Одиноким матерям, которые родили после восьмого июля, будут платить государственные пособия. Руфа родила семнадцатого. Так что, свет очей моих, она без вас проживет.
Сказала это Серафима – и вон за порог.
У Олега Павловича все клокотало внутри. Глядя на дверь, помотал тяжело разболевшейся головой. Подставил стул ближе к Валиеву и, помедлив немного, сказал:
– Давай за дело, Мингали Валиевич.
Отстраняясь от всего услышанного, Валиев подал извлеченные из полевой сумки бумажки, стал перечислять предметы, оставшиеся в немецкой швейной мастерской:
– Швейные машины, шинельное сукно, саржа... Это нам ни к чему, сдадим в интендантство, а вот белую миткалевую ткань надо бы прижать. Простыни, задергушки на окна, салфетки всякие во врачебных кабинетах...
– Говоришь, задергушки-простыни? – Вопрос был ради паузы, но он тут же натолкнул Козырева на то, что давно заботило. – Тысяча метров? Это хорошо... Не надо приходовать, не надо сдавать в интендантство. И саржу придержи.
– А ее-то на кой леший?
Идея у Козырева уже приобретала отчетливые формы. Ответил:
– Для кого-то подкладка, а кому-то на рубашку, на сарафан сгодится.
– Не пойму что-то, – сказал Валиев, хотя смысл услышанного стал доходить до него.
– Жаль. Надо бы раньше понять. Самому. Ты вот о занавесках... Скажи, медсестра Кузина у тебя для какой цели просила иголки? Знаешь? Вот то-то... А у нее в деревне не лучше, поди, чем у того сержанта, для которого просила. И у других девчонок. Они, как мы, аттестатов не высылают, не из чего. Да и чего там купишь!
– А если... Ведь шкуру спустят и в личное дело подошьют, – поосторожничал Валиев.
– Пуганая ворона куста боится? – не обижая, покосился на него Олег Павлович.
Валиев усмехнулся, сказал:
– Кураккан урдэк куте белэн кульгэ чума.
– Ты уж давай, чтобы я понял твою чуму. Руфина тоже, бывало... Ляпнет что-нибудь – сиди и ломай голову.
– Пуганая утка в озеро гузкой ныряет, – перевел Валиев, смягчая грубоватое слово словом гузка. – У нас так говорят.
Козырев засмеялся:
– Те же штаны, только назад пуговками.
– Найдутся деятели, что и давнее мое припомнят, – не особенно напирая на свою опаску, произнес Мингали Валиевич.
Козырева задело это, глаза огнем взялись:
– Рта раскрыть не дам! Я распорядился, я и отвечать буду! – Помолчал, продолжил с рассудительной мрачностью: – Взыскание? В звании, в должности понизят? Но я – хирург. Рядовым врачом пойду, зато медсестры мамам хоть чем-то подсобят... Да и нет оснований, дорогой Мингали Валиевич, трясти душу из Козырева, четвертовать его за какие-то тряпки. Использовать трофеи для действующей армии не возбраняется, а мы – действующая. Так что хрен кто взыщет.
– Ниток еще восемнадцать коробок, – вспомнил Валиев.
– Теперь ты мне нравишься! – Олег Павлович хлопнул ладонью по лежащим на столе валиевским бумажкам. – Прикинь, у кого какая семья, подели добытое тобой у врага. Из немецкого продсклада тебе ничего не перепало?
– Кроме спирта – ничего.
– У тебя, кажись, знакомства в ПФС{11}, выменяй на спирт.
– Трофейное у них и без спирта выколочу. Гору ящиков сливочного масла взяли, целый холодильник мясных туш.
– Ну, этого в посылке не пошлешь Тушенку бы, шпик.
– Попробую Только бы к празднику какому, а так ни то ни се.
– Получат посылки – вот и праздник. – Козырев прикрыл ладонями воспаленные глазницы, несколько посидел в этом положении, потом раздраженно спросил: – Что на меня так смотришь? – спросил, хотя не видел, смотрит на него Валиев или не смотрит. Просто вернулся к тому, что оставила в его душе Серафима. – С Серафимой, что ли, сговорились? Может, пояснить что?
– Зачем пояснять. Постарше тебя, кое-что понимаю.
– Д-да-а, людей понимать надо, – холодно и со значением сказал Козырев. – Нельзя без понимания. Нам в особенности – из одного котелка кашу едим.
Мингали Валиевич поерзал, прижег папиросу, потом уж, не зная, какая будет реакция, и досадуя, что остерегается наскочить на резкий отпор, предложил все же:
– Руфине Хайрулловне собрать бы кое-что. От коллектива.
Олег Павлович обратил на Валиева леденящий взор, сурово сказал:
– Руфине Хайрулловне ни Совнарком, ни коллектив – я обязан! Я и позабочусь!
– Тогда пойду. Шел бы и ты к себе, Олег Павлович, еще уснешь за столом.
Вместо ответа Козырев приступил к тому, для чего затеял эту встречу:
– Поручи этому поляку... Как его? Будницкий? Пусть маляров сыщет, знает, поди, кого в городе. Сделать надо комнату веселой, привлекательной. Шахматы, шашки... Раздобудь патефон поновее, картины... С Пестовым те старинные журналы посмотрите, может, оттуда что в рамку.
– В санупре что-нибудь раздобуду. Пестов художника из раненых присмотрел, сообразим... Говорю – поспать тебе надо.
– Посплю. Только вот мысли свои приведу в порядок.








