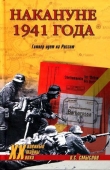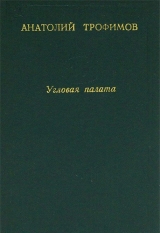
Текст книги "Угловая палата"
Автор книги: Анатолий Трофимов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Не скоро еще разберется Боря в этом анафемском зигзаге. Невдомек еще было, что он – лишь пылинка на сложных военных дорогах. Кто-то в то лихое время по правде дезертировал, кто-то отставал в попутной свиданке с близкими, кто-то, незадачливый, терял эшелон просто по лопоухости. А в маршевых формированиях – списки, точный учет каждого живого штыка, доставляемого в истерзанные, обескровленные полки и батальоны. Кто, какой командир примет долгожданную свежую силу с нехваткой? Вот и восполняли непредвиденные потери в пути как могли: перехватывали заблудших ротозеев из других маршевых рот, правдами и неправдами высвобождали из комендатур всяких задержанных, а то и поступали так же предательски гнусно, как лейтенант в хромовых сапогах «джимми».
Боре Найденову о покинутой роте и думать не хотелось. Угарно кружило голову, вздымало дух от острого приключения. Мурашки восторга кололи тело от мысли, что скоро, совсем скоро станет ходить в атаку, бить ненавистных фашистов...
Все Боря сделал так, как велел лейтенант, и очутился в стрелковой роте на переднем крае – в полукилометре от немецких окопов. Вот только сопровождающий почему-то не остался на фронте, и красноармейскую книжку Боре вместо «утерянной» выдали на фамилию Басаргина. Правда, имя и отчество написали прежние, с его слов – Борис Васильевич.
Борей, помнится, в детдоме сам назвался, отчество по имени директора дали, а что касается фамилии Найденов, то ее почти всем подкидышам присваивали, не был и он исключением.
Худой, недоброй бурей был сорван листик с какого-то родословного дерева и занесен в неродные ветви, а теперь вот и совсем затерялся в незнамо чьих холодных и бесприютных кронах...
* * *
Младший лейтенант Якухин, укрытый халатом до лысины, лежал поверх одеяла и, судя по всему, из рассказа Бори Басаргина не пропустил ни слова. Пыхтя и надевая халат, он сел, мрачно уставился на свои голые кривопалые ступни. Боря недолюбливал Якухина, считал, что и тот к нему не очень расположен, и потому его посвежевшей было душе снова сделалось муторно. Даже в голову не пришло, что этот раздобрелый умник тоже его услышит. Влезет сейчас со своими нравоучениями, разведет бодягу... Смыслов чего-то уставился в потолок, помалкивает... А, будь она проклята, жизнь эта...
– Моя бы воля, – заспанно загудел Якухин, – снял бы с тебя штаны, Борька, да кнутом сыромятным. До страшной болятки. До мяса. Чтобы и на том свете чесалось. Не дозволены телесные наказания. Жаль. Тебя, дурака, жаль. Власти иначе накажут, пуще. Загремишь ты под трибунал, Борька.
– Не надо, Якухин, зачем п-парня п-пугать, – придержал его Смыслов.
– Кто его пугает! На него этих пуганий без меня столько свалилось... свихнуться можно. Жизнь – она и есть жизнь, прищемит – не вырвешься, а вырвешься – все едино кусок шкуры оставишь.
– Шкура, Якухин, не самое лучшее у человека.
– Небось! – с кривой усмешкой воскликнул Якухин. – Как почнут сдирать...
– Совесть – вот что самое ценное, – не дал ему договорить Смыслов. – У Бориса и анализов брать не надо, т-так видно – без вредных п-примесей.
– На одной совести далеко не ускачешь.
– Смотря на какой. На п-подлинно человеческой люди в бессмертие уходят.
– Шибко заковыристо. Прямо как в церкви, – съязвил Якухин. Он нашарил в тумбочке кисет с клочком газеты, сунул в карман халата. – Сами тут отпущением грехов занимайтесь, пойду подымлю от расстройства.
– Как подумаю – ищут... – неистово замотал головой Боря. – Найдут, ухватят загривок в жменю... Что скажу? Даже фамилию чужую присвоил. Какая уж тут совесть, под увеличительным стеклом не увидят. Да не трясусь я за свою шкуру! Пусть сымают, хоть к стенке ставят... Срам вот... На могилу плевать станут... В детдоме, в ремеслухе кормили-поили меня, брошенку, делу обучали. На завод бы вернуться, хлеб этот отработать, Гавриле Егоровичу поклониться, чего по дурости до сих пор не сделал...
Якухин не уходил, наморщив лоб, стоял возле койки младшего лейтенанта Курочки.
– Ты вот что, – шагнув обратно, сказал он с участливой строгостью – не раздувай своих грехов. Тот офицеришка, сукин сын, если разобраться, говорил... Ты же на самом деле не с фронта удрал, а воевать поехал, ранен вот теперь... Дезертир-то кто? Который от военной службы прячется, а ты не прячешься. Насчет трибунала я подзагнул, нужен ты трибуналу, как верблюду брюзгалхтер. Конечно, взыщут с дурня. А по мне, так выпороть – лучше. Правду я говорю, Василий? – нагнулся он над младшим лейтенантом Курочкой.
Недавно Василию Федоровичу ампутировали правую ногу, но воспалительный процесс продолжался, чтобы не допустить угрожающего распространения гангрены, намечено бедро резать вторично. Осунувшийся, изможденный, лежал он безучастно – не было ни сил, ни охоты вмешиваться в разговор. Теперь на вопрос Якухина согласно моргнул, сказал тихо:
– Подзови Борьку.
Боря услышал его голос, подковылял. Василий Федорович в сумрачной улыбке разлепил запекшиеся губы. Борино сердце дрогнуло в жалости, схватил чашечку с длинным носиком, придержал голову под затылком, попоил Василия Федоровича.
– Киселя хотите? – предложил Боря. – Из свежих ягод. Маша откуда-то принесла. Я позову ее.
Машенька сидела около дальней койки очнувшегося безымянного капитана, протирала его лицо мокрым тампоном и говорила, говорила что-то притишенным голосом, каким говорят только с засыпающими детьми или вот с такими тяжелобольными.
– Потом, – сказал Курочка. – Ты вот что... Не морочь себе голову. Никто тебя не ищет. В тот вечер, когда ты уехал с лейтенантом, станцию страшно бомбили, много людей погибло. Посчитали и тебя убитым.
– Бомбили? Откуда вы знаете?
Василий Федорович совсем о другом хотел сказать Боре, но вырвалось это, с лёта придуманное, и теперь он не собирался на попятную. Передохнув сколько-то, ответил:
– Как не знать. Тогда меня в штаб полка вызывали. Штаб в том городишке стоял. Как его?
– Смолевичи.
– Не забыл? Правильно – Смолевичи.
Упоминание штаба как детонатор воздействовало на мозг лейтенанта Гончарова Закинув назад здоровую руку, он ухватился за кроватное изголовье, сминая подушку, подтянулся и сел.
– Слушай, Смыслов, – окликнул он, – забери Бориса в свой полк. В твоих руках вся писанина. Целый штаб. Сделаешь для парня святое дело, он не только хлеб отработает...
– Вот это уже что-то, – бормотнул Якухин и теперь окончательно направился к выходу.
Услышав, о чем сказал Гончаров, Боря сунул костыль под мышку, вернулся к Смыслову В шаге от него растерянно остановился. Не только этот шаг, что-то еще отделяло его сейчас от Смыслова. Растопыренные костыли, халат нараспашку, нога подшибленно подогнута... К этой неуклюжести добавилась неловкая, растерянная улыбка.
– Выходит, правда, что ты... что вы...
Смыслов глядел на Борю, а сам внимал назревавшему в голове звону. Сейчас поднимется до невероятной высоты, как всегда, неистово лопнет перетянутой струной... Но звон не вздымался, стихал и наконец журчаще распался. Радуясь обновившемуся состоянию, Смыслов улыбнулся Боре и, перегодив малость, спросил чуть построжавшим голосом:
– Пойдешь со мной в артполк? Теперь, разумеется, на законном основании.
* * *
Гончаров читал «Тиесу», интересные газетные сообщения переводил или пересказывал.
– Болгария-то – лапки кверху, капитулировала, – известил он. – Мало того, сразу же и войну объявила Германии.
Три дня назад – Финляндия, еще раньше – Румыния, теперь вот Болгария. Отваливаются сателлиты от Гитлера Поговорили об этом, о близкой и полной победе. Поражаясь сам себе, больше и азартнее всех говорил Смыслов. Первым обратил на это внимание Владимир Петрович. Весело глядя на Смыслова, спросил смехом:
– Чем это ты во рту смазал, заикастый?
Тут и до Смыслова дошло, что с ним стало: пока говорил, ни одна согласная не застряла в горле, не склеила губ. Вот она, загадка обновления! Посигналил Гончарову, чтобы помалкивал, подозвал Машеньку Та живо оказалась подле. Смыслов сдвинулся, освободил место на краю постели, попросил с улыбкой:
– П-полечи заику, Машенька, т-ты всякие наговоры знаешь.
Машенька приняла игру. Чтобы не быть праздной в задержке возле раненого, обхватила его запястье, стала нащупывать пульс. Весело щурясь, сказала:
– Я знаю только от икоты. Вот такой: «Икота-икота, уйди от Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Не помогает? Давай еще раз. Только не мигай, смотри в глаза.
– Нет, ты сочини про заику.
– Не умею сочинять.
– Я помогу Заика-спотыка, от Смыслова уйди-ка...
Придумывая, Машенька напрягла лоб и чуть спустя подправила Смыслова:
– Заика-спотыка, от Гани уйди-ка... – конфузливо приостановилась, – от Гани уйди-ка к нечистому бесу, от беса... до леса, с леса на Якова, с Якова на всякого.
Она прыснула, зажала ладошкой рот.
– На всякого не надо бы, – весело блестел глазами Смыслов, – лучше так: «С Якова – на гада на всякого».
Машенька подозрительно прислушивалась, к его речи и ликовала.
– Об-ман-щи-ик... – ткнула его пальчиком в голое в прорехе рубашки тело. – Прошла заикливость? Поправился?
– Ты наколдовала, вот и поправился. Наклонись-ка. Машенька приблизила ухо, ожидая услышать что-то некасаемое других. Услышала теплое и нежное прикосновение губ.
– Вот еще... Выдумал, – благонравно покраснела Машенька и, косясь на койки с ранеными, приложила ладонь к щеке, притаила для себя дорогое прикосновение.
Глава двадцать первая
– Серафима Сергеевна, ради бога... Никого под рукой...
– Слетать куда-нибудь?
– Если есть крылья – не возражаю.
– А я ножками, ножками.
Олег Павлович мимолетно глянул на крепкие икры Серафимы, внутренне усмехнулся.
– Совсем близко. Через дорогу. Чем бы ни были заняты – пулей сюда. К местным, что по домам, не обязательно самой, пошлите девчонок из посудомойки или еще кого.
Серафима рассмеялась. Приподнятость в настроении удивительно преображала ее широкоскулое, в оспинах лицо, оно становилось даже привлекательным, а если еще и улыбка с дужками зубов изумительно-белого перламутра, то очень даже привлекательным. Возможно, по этой причине застенчивостью, свойственной некрасивым, Серафима не отличалась, поддела насмешливо:
– Ну, знаете, товарищ майор медицинской службы. Так отдавать приказания... Кого пулей? К каким местным? Для какой надобности?
Олег Павлович недоуменно потаращился на нее.
– Неужели не ясно?
– Так ясно, что дальше некуда. Пожар в Крыму, голова в дыму. Сестер, санитарок собрать, что ли? А подсобников тоже?
– Всех, всех! Поняли же, чего еще надо.
– Не поняла, догадалась. Кто другой – сдурел бы от вашего...
– Вы долго тут будете... препираться? – не нашел другого слова Олег Павлович.
– Скажите хоть – зачем?! – выкрикнула Серафима Она уже постигала – зачем, но не хотелось верить в то, что явилось сознанию и чему воспротивилось все ее существо, потому и выкрикнула. Не дожидаясь ответа, колыхнула в выдохе могучей грудью:
– Немцы жиманули, что ли? Кош-шма-ар!
– Идите, Серафима, – не справляясь с досадой, поторопил Олег Павлович.
Серафима притиснула ладони к вискам, изобразила привидевшийся кошмар и тут же исчезла за дверью.
Звонили из санитарного управления фронта. Почему звонил главный хирург, а не начальник управления госпиталями или еще кто-то, облеченный на то властью? Дежурит, что ли, главный? Голос был неумело властный, называл Козырева не по званию и не по фамилии, а по должности, и это обращение звучало крайне нелепо «Товарищ начальник госпиталя». Олег Павлович напомнил главному хирургу, что если случай ординарный, то для такого момента определен другой госпиталь, даже номер приказа назвал, каким определен, что на сегодняшний день перед его хозяйством стоит иная задача, и он не сможет ее выполнить, если вот так вот... Ему и договорить не дали. «Заспались, изнежились на пуховиках!» – услышал он от человека, который, похоже, никогда и никем не командовал.
Грубо, обидно оборвали, но какая-то справедливость была в этом. Заспаться не заспались, но... Вон Серафима с сорок второго с ним, с сандружинниц начинала, а сандружинницы, как известно, в цепи атакующих ходили, война ее, Серафиму, вроде бы железной сделала, но и она оторопь выказала. Человеческие возможности не беспредельны. Война сама по себе – обстоятельство исключительное, противоестественное природе человека и потому требует от людей не обыкновенных усилий, а таких, которые переходят все мыслимые границы свойств человека. Если же в установившийся ход войны вмешивается еще что-то, непредусмотренное... Перенапряженность и в металле опасна, что уж говорить о живом организме.
Олегу Павловичу, когда услышал заполошный телефонный голос, подумалось то же, что и Серафиме. Подумалось и озноб по коже прошел. Не в деталях, но знали о событиях у соседей справа. К середине августа механизированным соединениям Первого Прибалтийского фронта удалось прорваться к Рижскому заливу и отсечь вражескую группировку армий «Север», лишить ее сухопутных коммуникаций с собственно Германией. Но уже шестнадцатого августа немцы, сосредоточив в Жемайтии и Курляндии до десятка танковых и моторизованных дивизий, нанесли удар в сторону Тукмуса и оттеснили наши войска от моря, восстановили сухопутную связь с группировкой «Север». До сих пор в печати об этом ни слова, до сих пор, возможно, кто-то расплачивается за неудачу, а тут... Что, если противник нашел силы «жимануть» и на Третий Белорусский? На самом деле, по нутру ли немцу, когда дивизии Красной Армии – на государственной границе? Чтобы переместить войну на землю Германии со всем, что из этого вытекает, советским соединениям осталось сделать только шаг.
Но все оказалось иначе. Случай, если держать на уме масштабы действий всего фронта, можно отнести и к ординарным – разведка боем. Тяжелораненые, у которых нет надежд на возвращение в строи, получив неотложную помощь на месте, для специализированной обработки и последующей эвакуации в стационарные тыловые лечебницы направлялись сюда. Почему к Козыреву, а не в очевидно установленный приказом госпиталь? Посчитали, что менее загружен? Теперь некогда и не к чему задумываться. Спасибо, трех хирургов для подмоги подбросили.
* * *
Во втором часу ночи с натужным гулом сдержанно-малых скоростей подошли сразу десять или одиннадцать санитарных машин, минут двадцать спустя – еще столько же, потом стали прибывать с крытыми бортами грузовики по два-три вместе. Таких, кто мог бы передвигаться самостоятельно, почти не было, в основном, как установилось в разговорном обиходе медиков, – носилочные. Не обошлось, конечно, без ругани и матерщины, но все эти в мать и бога – сдержанно, без истерик и адреса: так, для облегчения собственных страданий. Этот привоз чем-то отличался от обычного привоза израненной и разноперой солдатской массы.
На носилках, составленных в орошенные туманом газоны, кто-то кого-то узнал:
– Хо, Свиридов! Живой?
– Наполовину.
– Уже хорошо. О майоре не знаешь чего?
– Каком? У нас много майоров.
– Не из наших, тот... Из разведотдела который. Он с третьей цепью шел.
– С проволоки сняли. Мина.
– А-а, в гробину... Зачем попер? И без него бы...
– Значит, так положено.
– Положено... Вот и положили...
По соседству человек с забинтованной до макушки головой – только смотровая щель для глаз – сквозь намокшую от дыхания марлю глухо спрашивает:
– Мужики, о Викторе Викторовиче что известно?
– Ты о Захарове, танкисте?
– О ком больше... Бобров, ты это? Вроде узнаю по голосу.
Бобров, крючась, пытается сесть, не может – мешают лубки на ногах. Повернулся на бок, в прыгающих лучах автомобильных фар углядел спрашивающего, сочувственно крякнул:
– Эк тебя...
– Будто ты лучше... Чего не отвечаешь? Знаешь или нет что про Виктора Викторовича?
– Здорово живешь. Ты же был в его десятке, а пытаешь меня.
– До атаки был. Подполковник с тем молоденьким лейтенантом... Да знаешь ты его, Ромка Пятницкий. Они влево, а тут такое... Пока носом землю пахал...
Разговор услышали в неразгруженной еще машине, оттуда донесся пересохший голос:
– Видел Захарова. Его вроде бы в подвижной армейский с тем лейтенантом Пятницким. Кого не очень, туда направляли. Захарова в руку, а Ромка Пятницкий контужен. Оглох. Контрольного все же приволокли. Вдвоем.
Из той же «санитарки» горделиво-снисходительный баритон:
– Наша группа трех. Правда, пока тащили, один дуба дал.
– ...только поднялся – крупнокалиберный, зараза... Без руки вот теперь...
Вцепившись в палки носилок, тужится сесть голый до пояса, с набухшими от крови бинтами через грудь, кричит в бреду: «Ложись!!!»
– Сердяга, не лег, когда надо, теперь о других печется...
– Курить охота – уши опухли. Скрутил бы кто...
– Куда бы с добром – спирта стакашек. Забыться.
– Попроси.
– Положат на стол – попрошу. Вместо наркоза.
Выделился раздраженный гортанный голос:
– Цволочь! Лэжишь, лэжишь... Где врач? Где сестры? Дздохнуть можна...
Разгневанного приструнили. Оправдываясь, прохрипел виновато:
– Мочи нет, кацо...
Санитары вытягивали из «летучки» очередные носилки. Искажая лицо в мучительной немоте, раненый силится сказать что-то. Не понимают. Уже другой – шепотом:
– Младший лейтенант скончался у нас. Парнишка еще...
Человек в лубках, которого назвали Бобровым, горюя и осуждая себя, мотает кудлатой нечесаной головой:
– Крепко отрыгнулось мне искупление, в душу...
От носилок к носилкам мечутся медсестры: поят, успокаивают, негласно, по степени неотложности, устанавливают очередность на операции. Человеческий гомон привлек приблудную беспородную собачонку. Было кинулась к людям, но замерла. Ударило в чуткий нос острым духом медикаментов, окопной продымленной глины и крови. Пустолайку подманивают. Стоит. Только чуть мотается крендель хвоста.
– Хороши мы... Собаки боятся.
Расползается, редеет тьма. Во дворе завывание моторов, рваный говор, охи, хрипы, стон, чертыхня сквозь зубы...
На «виллисе» примчался с двумя офицерами (один в погонах юриста) полковник из разведуправления, разгоряченно потребовал Олега Павловича. Пробегавшая мимо медсестра на ходу отозвалась:
– В операционной. Занят.
– Есть кто-нибудь из руководства, черт побери?!
К полковнику подошел Мингали Валиевич, назвался.
Понимая, что начальство приехало сюда не ради прогулки, возбуждено и, как водится, могут последовать всякие нелепые распоряжения, Валиев постарался опередить полковника своим напористым:
– Почему санпоезд на сортировочную подали?
– Вас не спросили, – заморгал, обомлел полковник.
– Напрасно, надо было спросить, – удерживал свою позицию Мингали Вэлиевич. – Двенадцать километров, а эти, – махнул в сторону разгруженных санлетучек, – обратно порожняком нацелились Своего транспорта у нас нет.
– Распоряжусь, – понял его полковник и, успокаиваясь, с любопытством посмотрел на непочтительного майора. Похоже, увидел что-то в начхозе располагающее. Улыбнулся сдержанно, спросил: – Сколько принято? Все в целости?
– Тех, кто целый, к нам не привозят... Сто тридцать семь. Много без сознания, так что потом станет известно – кто в «целости».
Полковник обернулся к офицеру-юристу:
– Уточните списки, никого не упустите. Люди сразу должны узнать о полной реабилитации. Позаботьтесь, чтобы и на погибших пятна не осталось.
Юрист молча кивнул и направился в приемный покой.
Солнце взошло за кладбищенским холмом, и его лучи коснулись макушек толстостволых долгожителей парка, причудливо расцветили прихваченный росой черепичный верх водокачки и подбирались к окнам третьего этажа, откуда торчали головы любопытно-встревоженных обитателей госпиталя. Низовое движение воздуха растеребливало куделю тумана, его волокна истаивали, оставляя водянистые следы на траве газонов, на обкатной чешуе мощеных аллей, на облепивших каменную ограду наслоениях мха.
Кое-кто из ходячих, потревоженных ночной суматохой, выбрался во двор с неясной надеждой встретить среди тех, кого привезли и вновь отправляют, земляка или однополчанина, на худой конец не земляка – любого служивого порасспросить о житухе на передке, узнать о ней не из газет. Были здесь Гончаров с Якухиным и Боря Басаргин. Помогли, насколько было их сил и возможностей, в отправке раненых. Но особыми новостями не обогатились. Возбуждены и говорливы бывают раненые до того, как положат на операционный стол, после на какое-то время становятся вялыми, ко всему безразличными, и было бы верхом назойливости лезть со своим в общем-то праздным любопытством к ним, только что резанным по живому телу, измученным перевязками-перетасками.
Да и что могли сказать эти люди о житухе на передке, если были там лишь столько, сколько длился бой.
На свежий воздух выбралась из операционной измотанная Серафима, она и внесла кое-какую ясность:
– Штрафники. Бывшие офицеры.
– Ну, звания им теперь вернут, – сочувственно заверил Якухин.
– Звания безгрешных человеков. Офицерами им уже не быть, – сказал Гончаров и посмотрел на свою лежавшую в перевязи руку. – Эти, как и я, для армии теперь не годятся.
Якухин скосил глаза на Борю Басаргина, увязшего в своем запутанном, нечесаном горе, потрепал его по спине:
– Пойдем, Борька, доспим недоспанное.
Они ушли. Гончаров присел на ступеньки крыльца рядом с Серафимой. Давно и прочно захваченный идеей изобразить госпитальное утро на крутой несходности добра и зла, сидел недвижно, воображением художника переносил в строго очерченное пространство холста редкостную красоту нарождающегося дня и несовместимые с этим телесные и душевные страдания людей. Нет, в его картине не будет обнаженных мук, зритель не должен содрогаться от натурности изувеченных, все это надо обозначить намеком. Трепет и раздумья пускай вызовут внешне спокойные лица женщин, деловито спокойные от профессиональной привычки к ужасам войны и все же не способные скрыть до конца растерянность перед напастью, насильственно и жестоко вторгшейся в природу живой жизни. Потянуло к ватману, к карандашам – сейчас, немедленно перенести на бумагу схваченную сердцем и еще не остывшую в памяти натуру.
Закрылись ворота за последней машиной. В разной настроенности подались к подъезду и за ворота санитары и сестры, владельцы костылей и мышастых халатов. Олег Павлович, простившись с офицерами штаба фронта, не вернулся на территорию госпиталя. Хотелось побыть одному, отдохнуть, поразмышлять о событиях последних дней, о письме Руфины, которого беспокойно ждал и которое искренне порадовало. Малохоженой тропкой направился к склону лесистого холма. Обливная освещенность от верхушек дубов и кленов перемещалась все ниже и словно движением этим нарушала устоявшуюся здесь дремотную тишину. Шепотно колыхнулась листва, качнулись игольчатые плоды каштанов, с влажной мягкостью упал в росистую траву обломившийся сучок. Ровное и тихое одиночество Олега Павловича, не желая того, нарушила Юрате Бальчунайте.
– Олег Павлович!
Олег Павлович остановился, рассеянно посмотрел на Юрате.
– Слушаю вас.
Юрате вспомнила свою ночную молитву, увидела себя со стороны в своих сердечных муках и стала густо краснеть. Смущаясь все больше и больше, пролепетала:
– Граждане просят раненого повидать...
Не обделенный женским вниманием, Олег Павлович понимал, что таилось за этим смущением. Грустно подумал: «Этого еще не хватало...» Приобнял Юрате, спросил шутливо:
– Кто просит? Чего просит?
И тут же догадался, о каких гражданах может говорить Юрате. Досадливо нахмурился, на лице проступила тень усталости. Он убрал руку с плеча девушки.
– Нельзя, да? – так поняла его Юрате.
– Почему нельзя? – с запинкой, будто себя, спросил Олег Павлович. – Можно, только я. Где они?
Юрате повернула голову, и двое, стоявшие у крыльца дома, приняли это движение как знак подойти. Приблизившись, человек в очках оголил бритую голову, с поклоном придавил шляпу к груди Его спутник – долговязый юнец с покорными глазами на исхудалой физиономии, приотстал на шаг, вместо шляпы, которой не было, поднес к груди матерчатый узелок и тоже качнулся в поклоне:
– Калнаускас, – представился первый и повел смятой шляпой в сторону юнца в полотняной рубахе, заправленной в клетчатые штаны, – а это – Витаутас, мой брат Увидели, что раненых увозят, за того офицера побеспокоились. Чужой, а вот... О здоровье справиться, угостить.
Олег Павлович, сжимая и разжимая набрякшие в работе пальцы, рассматривал ранних посетителей с тревожным интересом. Выслушал, ответил продуманное:
– Вашего подопечного никуда не увозят. Слаб еще. Но за жизнь опасаться нет оснований...
– Слава тебе...
– ...приходите после врачебного обхода. Этак часов в десять.
– Спасибо, непременно придем.
Поднимаясь по лестнице, Олег Павлович сказал Юрате.
– Есть для вас приятная новость. Пройдите ко мне, я буквально на минуту.
Козырев направился в конец коридора, к угловой палате. На полдороге остановился в сомнении, посмотрел под рукав халата. В такой ранний час появление начальника госпиталя в палате привлечет внимание. А что он? Подойдет к Середину и скажет... Поколебавшись, Олег Павлович повернул назад.
В кабинете Олега Павловича Юрате застала Серафиму. Она впервые увидела ее не в привычном белом халате, а в форме лейтенанта медицинской службы. Серафима сидела на диване и пришивала свежий подворотничок на китель с узкими майорскими погонами из белой парчи.
– Ты что, Юрате? – удивилась Серафима ее приходу.
– Олег Павлович велел зайти, – Юрате села рядом, притронулась к кителю: – Это его?
Что китель Олега Павловича, догадаться было нетрудно, Серафима утвердительно кивнула головой.
– Дайте мне, – потянулась Юрате к иголке. Серафима не стала возражать, передала работу и долго, изучающе разглядывала сосредоточенное лицо Юрате.
С чего бы такое желание у этой литовской красавицы? Вошел Олег Павлович. Серафима снова уставилась на Юрате, погруженную в приятное занятие. Думала, покраснеет, смутится, застигнутая с его кителем на коленях. Ничуть не бывало. Никаких перемен с Юрате не произошло. Сделала последний стежок, касаясь щекой воротника, откусила нитку. Поднялась, полюбовалась на свою работу с расстояния вытянутых рук, повесила китель на спинку стула и осталась стоять в ожидании обещанной приятной новости с достоинством человека, не придающего особого значения оказанной услуге.
– Спасибо, – улыбнулся ей Козырев и подозрительно покосился на Серафиму, опасаясь какой-нибудь выходки. Чтобы пресечь эту выходку, спросил смехом: – Куда наладились, Серафима Сергеевна? Ни свет ни заря при полной форме.
Наслышанная о внимании Гончарова к Юрате Бальчунайте, Серафима игриво ответила:
– В театр. Приглашена лейтенантом Гончаровым.
– Какой театр? – простовато удивился Олег Павлович. – Рехнулись оба?
Серафима заметила, как вскинулись брови Юрате, и стала разъяснять:
– Владимир Петрович перед войной работал в здешнем театре художником. Хочет заглянуть туда и просто побродить по городу.
– Шли бы вы спать, Серафима Сергеевна. Гончарова в город Юрате проводит. Ей в военкомат надо, вот и составит ему компанию. – Олег Павлович выдвинул ящик стола, чтобы взять подготовленные для Юрате документы, но увидел там что-то и посмотрел на Серафиму. – Вот, вчерашней почтой, – извлек он и подал фотографию.
– Такая и у меня есть, только поменьше, – хотела расстегнуть пуговицу на кармашке гимнастерки, но повернула поданную ей карточку обратной стороной и оставила пуговицу в покое. Подняла взор и встретилась с утомленными, грустными глазами Олега Павловича. Что-то толкнуло вслух прочитать написанное на обороте фотографии – подумала, что это не будет против воли Олега Павловича. Подумала и прочитала: «Папе от Олежки и любящей...»
Олег Павлович вздохнул глубоко и свободно, и Серафима услышала в этом вздохе душу Олега Павловича, с предельной ясностью увидела, как жила и маялась эта душа последние месяцы. Серафиму охватило чувство дружбы, преданности и понимания. Спросила:
– Приедет?
– Да. Оставит сына у матери и вернется. «Глупая, какая ты глупая...» – с болью думала о себе Юрате.
Олег Павлович положил фотографию на место и подал Юрате документы.
– Небольшие формальности в военкомате, и сегодня же подпишу приказ о назначении вас младшей медсестрой. Будете работать в паре со своей подругой Машей Кузиной. Ну как, довольна?
Губы Юрате мило шевельнулись, едва заметным кивком выразила согласие и благодарность.