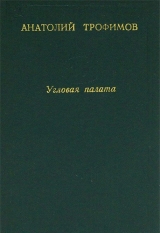
Текст книги "Угловая палата"
Автор книги: Анатолий Трофимов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Глава девятнадцатая
Вода закипала. Из-под неплотно прилегающей крышки двухведерного эмалированного бака легким папиросным дымком стал просачиваться пар. Юрате сидела на корточках перед распахнутой заслонкой плиты и, укрощая жар, совком разгребала угли по всему поду. Длинные, прямо расчесанные волосы занавешивали лицо и казались ей чем-то посторонним, неприятно беспокоящим – вроде запущенного, несвежего платка с чужой головы. Из-за них-то она и затеяла эту банную возню. Промыть, просушить, а потом уж в постель – до обеда, до прихода Маши Кузиной.
Крохотный, пахнущий резедой кусочек мыла – память безобидных щедрот ее хозяина Самониса Рудокаса – оживил истомленную работой и сердитую на свою неприбранность Юрате. Льняные волосы промылись до поскрипывающей чистоты, обещали, потеряв влагу, стать ковыльно легкими, какими и любила их Юрате.
Вода в баке оставалась. Стать в корыто и... Юрате решительно начала скидывать одежду.
За неимением другого места цинковое корыто хранилось под кроватью Маши Кузиной. Шлепая босыми ногами по крашеному, приятно прохладному полу, Юрате направилась туда. Распахнула дверь и оторопело замерла на пороге. В такой же застывшей позе в противоположном конце комнаты остановилась обнаженная женщина. Ее высокая, безукоризненно ладная фигура излучала юную жизнь. Юрате шагнула ей навстречу. Та сделала то же самое. Жар смущения прошелся по жилам Юрате. Она никогда не видела себя нагой со стороны. Но замешательство было недолгим, его сменил трепет восторга от всплеснувшей мысли, что это волшебное очарование исходит от нее самой. Боковые створки зеркала позволили увидеть чистую, цветущую наготу во всей ее истинности. Чуть покатые плечи с наметившимся подкожным жирком, атласная кожа упругих грудей, нежно-розовые соски, застенчиво обернутые друг от друга, девичья округлость живота, жесткая налитость бедер безупречно очерченных ног... Юрате прижалась кончиком носа к свежему холодку стекла, не размыкая губ, малость одурманенная, лукаво засмеялась.
Показав язык своему отражению, Юрате, громыхая корытом, поспешила на кухню.
Настроение подпортилось, когда, растертая полотенцем до жжения, она стала озабоченно перебирать свой сиротски скудный гардероб. Как же жить дальше? Научи, дева Мария! Юрате уронила слезинку. Но уже чуть погодя, одевшись и прихватив плетеную сумку, предварительно освобожденную от всего, что там хранилось, отбросив всякие сомнения, она вышла на улицу. Сейчас же пойдет в дом Самониса Рудокаса! Кто знает, может, и осталось что из ее вещей.
Юрате спустилась по мощеной унылой улочке к костелу Петра и Павла. В соборе играл орган, шла заутренняя служба. Приостановилась в раздумье. Зайти бы, притулиться в сумрачном углу, поплакать в молитве. Юрате грустно покрестилась, отвесила в направлении сводчатого портала мелкий поклон и поспешила в древнюю часть города, где неподалеку от базильянского монастыря стоял трехэтажный, дворцового типа старинный каменный дом господина Рудокаса. Неожиданно набежавший шумный дождь загнал ее под козырек какого-то наглухо забитого подъезда. Отсюда хорошо просматривался фасад особняка. На широком крыльце с каменной балюстрадой кутался в плащ-палатку солдат с автоматом. Стало тревожно и тоскливо. Воинская часть, похоже, квартирует, как туда войдешь! Перевела взгляд на зубчатую арку. А если со двора, через кухню?
В августе и сентябре дожди в Литве идут часто. Вроде бы небо чистое до неохватных высот, ни облачка на нем, но не успеешь глазом моргнуть, такой ливень нагрянет – нитки сухой не оставит. Окатит внезапно, прошумит мутными потоками – и снова все как было: стерильный небосвод, палящие лучи солнца... Дождь прекратился с той же неожиданностью, с какой начался. Юрате, минуя лужи, достигла арки и оробела от вида двора, знакомого каждым камнем, каждой дощечкой. Тесновато там было от военного люда и снаряжения. Сохранилось ли что, стала сомневаться Юрате, поди, все повыбрасывали, завалили комнаты винтовками да бомбами, вон какое войско. Но и уйти ни с чем не хотелось. Санитарка советского военного госпиталя Юрате Бальчунайте»недолго боролась с другой Юрате – недавней прислугой хозяина этого дома. Да что же, в конце концов, не съедят ведь! И документ имеется!
Побаиваясь все же, она поднялась по ступеням центрального входа следом за каким-то офицером, который на ходу снимал потемневшую от воды плащ-палатку. При виде девушки солдат-охранник не кинул, как офицеру, распрямленную ладонь к пилотке, а приставил ее вежливо, с поклоном, и этот молчаливый жест был понятен Юрате, несколько обвыкшей в полувоенной обстановке госпиталя: позвольте узнать – кто, к кому, зачем? Она подала четвертушку бумаги с машинописным текстом, сказала:
– Я тут жила, хотела... – Решимость пропала, Юрате потянулась за своим документом. – Нет-нет, я сейчас уйду...
– Под-дождите, гражданка, – теряя учтивость, отстранился солдат. – То она хотела, то она – уйду... Товарищ капитан! – заставил он обернуться офицера, который, перегнувшись через перила, вытряхивал мокрую окопную пелерину. – Вот эта гражданка к нам зачем-то, а зачем – не пойму.
Капитан с притаенным любопытством посмотрел на Юрате и энергично показал на вход:
– Чего на крыльце-то, прошу!
В вестибюле он подал знак в сторону еще одной двери – по левую сторону освобожденного от ковров лестничного марша. Когда-то эта каморка принадлежала старенькому Адомасу – швейцару, поившему иногда Юрате и Веру чаем с мятой. В двери теперь было оконце с полочкой, зашторенное свежевыструганной дощечкой Капитан отомкнул ее своим ключом, бросил на стул набухшую накидку и только тогда уткнулся во взятую у солдата бумагу. Прочитал, показал на стул:
– Садитесь. Из эвакогоспиталя, значит? Козырев за чем-нибудь послал?
Капитан во все глаза смотрел на девушку. Стесненная этим взглядом, Юрате пролепетала:
– Нет, не Козырев, я сама. Я жила тут...
Капитан с острым интересом скосил голову.
– Родственница? Прямая наследница?
– Нет-нет, – отреклась от такой причастности Юрате. – В прислугах жила, думала может, что мое из одежды тут.
Лицо капитана подобрело, и он стал тянуть из Юрате слово за словом, явно наслаждаясь беседой.
– Дел-ла-а. – покачал головой. – Где же ваша комната?
Помещения для прислуги были во флигеле – за левым крылом здания. Прошли туда через двор, заставленный машинами, бричками, походными кухнями.
– Там теперь у нас связисты комендантского взвода, – объяснял по пути капитан. – Вещи должны сохраниться. Строго наказано.
Когда ступили в комнату – двухлетнее прибежище ее и Веры, – у Юрате перехватило дыхание. Даже улавливался, хотя и сдобренный солдатским присутствием, родной до боли запах девичьего жилья. Кровати – ее и Веры – там, где и стояли, только застелены трофейными немецкими одеялами, в изголовье – конусами туго набитые соломой подушки. Даже дешевенькие прикроватные коврики не сняты. В углу, где находилось зеркало, штабель катушек телефонного кабеля, рядом – грубо сколоченная подставка с выемками для автоматов. Древний и громоздкий платяной шкаф с бронзовой инкрустацией сдвинут к самому окну, на освободившейся площади – стол из неструганых досок, где трое солдат то ли завтракали, то ли обедали. При появлении офицера они проворно вскочили.
– Питайтесь, – махнул рукой капитан и уставил взор на распашные дверцы шкафа. В каждую створку было вбито по гвоздю, и на эти гвозди намотана проволочка.
– Все цело? – спросил капитан.
Солдат с узкой лычкой на погонах обиженно шевельнул губой:
– Куда оно денется.
– Смотрите у меня! – потряс офицер пальцем. – Если что, головы поотвинчиваю и свиньям выброшу.
Юрате робко улыбнулась, хотела сказать что-то, но не осмелилась.
– Что, строго? – ответно улыбнулся ей капитан и стал отматывать проволочку.
– Ваше? – распахнул дверцы.
Юрате шагнула ближе. Прежде всего она увидела лазурное, в белый горошек, платье Веры, потянулась к нему, нежно, будто саму Веру, обняла, прижала к лицу и расплакалась от нахлынувших чувств. Офицер поскреб переносицу, насупленно сказал солдатам:
– Забрали бы вы свои котелки, дорубали на свежем воздухе!
Ефрейтор понимающе отчеканил:
– Есть, товарищ капитан, дорубать на воздухе! Когда Юрате оттянула выдвижной ящик с бельем, капитан тоже направился к выходу.
– Пакуй, дорогуша, все, что нужно. Провожу потом.
Юрате в глубокой задумчивости перебирала слежавшуюся одежду. Неужели она когда-то носила? Короткая комбинация с тесным корсажем, девчоночьи панталончики с распустившимися кружевами... Вздохнула с огорчением и приятным сознанием, что подросла, стала совсем взрослой: боже, как вымахала! Осмотрела то и другое, успокоилась – ничего, годится для Машеньки. А вот это... Она развернула безрукавку с крупными петлями, осмотрела передник с кистями, ленты... Вспомнила прошлогоднее рождество, себя в этом национальном одеянии, подаренном женой Самониса Рудокаса, и стала торопливо отыскивать другие детали костюма.
* * *
Машенька еще не приходила. Юрате шаловливо порадовалась и заспешила переодеться. Страшно хотелось увидеть мило удивленную мордашку подруги. Заперев дверь на оборот ключа, Юрате прежде всего заплела волосы в толстую короткую косу и закрепила ее конец белым бантом. Перевоплощение доставляло ей огромное удовольствие. Тщательно расправив перед зеркалом складки, ленточки и кружева, она отомкнула дверь и села на стул возле кровати. Сидела распрямленной, взволнованной, временами мелькала мысль о несерьезности, никчемности затеянного. Юрате нещадно расправлялась с этой мыслью и вызывала другую: нет в том греха – хоть разок показаться Машеньке не в заношенной душегрее или халате с ржавыми лекарственными пятнами.
В дверь постучали Предупреждая о своем приходе, Машенька всегда стучит. Объясняет это: «Когда неожиданно, то и родимчик накликать можно». Юрате улыбнулась, представляя, как войдет сейчас Машенька и ойкнет ошеломленно. Но ойкнуть впору было самой Юрате. Вместе с Машенькой вошли замполит Пестов, начхоз Мингали Валиевич и ее назревающая тайная мука – Олег Павлович Козырев. Его-то она и увидела прежде всего. Юрате резко поднялась, вспыхнула, прикусила крепко стиснутый кулачок и замерла с настороженным взглядом. Ее замешательство было секундным. Отстранила от лица руку, величаво и с вызовом вскинула подбородок, затаила тело в дивном поставе: смотрите и не взыщите – какая уж есть...
– Нинди матур{14}, – завороженно прошептал Мингали Валиевич.
Госпитальному начальству выдалась редкая возможность на деле убедиться, что человеческий глаз способен различать сотни чистых цветовых тонов и миллионы смешанных оттенков. Бледно-желтые волосы Юрате, забранные в косу, открывали теперь цветущую прелесть всего лица. Нежную шею облегает с красочным орнаментом отложной воротничок белоснежной кофты с пышными длинными рукавами, перехваченными подле кисти манжетой с узорной вышивкой, поверх кофты – темно-зеленая, неплотно застегивающаяся на груди безрукавка с витыми петлями. Изумительную гармонию желтых, коричневых, зеленых и красных клеток представляла собой юбка из кустарной ткани, спускающаяся до башмаков с причудливыми ремешками-застежками. И как очарователен этот обшитый бахромой передник с продольными полосками из голубых крестиков! Когда же Юрате в быстром и гордом движении подняла голову и по спине ее и плечам заструилось ниспадающее от круглой малиновой шапочки радужное многоцветие лент, потрясенный Олег Павлович не выдержал, крякнул с уважительным восторгом:
– Ос-леп-нуть можно.
Юрате придымила ресницами направленный на него взор, в беглой улыбке колыхнула уголки губ и задорно подумала: «Вам бы меня утром увидеть – перед зеркалом!» От этой мысли кровь ее – от пальцев ног до корней волос – враз вскипела стыдом. Стиснув лицо ладонями, она метнулась из комнаты. Машенька – следом: успокоить отчего-то расстроившуюся подругу. Но Юрате не нуждалась в утешении. Прислонившись спиной к стене, она стояла возле кухонной плиты и блаженно сияла в избытке шалой, буйно нахлынувшей радости. Машенька приткнулась к ее груди и незнамо отчего заплакала сама.
Приятно пораженные нечаемым контрастом всему, что их давно окружает, госпитальные начальники рассеянно осматривали жилище девчат и уклончиво помалкивали.
Олег Павлович, согнав улыбку и обращаясь к сопровождающим, спросил, набычившись:
– Как с игровой комнатой? Все еще копаетесь?
– Закончили, – ответил Пестов. – Газеты, журналы, шахматы... Еще кое-что.
– Посылки родным персонала?
– Отправлены, – ответил Валиев.
Невозможность зацепиться за что-то раздражила Козырева еще больше.
– Схожу проверю! – угрожающе произнес он и тут же подобрел, загрустил взглядом Поворачивая туда-сюда, он долго и раздумчиво оглядывал забытый на столе полуовальный костяной гребень. Потом повернулся к Пестову: – Иван Сергеевич, пошепчитесь с нашими дамами – о туфлях, чулочках, платьях... Что там еще для красоты? У кого нет, пошить надо. В городе модных портных до черта. Заплатим продуктами, что ли... Найдутся консервы, Мингали Валиевич? Найдутся, найдутся... Трофейные зажал небось на черный день. Не будет больше черных дней, пусть наши женщины хоть после смены наряжаются. Лучшая половина... да какая теперь половина – большая часть человечества! Пусть не забывают, что они – женщины, не отвыкают от этого. Недолго им осталось топать солдатскими сапожищами... Еще бы самодеятельность какую. Песни хором, пляски...
– Самодеятельность, пожалуй, не успеем, – заметил Пестов.
– В политуправлении был? – насторожился Олег Павлович. – Что слышно?
– Что слышно... Ничего не слышно. Ты как будто первый день на фронте, не чуешь.
– Да прах с ним! – рубанул ладонью Козырев. – Пусть хоть один вечер, но попляшут!
Мингали Валиевич потер лоб.
– Что-то не согласуется твоя нежная забота о чулочках с Панеряйским лесом. Ты же в помощь комиссии самых молоденьких выделил, а там трупов – тысячи. Девчонки и в госпитале всякого насмотрелись.
Козырев жестко поправил:
– В госпитале увечья и смерть – последствия вооруженной борьбы за святое и правое дело, а в Панеряе – зоологическая жестокость, зверства над безоружными и слабыми. Пусть девчонки увидят нацизм со всех сторон. Им надо это, их детям надо... – Олег Павлович, меняя настроение, помолчал и спросил о Юрате Бальчунайте: – Чем она у нас занимается?
– Чем придется, – ответил Валиев. – Вообще-то санитаркой числится.
– Таких славных в медсестры надо готовить. Терапия обаянием – великая вещь.
– К себе ее Мария Карповна... Маша Кузина просит, – сказал Мингали Валиевич.
– Подготовьте приказ – младшей медсестрой в палату комсостава. С военкоматом сам согласую. Тут без них не обойдешься.
– Нет у нас такой должности – младшая медсестра, – возразил Мингали Валиевич.
– Будет приказ – будет и должность! – отрезал Козырев голосом самодержца.
Козырев направился к выходу, но от порога вернулся. Смущенно усмехнувшись, положил на стол ненамеренно прихваченный гребень. Покосился на Мингали Валвевича и, указывая на дверь в конце коридора, спросил:
– Кто там?
– Врачи. Свиридова с Чугуновой.
– Зайдем и к ним, посмотрим.
Глава двадцатая
В палате опустели четыре койки. Сначала койка Ивана Малыгина. Хлопотами разведотдела фронта его специальным самолетом вывезли в Москву под надзор медицинских светил. Прощаясь, Смыслов посоветовал Малыгину:
– Поставят на ноги – просись в Свердловск долечиваться. Дух родного дома самый целительный.
– Нет, земляк, – возразил Малыгин. – Лучше бы здесь остаться – ближе к фронту. Но идти наперекор начальству – без пользы. В Москве надеюсь на кое-какие связи. Один человек, под началом которого первый раз забрасывали к немцам в тыл, сейчас в Наркомате обороны. Может, по блату сумею скорее вернуться в действующую.
– П-по блату... П-презираю блатников, – с усмешкой позапинался Смыслов. – Т-только успеешь ли? Слышал сводку? Союзники уже в П-париже.
– Париж Парижем... До Средиземного с их расторопностью еще топать да топать.
Капитана, подстреленного из-за угла, тоже метили отправить подальше в тыл, но кто-то со стороны, не медики, наложил вето. Кто он, эта жертва бандгруппы, до сих пор установить не удалось. Распорядились лечить, потом видно будет.
Другие три койки освободили Россоха, Краснопеев и Мамонов. Младший лейтенант Якухин, несмотря на свои сорок лет, среди кандидатов на выписку выглядел самым цветущим, но внешний вид не обманул врачебную комиссию: его разбитый плечевой сустав заживал трудно. То обстоятельство, что забракован, особых огорчений на первых порах не доставило Якухину. Скоро конец войне, и явилась заманчивая надежда живым, без новых увечий вернуться домой. Это желание, чтобы не бередить совесть, таил даже от себя, старался реже думать о заманчивой перспективе. Вроде бы нет ничего греховного в затаенных мыслишках, а вот поди ты... Возникла откуда-то вина перед теми, кто может опять быть покалеченным, а то и вовсе убитым, точила, как жук-короед.
Из других палат тоже много выбыло, и теперь там шли перемещения: одни палаты доукомплектовывались, другие освобождались полностью. С заглядом в будущее кровати устанавливались потеснее. На крайний случай планировалось увеличение койко-мест за счет игровой комнаты и двух ординаторских. С этой же целью майор Валиев получил в сануправлении восемь двадцатиместных палаток, печки для которых мастерил из железных бочек Юлиан Будницкий.
Боря Басаргин беспокоился, что из-за пертурбации его могут потурить из комсоставской, дескать, с мякинным-то рылом да в калашный ряд, а ему не хотелось уходить, привык. Не такие уж страшные эти командиры, как попервости показалось. С Василием Федоровичем сдружился, с лейтенантом Гончаровым, который по другую сторону койки, тоже. Теперь вот Смыслов соседом стал, на койку Мамонова перебрался – к окну, что во двор смотрит. Неплохой вроде парень. Тоже должны скоро гипс снять, вместе гулять будут.
Но никто не потревожил Борю. Решили, поди, что он тут нужнее. Василий Федорович даже сидеть не может, а Боря не такой уж калека, хотя и на костылях, нет-нет да и подменит девчонок-санитарок.
Пообедали, спят сейчас – и Курочка Василий Федорович, и художник Гончаров, и Смыслов этот, которого почему-то начальником штаба зовут. Боре днем спать не хочется. Это же беда – выспаться днем. Что тогда ночью? Ночью такое в голову лезет – хоть реви. Да и днем-то не очень весело.
Боря пристроил костыль к отопительной батарее, оперся на него коленом разбитой ноги, смотрит, что за окном делается. А там дождь, лужи... Тоска зеленая. Три месяца на передовой пробыл – и ничего, не томился, не душила хандра эта. Конечно, иногда думал о том, что случилось, но так как-то – будто не о себе. А тут вот...
Басаргин, Басаргин... Все его так называют, и в документах так значится. А кто он, этот Басаргин, – Боря и сам не знает. Может, сволочь первостатейная, которую не жалко к стенке поставить, может, и наоборот – не сволочь, обыкновенный человек, только с ним несчастье какое-то... Тогда, если разобраться как следует, к стенке-то его, Борю, надо. Поставить – и шлепнуть, чтобы другим неповадно было...
Под Минском, когда маршевую роту в полк влили, почему молчал? Ну, сунули бы в штрафную – и все. Пускай бы и убили. В стрелковой роте разве слаще? Везде одинаково под смертью ходишь. Зато помер бы Борька Найденов, а не черт знает какой Басаргин. Не хватило ума открыться. Теперь вот ума вроде прибавилось, а что толку... Когда ума больше, то и душе тяжельше, сам себя казнишь да терзаешь.
Или зря казнишься? Живешь? Ну и живи. Воюешь? Воюй на здоровье. Убьют? Так ты об этом не узнаешь, не придется ломать голову, кого убили – Найденова или Басаргина. Еще никому не доводилось горевать о своей смерти.
Н-нет, такое тоже не дело. Поговорить бы с кем...
Нога у Бори затекла, он высвободил ее из костыльной расщелины, подержал на весу. Легче стало. Вот душу бы так. Вытащить ущемленную, потрясти на свежем ветерке...
На толстый, давно обессоченный сучок опустилась птаха с белыми щечками и черной манишкой на желтой груди, вцепилась серпастыми коготками в мертвую кору. Взлохмачивая пух на короткой шее, опасливо покрутила головкой в черном беретике, клюнула один раз, другой, снова заозиралась, опять клюнула... Казалось, на суетливую настороженность у нее уходит времени больше, чем на добычу козявок. «Вот так и я, – подумал Боря, – буду жить, как эта синица, постоянно ждать чего-то опасного».
От горькой, тяжелой мысли солоно защипало в глазах. Боря спятился от окна, сел на койку.
Поговорить... Поговорил с одним. Нормальный вроде человек. О жене, о дочке ласково говорил, карточку, где вместе сняты, показывал Думал, что поймет, посоветует. А он... «Это кого мне в отделение подсунули, а? Так не пойдет. Сейчас же ротному доложу, не хочу я с таким рядом воевать, он и к немцам удрать может или еще хуже что наделает». Заплакал тогда Боря, ревел и самыми последними словами обзывал сержанта. Мол, я тоже не хочу с тобой рядом, и не только воевать, но и на корточки по нужде... Подрались бы, чего доброго, но тут артобстрел начался, немцы весь передний край разворотили. Завалило их в блиндаже, где нервно беседовали. Боре вот ногу повредило, а сержанта – насмерть...
Надо же, какая пакость в человеке жить может! Будто обрадовался такому случаю. Видел Боря кино про солдата Шадрина. Тот радовался, когда убило офицера. Офицер наказал солдата за большевистскую листовку – отпуск отменил. Солдата из кино понять можно. А его, Борю, как понять? Вроде с немцами заодно. Спасибо, мол, сволочи, что сержанта ухлопали, теперь моя тайна при мне останется.
На душе стало вдвойне мучительней – и от прошлого, и от того, как подумал про смерть сержанта. Сгинуло бы все это, как дурной сон: ни войны, ни крови, ни страданий, а он, Борька Найденов, опять, у станка – одношпиндельного, изношенного, но такого родного... Как тот, на котором в ремесленном Гаврила Егорович обучал. Жениться бы. Хорошо бы на такой, как Машенька, детишек бы ему нарожала – и с кривенькими, и с прямыми ножками. Ох и любил бы он их! Твердо верил Боря, что человек, не знавший ни отца ни матери, плохим отцом никогда не станет.
Да, видно, Машеньку, радость эту, судьба не для него предназначила. Вон как разволновалась, засветилась доверчиво. А всего и делов-то – Агафон Смыслов глаза открыл, улыбнулся ей издали.
Смыслов посмотрел не только на сестрицу, посмотрел и на Борю. Долго смотрел, пытливо, потом поманил пальцем. Боря перебрался на табуретку возле кровати.
– Чего такой кислый? Ступай гулять. Посмотри, что в парке делается.
Боря покосился на окно. Дождевая туча сдвинулась, открыла небо. Влажные, облитые горячим солнцем резные листья каштанов, подрагивая, искрились светло-соломенными, пурпурными, золотистыми переливами. Неправдоподобной показалась Боре красота сентябрьского увядания, никогда не приглядывался, не замечал эту красоту в природе, думал, что цвета побежалости могут возникать только на спиралях стальной стружки, снимаемой резцом его старенького станка.
Смыслов дотронулся до Бори:
– Ну что молчишь, что с тобой?
Басаргин протер глаза рукавом халата, тоскливо вздохнул:
– Да так. В роту бы скорей, к ребятам.
Проникая во что-то смутное, еще неугаданное, но явно неладное, Смыслов сдвинулся к стенке, показал на край постели, попросил мягко:
– Сядь сюда. Расскажи.
Не раз замечал Смыслов, как накатывает на этого в общем-то, не склонного к хандре парня безмолвное душевное томление, но как-то не к месту все было с ним заговорить.
– Может, п-письмо к-какое, а? В семье что-нибудь?
– Нет у меня семьи.
– К-как это нет? – свел брови Смыслов.
– Детдомовский я.
– Должны же быть друзья, т-товарищи...
Не было у Бори в детдоме товарищей, не успевал заводить уж очень часто переталкивали из одного детдома в другой, а то и сам убегал Вот в ремесленном, там – да И пишут, наверно Мастер Гаврила Егорович, Санька-грек, Витька-гуля... Пишут, поди. Только на ту полевую почту, Борьке Найденову...
Рассказать? А если Смыслов, как тот отделенный, которого в блиндаже убило? Боря с усилием посмотрел в глаза Смыслова. Коричневые, чистые, они с тревожным участием следили за Борей, и его стесненный дух стал будто расковываться. Нет, этот не заорет, не скривится брезгливо. Только что из того? Не бог, не святой дух, чуда не сотворит... А-а, хоть выговориться, вдруг да полегчает.
* * *
Парней 1927 года рождения, малость подросших к тому времени, начали призывать зимой сорок четвертого. Призыв для Бори был пределом мечтаний: на фронт, на фронт! Но не так уж беден был тогда фронт, не торопил парня в свои смертные объятия. Учили без спешки, основательно. Целых четыре месяца. Учили поворотам налево-направо-кругом, колоть коротким и длинным щиты из ивовых прутьев, ползать по-пластунски, окапываться, разбирать и собирать винтовку образца 1891 дробь 1930 года и новейший ППС, а под конец – стрелять боевыми патронами. Потом сколотили команду, отправили на фронт. На фронт не все попали. Борю назначили в какую-то роту, охранявшую склады, пакгаузы и вагоны на путях прифронтового железнодорожного узла. Рота была укомплектована служивыми очень даже почтенного возраста и несколькими салажатами вроде Бори Найденова. Караульную службу несли исправно, но порой с такой откровенной примесью гражданской нестроевщины, что рота эта казалась командой сторожей из шарашкиной конторы. Приходил солдат на указанный ему пост в указанное время – когда с разводящим, когда без него, – сменяемый отдавал противогаз, подсумок, винтовку и радостно объявлял: «Пост сдал!», а пришедший на смену без всякой радости отвечал: «Пост принял». Сдавший уходил куда вздумается или заваливался на нары припухнуть до нового заступления на охраняемый объект.
Однажды, освободившись таким образом от винтовки и противогаза, Боря до крупинки выскреб оставленное ему в котелке, тоскливо посмотрел на чистое донышко: поел, называется, даже отрыгнуть нечем. С ощущением еще большей охоты порубать отправился к вокзалу, где местные тетки в обмен на немудреные солдатские шмутки бойко сбывали тоже не очень мудреную стряпню. За пазухой у Бори притулились две портянки, и он рассчитывал получить за них как минимум штук пять картофельных лепешек, помазанных подсолнечным маслом.
Когда торг состоялся, Боря пошагал в дальний конец изрытого, загубленного снарядами сквера, чтобы приглушить неотвязчивую тоску всегда несытого брюха. Тут-то и остановил его надтреснутый командирский голос:
– Товарищ боец, ко мне!
Боря оцепенел. В пяти шагах стоял лейтенант с уставшим, измученным лицом, в фуражке с черным бархатным околышем, в тыловых, синего сукна бриджах и диагоналевой гимнастерке, упряжно перехваченной портупеей и ремнем полевой сумки.
– Вы что, оглохли? Кому сказано? – суровел лейтенант, но ждать, когда солдат придет в себя и задаст стрекача, не стал, подошел сам.
– Хо-рош солдат... Ничего не скажешь – хо-о-ро-ош... – И как плеткой: – Крадем?! Государственное имущество крадем?!
Ну, это уж слишком. Боря взвился:
– Я не воровал! Это мои портянки!
Лейтенанту явно не хотелось идти на обострение, заговорил тихо, рассудительно, правда, с прежней колкостью:
– Портянки, допустим, твои. А ты чей? Кому присягу давал? – Предоставил виновнику время уяснить сказанное, подвел черту: – Что же выходит? А выходит – кра-аде-ешь...
Боря сопел, косился на развалины вокзала и соображал – нельзя ли на самом деле рвануть от этого усталого худого щеголя в парчовых погонах? Но психологическая атака, как казалось лейтенанту, была проведена с блеском, и он сменил гнев на милость.
– На жратву менял? Голодный? – он сподручнее передвинул полевую сумку, откинул закрывашку и извлек квадратную баночку консервированной американской колбасы и сухарь в поперечину булки. – Сядем-ка на полянку, перекусим, у меня тоже живот к спине прилип, пока за такими, как ты, бегал. От эшелона отстал?
– Ни от кого я не отставал. Я тут, в караульной роте.
Лейтенант был дошлый психолог, знал болевые центры желторотых солдат и бил в них без промаха.
– Молодой гриб, а червивый. Знаешь, где кантоваться. Не хочется, значит, под пули? Драгоценную жизнь бережешь? Да ты не дуйся, лопай давай. Я так, поглядеть, какой ты, когда сердитый. По твоей физиономии вижу – давно на фронт охота. Да-а, мало хорошего загорать в инвалидной команде. Вернешься домой после войны, а там... Где да как воевал, покажи награды. Девчонки нынче ого какие пошли! Согласны только на медаль, да и то – в крайнем случае.
На гимнастерке лейтенанта висели две медали, и, надо полагать, он на деле проверил, какова их роль в сердечных делах.
Скоро Боря, выловив пальцем из баночки последние студенистые крошки и слизнув их, рассказывал лейтенанту о своей хреновской житухе. Лейтенант свойски хлопнул его по плечу:
– Плюнь, Борька, на эту сторожевую шарагу, поедем со мной! Эшелон с маршевыми ротами сопровождаю, завтра на передовой будем!
– Как так? Я же тут... Сбежал, скажут, дезертировал...
– Вот уж действительно не от ума! Ты что, в тыл? Маме под юбку? В действующую армию, немцев бить! – авторитетно, начальственным голосом воскликнул лейтенант. – Посмотри на себя, вон какой бравый парень! Не медали, как я, – еще орден отхватишь. Мне вот пополнение сдать надо да обратно в запполк, а я тоже думаю остаться. Обрыдло в тылу околачиваться. Дадут роту – и ладно. Хочешь, к себе ординарцем возьму?
– То сторожем, то ординарцем, – оскорбился Боря. – Нет уж, воевать так воевать.
– А я что говорю? – рассудительно продолжал лейтенант. – Ты, Найденов, мужик хоть куда! Тебе и пулемет могу доверить, к «максиму» первым номером, если захочешь, приставлю.
– Вы-то почему в пехоту? Фуражка у вас вон танкистская.
Лейтенант малость смутился, сказал честно:
– Это я так, для форсу бархатную напялил... Ну, надумал?
Боря решительно хлопнул пилоткой по кирзовому голенищу, объявил о готовности идти за лейтенантом в огонь и в воду.
Вскоре они лежали на железнодорожной платформе под крылом разбитого самолета, который почему-то везли в обратную от тыла сторону. Маршевый эшелон лейтенанта был где-то впереди, и его предстояло еще догнать на попутных товарняках. Измученный каторжной работой сопровождающего, борясь с дремотой, лейтенант втолковывал Боре, что на месте назначения принимать пополнение будут представители действующих частей, и ему во время переклички надо отозваться на фамилию Басаргин. Почему? Так это на первое время, чтобы на котловое довольствие, обмундирование там... Потом все утрясется.
– Черт его знает, куда подевался этот Басаргин, – рассуждал лейтенант как бы сам с собой. – Два дня от Орши до Смолевичей мотался, искал задрыгу. Как в воду булькнул. Может, родичи какие поблизости?... Наплевать! Его место займет достойный человек...








