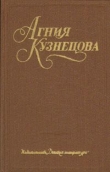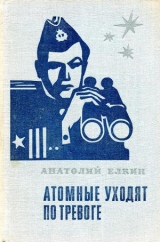
Текст книги "Атомные уходят по тревоге"
Автор книги: Анатолий Елкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Жаль… Опять мы с тобой на год-два расстанемся.
– А ты прилетай ко мне на Диксон.
– А экспедиция?
– Ну не в этот год, так на следующий…
– На следующий я и сам к тебе собирался…
Засыпая в ту ночь, Анатолий не знал, что судьба рассудит иначе и что совсем скоро он окажется в Геркиных краях.
Но в связи с совсем другими обстоятельствами и делами.
На другой день Анатолий потащил Германа к знакомому художнику: «Тебе нужно обязательно посмотреть его работы. Они по твоей части. Даже консультантом можешь стать. И вообще, мне кажется, вы подружитесь… Родственные души…»
Герман был абсолютно свободен, а потому сопротивлялся не долго – только из приличия.
По старинным московским переулкам мела поземка. Колючие иглы забивались за воротник, били в глаза. Они видели, как человек в заснеженном пальто шел по улице, потом остановился у дома, рассматривая его номер. Когда они подошли, спросил:
– Вы не знаете, где здесь мастерская художника Маркелова?
– Мы как раз туда же. Можем вас проводить.
Когда поднимались по лестнице, Анатолий незаметно рассматривал их спутника. Лицо что-то вроде знакомое. Старался вспомнить – не получилось. «Наверное, художник… Или полярник», – решил Сергеев. Давно зная Маркелова, он не мог предположить что-нибудь другое. В мастерскую этого человека, беспредельно влюбленного в море, флот и Арктику, всегда заглядывали на огонек то радист с дальней зимовки, то геолог с Таймыра, то известный полярный капитан, то военный моряк с Севера.
Долгие разговоры шли здесь до утра. В них снова оживали подвиг «Сибирякова», эпопея челюскинцев, легендарная атака Лунина, походы «Персея» и «Таймыра». Словно распахивались окна в мир легенды, запечатленной на холстах и гравюрах, висящих на стенах. И тогда раздавалось неизменное: «А ты помнишь, как на Новой Земле?..»
Или: «А здорово прошел тогда «Шокальский»!..»
Маркелов писал под ветрами всех широт, и даже названия его работ звучат для людей, влюбленных в море и Север, как музыка: «Шторм. Гренландское море. Остров Ден-Матен», «Советский рудник. Баренцбург. Шпицберген», «Зима наступила. Экспедиция на ледокольном корабле «Таймыр», «Белая радуга. Море Баренца».
Более всех людей на свете Маркелов почитал полярных капитанов. Они были поэтами Арктики и считали, что в нее должны ходить не только моряки, ученые, но и художники. Поэтому первое место в шлюпке, которая отваливала к новому берегу, отдавалось Маркелову. Так поступал прославленный полярный капитан «Таймыра» Иван Федорович Кацов. Так делал командир «Персея». Так вел себя Сомов.
Когда бунтовали недовольные, им отвечали: «Все, что он нарисует, будет документом. Таким же, как карта. Арктике нужны люди, а его рисунки будут агитировать за нее. Кроме того, вы еще успеете все обегать, а ему нужно время».
Он понимал это: полярники дарили часы и минуты не ему, Маркелову, а искусству. И работал как зверь…
Позднее он шутил: «Кент по сравнению со мной – бедняк. У него только шлюп. У меня весь арктический флот и первое место в шлюпке».
Впрочем, в иронии было и серьезное: однажды капитан «Таймыра» два часа водил судно вокруг острова, чтобы художник успел написать бухту. «Это тоже, кстати, входит в понятие «советское искусство», – бурчал Маркелов.
Каждому, кто приходил в его мастерскую, Маркелов зачитывал слова Кента из книги «Это я, господи»:
«Ни дома, ни в других странах, куда меня заносила судьба, нигде мне не было так легко, так удобно заниматься живописью, как в Гренландии… Чудесный, несказанно прекрасный мир, и из глубины нашей взволнованной души вырывается восклицание: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» И пусть теперь наши мысли воплотятся на полотне с помощью красок и кисти».
С Кентом он переписывался…
Но кто же их попутчик? Когда в передней он снял пальто, Сергеев увидел Звезду Героя и вице-адмиральские погоны.
Ну да, конечно же, это он… Как только Анатолий сразу не догадался. А еще журналист. Он видел это лицо на снимках. Только под фотографиями не стояло тогда фамилии. Ее заменяла довольно абстрактная подпись: «Скоро командир даст команду к погружению…»
Адмирал представился Маркелову:
– Оказался случаем в Москве. Наслышан о вас. Захотелось все посмотреть самому. Будем знакомы – Сорокин Анатолий Иванович.
– Прошу! – Маркелов умел приглашать по-королевски. Ему не хватало только плаща и шпаги, чтобы стать двойником какого-нибудь знатного испанского гранда.
Как всегда, в мастерской царил бедлам.
Адмирал как-то незаметно стал «своим»: его перестали стесняться. Он долго стоял у полотна.
– «Щука»?
– Да. Это из тех времен…
– Вам бы атомные посмотреть. Когда они всплывают, скажем, у полюса… Вот где «побежденная Арктика»!..
– Кто знает, может быть, и посмотрю. – Маркелов было приосанился, а потом сник. – Правда, годы уже не те, но в Арктике всегда чувствуешь себя молодым… Это больше, чем страна, – Арктика! Это – и молодость, и мечта, и любовь…
Сорокин задумался.
– Я не предполагал, что у вас там такие крепкие корни… Не предполагал, хотя картины ваши…
– Как видите. – Маркелов смутился. – А впрочем, зачем скрывать. Я ее действительно люблю, Арктику…
– А вы как, молодой человек? – неожиданно спросил он Германа.
– Не знаю. Я об этом не думал. Но скучать скучал.
– Вот видите! – Маркелов обрадовался. – Нас мало, но мы…
– В ледяшках, – рассмеялся Сорокин.
А мастерская между тем наполнялась. Новые люди прибывали и прибывали. К полуночи со стены сняли гитару. И словно расступались стены, мансарда стала рубкой корабля, и снег за окном, казалось, падал уже не на московские дворики, а на скованную ледяным панцирем далекую Северную Землю.
Летчик смотрел на полотно, где в неистовом вихре смешались земля и небо, и тихо-тихо выводил:
Песчинки, брошенные в воду, —
Зимовки старые дома,
И нет над Диксоном погоды,
И, значит, кончилась зима.
И снова солнца слабый запах,
И – тишина, и – тишина,
И молча льды идут на запад —
Опять на Диксоне весна…
Как долго писем нет от друга!..
Морзянка мечется в тоске.
Приносит только ветер с юга
Тепло от тех, кто вдалеке…
Герка слышал эту песню на Диксоне и Новой Земле… И вот она забрела сюда, на тихую улицу… Странные бывают встречи. Как подарок. Хорошо, что он пошел с Анатолием. Любопытный народ. И художник, кажется, интересный.
Сорокина украл Сергеев. Примостившись за маленьким столиком с красками, они шептались, как заговорщики.
До Германа донеслось:
– Я человек дела, Анатолий Иванович. – Сергеев сидел раскрасневшийся. Глаза у него блестели. – Дважды вам меня приглашать не придется.
– Посмотрим, – улыбнулся Сорокин. – Я от вас не могу скрыть и другого. Пробиться к нам вам будет нелегко. Это, – он развел руками, – не в моей власти…
В ту ночь они долго бродили по завьюженной Москве, когда потоки косого снега ослепительными блестками вспыхивали в огне реклам, а звезды кремлевские пламенели, казалось, в самом небе – силуэты башен скрадывала снежная пелена.
Анатолию подумалось вдруг, что жизнь человека, особенно журналиста, в сущности, может круто измениться, пойти по иному руслу из-за сущей, казалось бы, ерунды: случайная встреча, разговор, происшествие – и вот уже все прежние намерения и планы летят к черту и тебя начинают волновать проблемы и вещи, которых вроде бы вчера ты еще и не думал касаться.
Но так только кажется. Если сердце твое глухо к морю, даже сотня бесед с моряками не вызовет в нем отклика. Анатолий не догадывался, что встреча, переворачивающая жизнь, – это как долгожданная земля после долгого плавания. Сам того не зная, ты живешь ощущением встречи, вся твоя предшествующая жизнь – подготовка к ней, и нравственный ход вещей таков, что достаточно искры, чтобы произошел взрыв.
Не состоись встреча с Сорокиным, была бы встреча с Ивановым или Петровым. Но она была бы обязательно. Потому что и белые ночи над Мурманском, и письма ребят из Атлантики, которые он получал, и морские книги отца, сопровождающие его всю жизнь, и щемящее чувство счастья, приходящее всякий раз, как он оказывался на берегу моря, – все это были и причины и симптомы неизлечимой болезни любви к морю и флоту. Все это постепенно и незаметно отпластовывалось в душе, чтобы однажды, получив неожиданный толчок, вылиться в иной ход обстоятельств, переводящих его любовь из созерцательной восхищенности в сферу реального действия и поиска.
Это и называется «найти себя», хотя счастье таких открытий встречается далеко не каждому: мало ли мы знаем аккуратных экономистов, которые, прояви они больше упорства, стали бы окрыленными геологами, или весьма благополучных инженеров, где-то втайне от самих себя похоронивших мечту о высоком небе.
Анатолий знал: на встречу пойдет. В «Комсомолке», где он работал, не принято возвращаться с пустыми руками. Чего бы это ни стоило.
Таковы были традиции. Освященные подвижничеством тех, кого уже нет среди нас и чьи имена, выбитые золотом на мраморе в Голубом зале редакции. Эти люди горели в танках, прыгали с парашютом в гитлеровский тыл, гибли на подводных лодках, обмораживались, пробирались на легких фанерных самолетах в самую глубь Арктики, не спали по трое, пятеро суток, когда уходили к звездам космонавты.
Измученные и ободранные, возвращались они в редакцию на улицу Правды, но предложи им другую – спокойную, тихую жизнь – они посмотрели бы на вас, как на бесконечно унылого человека.
Трое суток не спать,
Трое суток шагать
Ради нескольких строчек в газете.
Если б снова начать,
Я бы выбрал опять
Беспокойные хлопоты эти.
Такое было их верой, их сердцем, их любовью. До последнего часа, ибо настоящий газетчик, кем бы ни стал он впоследствии – писателем, дипломатом, ученым, как первую любовь, сохранит в душе годы, когда он каждый час, каждую минуту чувствовал тревожный пульс планеты. Когда слоистый дым стлался после бессонных ночей над редакционным столом, а твой очерк пах еще неостывшей типографской краской. Когда ты видел под крылом самолета сегодня Таймыр, а завтра Курильскую гряду. Когда под грохот перекрывающих Енисей самосвалов ты простуженным голосом орал в телефон редакционной стенографистке:
«Река поворачивает! Река поворачивает в новое русло!»
И был также счастлив, как те, сидящие за рулем машин. И сколько бы ни прошло лет, будет тревожить тебя по ночам гул ротационных машин, ни с чем не сравнимое счастье первого читателя завтрашнего номера газеты и эхо далеких городов и сел, услышавших твой голос…
3
Корчилов с трудом открыл глаза и посмотрел на часы. Слава богу, до вахты еще час. Нырнуть обратно под одеяло? Нет, пожалуй, все равно не поспишь. Он тронул колючий подбородок – надо бриться.
Зевнув и потянувшись, вскочил. Несколько энергичных приседаний – и сон прошел.
Взбивая пену в металлическом стаканчике, он посмотрел в зеркало и недовольно поморщился. «Мальчишка мальчишкой! Какая там «решительность в складках губ». Пухлые у него губы. Как у девчонки. И чего это я себя рассматриваю, – вдруг рассердился на самого себя. – Что я – красная девица?»
Вода была чуть теплой, и бритва больно драла кожу.
Он уже несколько раз ловил себя на том, что как бы наблюдает себя со стороны. Где-то втайне ему, признаться, очень хотелось походить на тех мужественных и обветренных людей, которых он с детства знал по много численным снимкам, – на Колышкина, Видяева, Гаджиева…
Но где там! Сколько еще лет должно пройти, прежде чем жизнь и море обомнут юношескую свежесть и мальчишка хоть в чем-то станет похожим на бывалого, видавшего виды моряка. Правда, особо огорчаться вроде бы было не из-за чего. Большинство в команде – его сверстники. Или чуть постарше. И на просоленных морем опытных волков тоже не смахивают. Но все же…
Борис вытер лицо полотенцем и тяжело вздохнул.
Надо было идти завтракать. А потом – долгая и совсем не легкая вахта…
«Дорогая мама!.. Опять я долго не писал. Много приходится и работать и учиться. Не было времени даже для того, чтобы черкнуть пару слов. А предыдущее письмо, я не знаю почему, ты не получила. Я писал его числа 26—28 октября. Я очень, мама, благодарен тебе за посылку. Яблоки были очень вкусные, все наши ребята остались довольны. Ты даже не забыла положить вафли, зная, что я их люблю. Все мне понравилось. Больше мне ничего не присылай. Разве что найдешь те книги, которые я просил тебя купить.
У меня все по-старому. Работаю очень много. Занимаюсь. Осваиваю специальность. По воскресеньям иногда хожу на лыжах по сопкам. Шею еще не сломал, здоровье в норме.
В отпуск меня, как самого молодого офицера, записали на ноябрь – декабрь. Так что встретимся. На днях вышлю тебе деньги. Кроме обычных – специально на новогодний подарок. Я купил бы что-нибудь, но лучше выбери сама на свой вкус.
Поздравлять меня с женитьбой не надо. Она откладывается. Мы сейчас с Нелей поссорились. Она никак не хочет понять, что я здесь сейчас не в бирюльки играю и что я себе не хозяин и не могу отлучаться, когда мне это заблагорассудится. Но со временем, думаю, она все поймет. В принципе же она хорошая. Я на день-два съезжу к ней для «уточнения обстановки».
Мама, береги себя, переходи на работу полегче. С финансами я тебе помогу. В отпуск на следующий год записывайся на август – сентябрь. Поедешь на юг. Там в это время должно быть хорошо. Отдохнешь, покушаешь фруктов.
На Новый год сделай дома небольшую елочку, чтобы чувствовать праздник. Мы тоже у себя в каюте поставим что-нибудь изображающее елочку. И достойно отметим праздник. Все ребята наши – холостяки.
Погода у нас в основном мягкая. Иногда бывает довольно холодно. Но мороз держится недолго.
В прошлое воскресенье я ходил кататься на лыжах. Вода, в смысле море, у нас не замерзает – теплое течение Гольфстрим. Часто бывает северное сияние. Акклиматизировался я нормально. Погода здесь зимой еще лучше, чем в Ленинграде. Только бывают сильные снежные заряды. Белых медведей я не видел. Видел только заячьи следы. В общем, мама, у меня пока все хорошо…»
4
В народе их зовут «моря́чки»…
Талисманы не отводят злых духов. Телепатия, рок, передача мыслей на расстоянии сгорели, как бабочки в огне, проверенные судом науки. А самые совершенные кибернетические машины не в состоянии запрограммировать то состояние души, которое вопреки самым категорическим заключениям Эйнштейна, Бора и Курчатова все же обладает таинственным свойством: трансформируется, как луч лазера, через-тысячи миль. Высекает ответную волну чувств. «Цепь» работает. Как ее ни назови – фантастикой, идеализмом, – передача не прекратится. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.
Прием нечеток. Сигналы доходят лишь в виде общих туманных знаков, но смысл их понимается безошибочно. И тогда человек неожиданно преображается. На угрюмых лицах появляются улыбки. Штурвал веселее ходит в руках. Быстрее кажется ход корабля.
Случается, передача затухает или исчезает совсем. Тогда появляются боль и то, что люди называют предчувствием или тоской.
Хороший командир и замполит отлично читают эти «кибернетические» схемы и вовремя находят поломку. Хотя эти схемы посложнее электронных и реакторных.
Плох тот замполит, который вовремя не заметит, как вспыхнут на линии сигналы: «Тревога!» Вконец захандривший подводник – да разве только подводник! – можно ли на такого положиться? Не допустит ли он по рассеянности роковой ошибки? Невнимательность на лодке – слишком дорого может обойтись она людям.
У замполита появились заботы. Таясь ото всех, обходит он с комсоргом перед походом квартиры подводников. В руках у них чемоданчики.
Здесь запишет голос сына трюмного. Там – поздравление жены механика: в походе ему «стукнет» двадцать пять. В третьей пятилетняя дочь торпедиста, волнуясь и запинаясь, прочтет «дядям» стихи о коварном Сером Волке…
Столь же таинственно их возвращение на лодку. Чемоданчики прячутся в надежное, скрытое от глаз непосвященных место. Они – самое секретное оружие замполита. Самое действенное и безотказное.
И когда где-нибудь у пролива Дрейка или у полюса после вахты торпедист вдруг услышит по корабельной трансляции: «Папочка-а-а! Мы тебя любим и ждем… Сейчас я прочту тебе стихи…» – когда человек, намертво истосковавшийся по дому, вдруг услышит такое, расстояния становятся относительными, а «запас прочности» как будто и не расходовался за месяцы похода.
Когда в динамиках появляются голоса жен, люди замолкают. Не перебрасываются шутками. Это – свято…
Трансляция – не вечна. Но эхо этих голосов не гаснет в отсеках. Ни сразу. Ни через сутки. Никто не в силах прервать непрекращающийся разговор, начатый при всех и продолжающийся теперь уже в тишине кают…
По всей планете на закованных в лед арктических островах и на раскаленных мысах далеких южных морей, на серых утесах Атлантики и белых атоллах Тихого океана стоят памятники тем, кто уходил навстречу штормам и неизвестности.
Но еще нигде нет памятника Женщине, которая ждала.
Ждала, когда сходила с ума от неизвестности и тоски. Когда годами не приходили письма. Когда после всех мыслимых сроков в черных портовых и штабных книгах появлялись безнадежные строки: «Пропали без вести».
Она не верила ни официальным сообщениям, ни очевидцам, ни рассказам сердобольных спасшихся друзей. Упрямое «а вдруг…» не могло, вопреки всякой логике разума, умереть в ее сердце. Ее веру называли «слепой», бессмысленной, но в ней часто оказывалось больше зоркости и смысла, чем у людей самых рассудительных.
Чувство, ни на чем не основанное, кроме любви. Что из того, что кругом простирался огромный мир, с тысячами, миллионами прекрасных людей, мелодий, красок. Что этот мир манил, звал, требовал дани: молодость не возвращается, и каждый прожитый день – часть отпущенного тебе короткого века. Для нее Вселенная замыкалась на одном человеке, и что толку от тысяч галактик, если все они – мертвые, холодные звезды. А та, единственно теплая голубая звезда, может быть, все-таки назло всему еще сверкнет из тумана.
Скольких спасло от гибели, беды, душевного надлома такое ожидание. Недоступное пониманию унылых скептиков, нищих, источенных, как старое корабельное дерево, душ. Человек, находящийся на грани отчаяния, не раз находил силы в чувстве, поднявшемся в эти мгновения из глубин, сверкнувшем ослепительно-ярко, как молния в ночи. Полузабытые ласки, блеск радуги на ресницах, теплота губ на рассвете, шелест колдовских слов под июльским ливнем, слезы, как удар ножа, и улыбка, как музыка. Тысячи граней Ее, трансформирующихся вдруг в отчаянную решимость выжить во что бы то ни стало, даже если летящая на тебя волна как приговор и человек кажется ничтожной песчинкой, которую через мгновение-другое сметет океан.
Но сдаться – значит погасить зовущий образ, отречься от него. А это невозможно, даже если ревет небо и разъяренный тайфун разметывает и моря, и тучи, и твердь. Человек должен выстоять. Не предать Ее веру в ожидание.
Если поражение неизбежно – это уже не его вина. Но тогда он чист перед ней: не сдался преждевременно, дошел до последней черты. Не все снова увидят родную гавань, но тот, кто возвратится, поборов ад, этим возвращением обязан не только шлюпке с поспешившего на помощь судна или случайной волне, швырнувшей его на берег. Он никогда не забудет, что собрало в кулак его волю в ту отчаянную минуту, когда все, казалось, рушилось безнадежно и окоченевшие руки отказывались двигаться.
К тому же моряки хорошо знают это, вернуться – это еще не значит встать в строй. Те, кого не дождались, сходят с круга на земле не реже, чем гибнут в море суда.
Ей, ждущей на берегу, бывает оскорбительно-тяжело, когда кто-то, двусмысленно скривив опытные губы, бросает слово «морячка». Кто-то когда-то не дождался. Другим платить за эти грехи, чаще всего существующие в воображении тех, кто к племени морячек не принадлежит, но грешит на берегу много и охотно. Настоящему вору всегда легче скрыться, если он, указав на случайного прохожего, закричит: «Держи вора!»
Этих «кто-то» не больше и не меньше, чем в других сферах бытия. Только им – морячкам – труднее, чем миллионам женщин мира. Кто видит мужей за обедом и ужином, ходит с ними в кино и театры, может каждую минуту снять трубку телефона, чтобы услышать его голос.
Этим женщинам невдомек, что такое ледяные ночи зимы, когда радио передает, как в том или другом океане появились тайфуны с нежными женскими именами. Морячка знает: после какой-нибудь «Камиллы» или «Марианны» сотни таких, как она, станут вдовами.
Для них – жен «сухопутных» – экзотикой, щемящей сердце, кажется модная песня:
Любить человека с отважной душою,
Встречать и опять провожать.
Сегодня вернется и завтра вернется,
А вот послезавтра – как знать?..
Морячки не выдерживают: выключают приемник. Жены космонавтов, летчиков, полярников их поймут.
5
Утром городок цветами, любовью, с широкой морской щедростью встречал Гагарина, а вечером провожал его в море.
На лодку он пришел с командующим флотом адмиралом Лобовым и секретарем ЦК комсомола.
Уверенно спустился по вертикальному трапу, как будто занимался этим ежедневно, и, окинув взглядом центральный пост, весело бросил:
– Почти как дома – в космическом корабле. Только у вас попросторнее. Да и приборов у вас, пожалуй, побольше. А так – родная атмосфера.
И, шагнув к дежурному матросу, протянул руку:
– Давайте знакомиться. Гагарин. Юрий.
Внутреннее напряжение как-то сразу растворилось. Судя по всему, он был «своим», а значит, и не нужно было играть в показное гостеприимство, быть напряженным, неестественным.
Командир раскрыл свою каюту.
– Здесь вам будет удобно, Юрий Алексеевич?
– А чья это каюта?
– Моя.
– Не пойдет. Командир – главный бог на лодке. Не годится, чтобы бог был низвергнут с Олимпа.
– У нас Олимп довольно большой. Все поместимся. Я отлично устроился по соседству. У старпома.
Гагарин недоверчиво хмыкнул:
– Обманываете честную девушку? Можно посмотреть?
– Конечно.
Он придирчиво осмотрел каюту старпома и, кажется, не нашел в ней заметной разницы с командирской.
– Так я вас действительно не стесню?
– Конечно нет.
– Ну тогда добро… Я вам не буду мешать. Просто постою рядом, посмотрю, послушаю…
– Милости просим.
Он расположился в центральном отсеке. Худенький, небольшой. Одетый в такую же рабочую робу, как и все подводники. Офицерская пилотка необыкновенно шла ему, ярко оттеняя светлые волосы.
– Срочное погружение!
Цистерны мгновенно приняли забортную воду, и лодка начала проваливаться в глубину.
– Как самочувствие, Юрий Алексеевич?
– Нормально. Что-то похоже на полет.
Глаза его следили за стрелкой глубиномера.
– Это рабочая глубина?
– В зависимости от задачи. Ходим и глубже…
6
База жила ожиданием удивительных событий. В городе никто толком ничего не знал. Но чувствовалось: готовится что-то из ряда вон выходящее.
Командир не видит всех, но знает, что происходит в каждом уголке лодки.
– Все готово? – Руководитель похода адмирал Петелин озабочен.
– Можете проверить…
– Зачем будоражить людей – и так каждый напряжен до предела.
Настороженно посматривает на приборы инженер-капитан второго ранга Рюрик Александрович Тимофеев. Весь внимание – вахтенный рулевой у репитера гирокомпаса. Радиометристы застыли у экрана локатора. Гидроакустик старшина первой статьи Красовский в сотый раз перепроверил свое хозяйство: от него слишком много зависит в этом походе.
Старший помощник подошел к командиру:
– Лодка к походу и погружению готова!
Звонки заменили команды: отдать кормовой, отдать носовой!
– Руль – лево на борт!
– Малый назад!..
Они не думали тогда об этом, но атомная лодка «Ленинский комсомол» уходила в бессмертие. Первый советский подводный атомоход шел к полюсу.
Иные малосведущие люди могли сказать: ну и что же в этом особенного? Подходит лодка к полюсу, командир находит полынью и – всплытие. Но подводники-то знали, что это не так: у американцев трижды срывалась сама попытка пройти под полюсом. Трижды! Хотя американские моряки выбрали и облегченную обстановку и наиболее благоприятное для всплытия время года.
Перед Жильцовым и Петелиным стояла иная задача: пройти под полюсом, всплыть в тех ледовых условиях, которые там на данную минуту окажутся.
Да и выбрать нужное место для всплытия совсем нелегко. Для этого нужны и мастерство всего экипажа, и незаурядное мужество. Ведь шли непроторенным путем, и никто не мог подсказать, какие опасности встретятся на пути…
Жильцов чувствовал на себе испытующие взгляды команды: спокоен ли?
Жильцов и Петелин отчетливо представляли себе, что им предстоит сделать. Недаром ведь командир американской подводной лодки, «Скейт» Джеймс Калверт записал в дневнике во время похода к полюсу:
«Сидя в одиночестве в своей каюте, я не мог прогнать из головы мысль о том, что с каждым оборотом винтов мы уходим все дальше и дальше от безопасного района. Далеко ли мы ушли от кромки льда? Успеем ли мы, если произойдет какая-нибудь неприятность, возвратиться к открытой воде до того момента, когда жизнь в стальном корпусе окажется уже невозможной? Я твердо решил выбросить эти мысли из головы. И все же, несмотря на огромные усилия не думать об этом, я вынужден был сознаться себе в том, в чем не признался бы никому другому. Я боялся… Как бы ни были велики мои сомнения и страх, я мог признаться в этом только себе. Я ни в коем случае не должен выказывать их на людях…»
Пассажир в вагоне никогда не привыкнет к своему купе. Он знает: это кратковременное жилище. На день-два. От силы – на неделю. Самый длинный путь в стране – от Москвы до Владивостока – поезд проходит за восемь суток. Попутчики помогают скоротать время. Ожидание рассчитано по часам. Минуты обозначены расписанием. Сроки известны заранее.
Для подводника его каюта – дом. Каюта, так похожая на купе экспресса дальнего следования, не изменится ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Все знакомо до мелочей – от узора на полированной поверхности столика до выключателя. В купе поезда можно часами смотреть в окно: картины чередуются мгновенно, как кадры занимательной кинохроники. Поля сменяются скалами. Скалы – лесом. Могучие реки – тихими осенними перелесками, еще спящими на заре озерами. Заглядывает в окно и палящее в золотой короне солнце, и звенящие в холодной ночи звезды.
В каюте подводника нет окна. Там, где его с непривычки ищет новичок, – полочка для книг, полировка с прикнопленной фотографией, схваченный цепкими зажимами графин с водой.
Сухопутные любители морской романтики, попадая на лодку, удивлены. «Айвазовский», – боцман суммирует в этом слове все зрительно-морское, – здесь не проходит». Даже по стенам кают-компании разбрелись в тихом раздумье орловские или подмосковные березки.
Человек живет здесь не день, два, неделю. Каюта принимает его надолго. И еще неизвестно, где более дом – на берегу или здесь. Роли купе и квартиры в городе меняются. Купе-каюте, по выражению того же боцмана, «принадлежит контрольный пакет акций» над психикой и настроением подводника. В море он дома. На берегу – гость.
И пока – в кажущиеся сейчас уже далекими времена – плавание составляло от силы месяц, проблема каюты-дома, дома-корабля занимала морскую науку менее всего. В лучшем случае думали об элементарных удобствах быта. Теперь слово «быт» трансформировалось. Лодкам потребовались профессии психологов, художников, человековедов. Пока все эти профессии совмещают командир и замполит. Но им приходится думать еще о тысячах иных, не менее, если не более, важных вещей. Хотя проблема психологического состояния экипажа в длительном походе без всплытия – проблема, относящаяся и к боеспособности корабля.
И люди ищут, думают, экспериментируют.
Березки в кают-компании – не случайность. В многомесячном плавании человек тоскует, больше по березам, чем по морю в бурю. Даже если оно написано кистью Айвазовского.
У Жильцова в каюте несколько любимых книг. Блок, Светлов, Уилсон на английском. В изголовье койки – карточка жены.
Про моряков когда-то пустили сплетню об их легкомысленной неверности. Любви настоящего моряка можно позавидовать. Походы и разлуки концентрируют чувство. У человека есть достаточно времени, чтобы продумать и взвесить все «за» и «против». Проверить и себя и ту, что осталась на берегу. Кто-то подсчитал: число разводов у моряков – наименьшее среди других профессий.
Каюта – она и кабинет, и библиотека, и спальня, и гостиная. Все в ней – и счастье победы, бессонные ночи, раздумья, тоска, отчаянные решения, идеи завтрашних походов. Сюда не донесется шум улицы. Не прогрохочет машина. Только скрежет льда или тихий шелест подводных вихрей проникает сквозь сталь.
Гидроакустики – те богаче музыкой моря: и дельфиний писк, и ход косяков пикши, и гул винтов – их владетельный мир. Каюта лишена и этих мелодий шумящего где-то далеко наверху огромного мира.
Тишина здесь – и благо и проклятие.
Чем душевно богаче человек, тем больше незримых волн уходит сквозь толщу океана в тот далекий, с пением птиц и облаками в небе, мир. Связь эта двусторонняя: от берега в каюту идут иные волны. Передачи на этих волнах не могут засечь никакие пеленгаторы мира.
Часть океана, часть его души и часть блистающего под солнцем мира – маленькая каюта подводника.
Человек все дальше уходит в глубины. Еще неизвестные нам чудища удивленно следят за появлением в их суверенных державах гигантских стальных дельфинов. Каюта подводника становится каютой гидронавта. Время провожания и встречи – как прыжок в неизвестность. И кто знает, созвездия каких наук зажжет будущее в маленьком купе мощной субмарины, атакующей черные дали океана.
– А вы знаете, как первый командир Жильцова учил, в самостоятельный поход готовил? Сам наблюдал…
В кают-компании стало тихо. Историю первого старпома, а потом и командира первой атомной знали лишь по глухим и туманным сведениям.
– Первая атомная… – Петелин вздохнул, и все заулыбались: словно молодость адмирал вспомнил. – Первая атомная. Понимаете, какая ответственность лежала на командире. Можно сказать, всю судьбу атомного флота, темпы его развития в руках своих держал. Случись что на первенце – всю серию приостановят. Пока не выяснят, что к чему и как все это получилось.
Так вот у первого командира был свой взгляд на вещи. Он считал, что лучший способ научить человека плавать – это бросить его в воду. И в самой критической ситуации иногда так спокойно, не повышая голоса, вдруг бросал Жильцову: «Лев Михайлович. Представь, что сейчас война. Меня убили. Меня нет. Действуй!» И сколько ни вглядывайся в его лицо – ни черта не поймешь: доволен он или взбешен. Завершит лодка маневр, снова возьмет командир бразды правления в свои руки. А когда-нибудь вечерком пригласит к себе: «Пойдем, раз беремся в твоих сегодняшних художествах».
Сам видел – подолгу сидели.