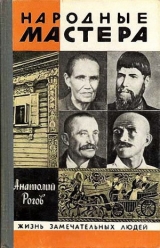
Текст книги "Народные мастера"
Автор книги: Анатолий Рогов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
11
На тихой, в основном деревянной улице Труда этот дом из серого кирпича самый высокий – четыре этажа.
Первый наполнен прохладным духом разведенного мела, выше застоялись запахи сырой теплой глины и темперы. Душновато, форточки и окна здесь не отворяются, «чтобы не потянуло фигурки». В каждой комнате не более двух-трех столов, окна большие, света полно. У стен занавешенные цветными ситцами и холстами полки с сохнущими, с белеными и готовыми работами. Много цветов. Одна комната расписана веселыми орнаментами. В другой много книг по искусству. Есть завешенная интересными этюдами. Есть украшенная оригинальнейшими дымковскими ажурными настенными тарелками, вазочками и барельефами, которых не увидишь ни в каких магазинах и ни на каких выставках. Есть свой небольшой музей, или, как здесь говорят, кабинет образцов. Есть цех обжига, где стоят электрические муфельные печи, и среди них несколько собственной конструкции. Специальный человек в специальной комнате занимается побелкой. В подвале работает механическая глиномешалка, а готовая глина подается наверх лифтоподъемником. И работы путешествуют с этажа на этаж в этом лифтоподъемнике.
Сочно постукивают деревянные лопаточки, большие объемы обязательно выравнивают особыми лопаточками. Слышна негромкая музыка – где-то включено радио. Всплески голосов.
Третья комната позади… Пятая…
Теперь в мастерской уже около шестидесяти художниц, но ее признанный творческий авангард – пришедшие в пятьдесят девятом. Тогда, вернее, годом раньше, мастерская переехала из Дымкова в Киров и получила в этом самом здании на улице Труда первое собственное помещение, сначала, правда, всего две комнаты. И Союз художников решил организовать в них уже самое настоящее ученичество. К экзаменам были допущены сто человек, а приняты двадцать самых способных. И показательно, что кировчанок среди них было только четыре. Остальные из деревень и даже соседних областей. И вчерашних школьниц было только четыре, а все остальные старше, все имели профессии, работали, были даже участницы войны. Кто же мог решиться на такой крутой поворот в жизни в зрелом возрасте? Только те, кто в глубине души всегда чувствовал себя художником, всегда искал средств самовыражения и, главное, любил «дымку» так, как любят лишь мечту.
Сейчас их осталось двенадцать, и почти все они члены Союза художников, их работы есть в знаменитых музеях, они основные участницы международных и отечественных выставок, у некоторых были уже и персональные. И вот на выставках-то, когда новых работ очень много, хорошо видно, как продолжает расширяться круг тем, разрабатываемых в «дымке». Почти все, что было и есть на свете отрадного, доброго и веселого, – все это находит в ней отражение. Произведения становятся все сложнее по трактовке персонажей, по декоративному убранству и росписи, которую делают теперь только темперой – она не выцветает, а анилиновые краски выцветали. Намного больше встречается и крупных вещей, до полуметра. Да, это совсем особая декоративная скульптура.
…И еще одна комната мастерской – в сплошных полках от пола до потолка, которые настолько тесно заставлены работами, что некоторые даже лежат друг на друге. И в углу за дверью стоят какие-то крупные вещи, обернутые и прикрытые бумагой.
Ни у кого в мастерской нет столько работ. Причем в основном жанровых: коровы на поскотине, старики беседуют у прясла, на котором расселись цыплята, пастушок на дереве играет на рожке, жнитво, парочки у кустов, ребятишки на большой печи слушают учительницу, читающую им книжку, петух, идущий по развешенному на жерди чистому белью, мужики с возами… Почти вся недавняя деревенская жизнь представлена в этом своеобразном скульптурном повествовании. Представлена очень поэтично и влюбленно, с массой точных, трогательно-задушевных деталей, которые мог подметить лишь большой художник, глубоко чувствующий все очарование и красоту этой жизни. В избе под лавочкой например, замечаешь в плетеной корзине только что народившихся кроликов… Девица на посиделках ради фасона красивое полотенце на руку повесила… А один пирог на обеденном столе уже надкусан… И все это ведь капельное, условно-декоративное… Великолепно передает автор и характеры персонажей: они именно вятские – все кряжистые, крепкие, широколицые, хитровато-простодушные и очень симпатичные. И цветовой строй всей композиции можно назвать очень вятским, потому что при обычной дымковской мажорности тут все же преобладают мягкие зелено-желтые и светло-голубые краски здешней земли.
Всего в цикле около двадцати разных жанровых сцен и фигур, и называется он «Деревенька моя «Колхозница».
Есть на этих тесно загроможденных полках и второй огромный цикл «Вятские торговые ряды», многофигурные «Дымковская свадьба» и «Богатыри», есть несчетное количество работ поменьше – и каждая тоже покоряет своей многогранной жанровостью, задушевной теплотой.
А их автор, Лидия Сергеевна Фалалеева, тоже пришла сюда в пятьдесят девятом. В Фалалеевой все какое-то утонченное, интеллигентное: лепка лица, вздернутый нос, гибкие кисти рук, очень выразительные тепло-зеленые глаза с крупными, красиво очерченными верхними веками. Будто из какой-то глубины глядит на тебя человек, с большим любопытством и теплотой глядит. Но работу ни на секунду не оставляет уж который час подряд. И каждое прикосновение к глине тоже на лице отражается. Вся как клокочущий огонь… Одета в отличное красное платье, красиво причесана. Полуговорит, полупоет – мягко, по-вятски. Обо всем у нее свое оригинальное суждение, ко всему припасена своя история или присказка.
– И чё? Ни чё? Тёпала каждый день за восемь километров в школу, а там учительница нас зимой сразу на печку, чтоб отогревались, и книжку нам читает… Счас вспомню и не могу… – Она улыбается глазами, полными слез. – Дудинцы наша деревня называется, шестьдесят пять километров от Кирова. Мать Шаляпина из этой деревни… Теперь всё, что леплю, – все оттуда. Двадцать лет уж как уехала, а все тянет и тянет. Поскотину во сне вижу. Знаете, что такое поскотина-то? Жнитво вижу. Белье на пряслах. Почему-то петухи обязательно должны вскочить и пройтись по такому чистому белью. Ну обязательно! Сколько ни следи – не уследишь… В общем, душа моя полутам, полутут, – полусказала, полуспела это. – И сына Андрейку деревней заразила, ездит…
За окном, внизу, во дворе, за старой березой стоял темно-серый двухэтажный деревянный дом. За домом в купах неподвижной зелени виднелись разноцветные крыши, а дальше – светлые пятиэтажки, которые казались исполинами. Было тихо. Так гулко тихо, как бывает только в предвечерний час, когда даже в помещении при закрытых окнах вдруг ясно услышишь, как на соседней улице прошуршит машина и где-то еще дальше из колонки в пустое ведро со звоном ударит вода. Светлые пятиэтажки на глазах порозовели, потом зазолотились, и следом все зазолотилось, налилось вечерним теплом, темно-серый дом как будто потаенно добро засветился, а береза невесомо поплыла куда-то в этом свете…
Было восемь. Рабочий день кончился два часа назад, но лопаточки все сочно постукивали, хотя и реже. Громче звучало радио.
– Это вот Рая Казакова стучит, а радио у Кузминых и Смирновой… И в субботу они здесь, бывает, и в воскресенье… И чё? Ни чё!..
По радио запели «Дроздов», и низковатый женский голос неподалеку, в этом же здании, подхватил их. Не в унисон прекрасному тенору, а только вторил ему. В голосе этом не было никакой красоты, что-то он выводил даже не в той тональности, а временами и вовсе глох, но глох явно от волнения, от полноты чувств, захлестнувших человека. Человек жил этой песней:
Для души поют,
А не для славы…
Потом несколько минут висела тишина. Небо за окнами гасло, бледнело. В другом конце мастерской озорно зачастили:
Гуси-лебеди летели,
В поле банюшку доспели —
Коростель полок мостил,
Таракан дрова рубил,
Комар воду возил…
И пошло! И пошло! То за стеной песня, то еле слышная внизу. Как перекличка. И смех.
А лопаточки-то все постукивали, постукивали…
Фалалеева тоже спела два куплета из своей любимой про деревеньку-колхозницу.
– Я даже думаю, что какие-то припевки и частушки Анна Афанасьевна Мезрина сама сочиняла. И Косс вон сочиняла… Потому что музыка, песня, в самой природе дымковских вещей. Если кто ее не слышит, никогда лепить не сможет…
И сразу вспомнилось, как красиво, как нарядно они здесь все одеты. И как красиво и нарядно у них в комнатах. И главное, в какую ни войдешь – везде шутки, улыбки, везде какое-то приподнятое настроение, будто люди не на работе, а на празднике. Это так бросается в глаза, что начинаешь лихорадочно вспоминать, какое сегодня число, может, ж вправду забыл какой-нибудь праздник?.. Но потом понимаешь, что в ином настроении, или, скажем, мрачный, злой по природе человек такую скульптуру вообще не сделает. Значит, душу тут нужно иметь не только полыхающую, но и светлую-светлую, и радостную. С такой душой или рождаются, или «дымка» сама постепенно ее в человеке формирует. И к постоянной собранности приучает. И к красоте. Писатель Всеволод Лебедев еще на мезринских работах это подметил: ее кукла, мол, так «блестит и светит, что при ней, при этой кукле, в разговоре слово бранное побоишься сказать, ведь за стеклом она – красавица, сделанная рукой деревенской старухи, – стоит, как гостья, и держись при ней чище и прямее».
12
Люди старшего и среднего возраста помнят: заходишь в пятидесятые годы в любой художественный магазин, и на полках обязательно стоит «дымка». Большая и маленькая. Много ее стояло, хотя покупатели были всегда. А к середине шестидесятых годов она появлялась в тех же магазинах уже только от случая к случаю. И наконец, словно исчезла совсем. Везде, по всей стране, начиная с известного московского художественного салона на Октябрьской площади и кончая самим городом Кировом. В тамошних магазинах ее тоже теперь почти не бывает. Спрашиваешь у продавщиц:
– Вы что, «дымку» совсем не получаете?
– Даже больше, чем прежде, получаем.
– ??!
– Только теперь мгновенно выстраивается очередь, через час, через два ничего не остается. Ни на что больше нет такого спроса, хотя некоторые дымковские работы стоят уже до тридцати-пятидесяти рублей – огромные индюки, например. И каждый день сотни одних и тех же вопросов: «Нет ли «дымки»?» «Когда ждете?»
Ныне изображения дымковских красавиц, парней и мужичков, коней, индюков и скоморохов все чаще и чаше встречаются в печатной рекламе, в эмблемах, на тканях на предметах ширпотреба. В том числе и за рубежом, где интерес и любовь к «дымке» тоже растет, что называется, не по дням, а по часам… А выставки! Люди даже зимой, в мороз часами выстаивают в очередях, чтобы только попасть на них.
Вот бы Анне Афанасьевне увидеть это! Увидеть толпы зачарованных посетителей у стендов с творениями Зои Васильевны Пенкиной или Лидии Сергеевны Фалалеевой, или Валентины Петровны Племянниковой. Увидеть бы и работы всех других… Чувства Анны Афанасьевны в этот момент можно себе представить. И реакцию можно представить: ликовала бы. Ох как ликовала бы!.. А вот о чем бы она думала, что вспоминала? Может, вспоминала бы, как десятки лет одна-одинешенька лепила в Дымкове глиняные игрушки, как все уговаривали ее перейти на гипс, а она сердилась… Или, может, вспоминала бы, как любила лубочные картинки и хотела, чтобы ее игрушки были такие же веселые и яркие… Или про то, как Алексей Иванович первый понял, почему она не бросает глиняную игрушку… И уж что бы Анна Афанасьевна сделала обязательно на нынешней выставке – это спела. Поулыбалась бы и негромко завела:
А кому песня вынется,
Тому и достанется.
А сбудется – не минуется.
На житье, на бытье,
На богачество…
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЕТЛОЯРУ
1
Существует несколько рукописных «Книг, глаголемых летописец», в которых рассказывается о легендарном граде Китеже.
Начинаются они с псковского великого князя Георгия Всеволодовича, который строил «грады» не только в родном Пскове, но и в Великом Новгороде, в Москве, Переславле-Залесском, Ростове, Ярославле. А в 1164 году основал на Волге город Малый Китеж, и то ли сразу, то ли позже – из текстов это непонятно, «князь Георгий поеха с места того сухим путем, а не по воде, и перееха реку Узолу, и вторую реку перееха именем Санду, и третью реку именем Саногту, и четвертую перееха именем Кержанец и приеха к озеру именем Светлояру. И видя место то велми прекрасно и многолюдно, повеле благоверный князь Георгий Всеволодович строит на брегу озера того Светлояра град именем Большой Китеж, бо место то велми прекрасно и на другом же брезе езера того роща дубовая…».
Сам же князь в эти годы, согласно «Летописцу», уехал «впрежреченный свой Псков град».
Но тут нахлынули Батыевы полчища. Георгий пошел против них со своим войском. «И много брася благоверный князь Георгий с нечестивым царем Батыем, не пущаша его во град свой. Егда же бысть нощь, тогда благоверный князь Георгий изыди тайно из града того в большой град Китеж», до которого, надо заметить, целых сто верст.
Наутро Батый ворвался в Малый Китеж и стал пытать людей, чтобы узнать, куда скрылся князь. Один из пытаемых, Гришка Кутерьма, «немогий мук терпеть поведа ему путь, той же нечестивый гнаша вслед его и егде прииде ко граду тому, нападе на град той со множеством вой своих и взя той град Больший Китеж, что на берегу езера Светлояра и уби благоверного князя Георгия. И после разорения того запустеша грады те Малый Китеж, что на берегу Волги стоит. Большой же, что на брегу езера Светлояра, и не видим будет Большой Китеж…».
Ученые считают, что абсолютно правдиво в рукописи лишь то что касается Малого Китежа – нынешнего Городца. Он действительно так назывался, действительно был дважды дотла сожжен татарами, «бысть невидим», и, подобно сказочной птице Феникс, дважды воскресал из пепла. Причем всякий раз становился краше, чем прежде. И еще одно важное открытие сделали ученые: родилась «Китежская легенда» в семнадцатом веке и именно в Городецкой округе. А озеро Светлояр «привязано» к сказанию потому, что оно еще с языческих времен считалось священным и праздновать Иванов день к нему ежегодно сходились десятки тысяч людей из ближних и очень дальних мест.
А вот в устных вариантах той же легенды вся история носит совершенно иной смысл.
Во-первых, сообщалось, что Большой Китеж был несказанной красоты и что Батый, перебив горстку княжеских воинов, приказал спалить город дотла, чтобы и памяти о нем не осталось. Но приказ этот вышел вечером, и исполнение его перенесли на утро. А утром никакого города на берегу Светлояра не оказалось, одно лишь пустое место да стена седых елей. Под покровом ночи Китеж опустился на дно озера и тем спасся от разорения и огня. Перепуганный таким чудом Батый поспешил убраться с этого места. Для русских же оно стало святым, и с той поры они идут и идут к Светлояру со всех концов, особенно в Иванов день, так как именно в этот день будто бы дивный город чаще всего и проглядывается в чистой, но удивительно темной, почти черной воде озера. А некоторые не только видели, но даже вроде бы и тихий звон его колоколов слышали…
И чем дальше был семнадцатый век, тем красочней, поэтичней и популярней становилась именно эта, устная, легенда. В ней расписывались уже и китежские дома один причудливей другого, и въездные ворота, на которых словно живые лежали деревянные улыбчивые львы с цветами на кончиках хвостов, и церкви из точеного белого камня…
В Заволжье эту легенду знал буквально каждый.
А в Городце даже говорили, что подобное случилось сразу с обоими Китежами, и показывали у древнего вала существующее и поныне Рязаново озерцо, в которое будто бы при нашествии татар тоже что-то сокрылось.
В народе считали, что Большой Китеж был неповторимым городом и что это сама русская земля так его спрятала, чтобы сохранить несказанную красоту и когда-нибудь снова открыть ее людям.
2
А позже, но в том же тринадцатом веке, Малый Китеж именовался уже Радиловом и был вотчиной великого князя Андрея – родного брата Александра Невского.
В 1247 году Александр и Андрей вместе ездили по вызову Батыя в Орду, и Андрей получил великое княжение во Владимире, но не удержался там: «Не мог так скоро, – пишет Костомаров, – изменить понятий и чувствований, свойственных прежнему русскому строю и шедших вразрез с потребностями новой политической жизни. Ему тяжело было сделаться рабом». Но другие князья не поддержали его сопротивления, и в 1252 году полчища татар под предводительством Неврюя наголову разбили рать Андрея под Переяславлем, и сам он еле спасся. Татары снова прошли по русской земле огнем и мечом. Великое княжение владимирское получил Александр. Знаменитый полководец, не проигравший ни одной битвы в своей жизни, он был, к счастью, и тонким, мудрым политиком, понимал, что Орду сейчас не одолеть, и воевал только Запад, а татар брал хитростью и лестью. Трижды ездил к великому хану, многое выторговал для русского народа, добился даже прощения для Андрея, который в 1256 году вернулся из изгнания и снова получил во владение Радилов и Нижний Новгород.
Но подошел год 1262-й. В города, как обычно, явились татарские откупщики дани, а народ взял и перебил их. Всех до единого перебил во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле, в других городах. В Орде немедленно собрали полки идти на Русь мстить. И Александр снова помчался туда, зиму и лето 1263 года положил на уговоры и лесть и отвратил беду, даже добился новых льгот. Но когда по осени возвращался назад, простудился, сильно занемог и остановился у брата Андрея в Радилове. Там был тогда Федоровский мужской монастырь, в одной из его келий он и лежал, и вечером 27 ноября скончался.
А в пятнадцатом веке в тех же кельях, может быть, даже рядом с Александровой, долго жил монах этого же монастыря «старец Прохор с Городца», как почтительно именует его летописец. Он был иконописцем и, переехав позже в Москву, стал учителем тогда еще совсем молодого Андрея Рублева. В 1405 году вместе с Феофаном Греком и Рублевым старец Прохор «начаша подписывати» Благовещенский собор в Кремле, то есть расписывал его. Треть уникальнейших фресок принадлежит там ему. Есть свидетельства, что и во Владимире он работал…
3
Берег Волги высок и крут, перерезан множеством оврагов, которые образовали несколько удобных бухт и заводей. В них с незапамятных времен с весны до поздней осени загоняли плоты со строевым лесом, шедшим с верховий Волги, с мелких заволжских рек и Камы. Лес складывали на белесом песочке в штабеля для просушки. А по осени, когда потемневшая Волга уже клубилась от морозов и по ней плыла шуга, в этих бухтах появлялись артели плотников. Начинался неумолчный перестук топоров и визг пил, и возле штабелей в считанные дни вырастали сначала каркасы будущих больших и маленьких судов, а где-нибудь к февралю– марту красовались уже и совсем готовые, только еще не крашенные ладьи, кербасы, учаны, буфти, расшивы, беляны, барки, паузки, мокшаны.
Чуть ли не половина всех судов, бегавших по Волге под разноцветными парусами и на веслах, испокон веку строилась здесь, под Городцом. И Петр Первый заложил тут одну из самых больших своих судоверфей. Вызывал мастеров и в Преображенское «для всякого резного и плотничьего дела». А более поздний хозяин той же верфи, граф Орлов, посылал их в Сибирь строить и там суда. Причем особенные, самые красивые на Руси, ибо у городецких мастеров было заведено: даже мелководную паузку и ту от носа до кормы они покрывали богатейшей глубокой резьбой. Иногда потом раскрашивали ее, иногда оставляли чистой. На карнизах кают, внутри кают, вдоль корпуса судна и особенно на носу и на корме на цельных толстых досках вырезали обычно пышные растительные орнаменты, в которые были затейливо вплетены разные звери или птицы, но чаще всего очень добродушно улыбчивые львы или русалки – Берегини.
Плотники-корпусники эту работу не делали. Ею занимались так называемые якуши – плотники-домовики жившие под Городцом в деревне Якушеве. Обратите внимание, «домовики» – это тоже местное выражение. То есть главной работой для них было не украшение судов, а строительство домов. Якуши возводили их по всей округе вплоть до Балахны, где начиналась уже вотчина других плотников, из села Никола-Погост.
В России за тысячелетнюю историю существовало много типов народного жилища: избы четырехстенные, пятистенные, двойные, шестистенные, двухэтажные, кошелем, это когда под одну огромную крышу вместе с жилыми убирались и все хозяйственные помещения. Такие избы возводились на Севере, они были очень большими, с множеством комнат, украшались нарядными рублеными и резными крыльцами, галереями, светелочными балкончиками, коньками, карнизами, наличниками, причелинами, дымниками. Совсем неукрашенные народные жилища встречались в России редко – только вовсе нищие, бобыльские.
И все-таки избы, которые ставили городецкие якуши и мужики из Никола-Погоста, совершенно особенные, и похожих нет не только в нашей стране, но, кажется, и в целом свете.
Они разукрашены резьбой еще больше, чем городецкие суда. Ну буквально ни одной детали нет неразузоренной, кроме самих бревен, конечно. А фронтон так вообще сплошь резной, и углы, и лобные доски, и ворота с собственными карнизиками, даже двери и калитки. И все это резьба не какая-нибудь там прорезная, а глубокая, полуобъемная, в которой богатейший затейливый узор из цветов и листьев сплетается с фигурами барышень, цапель, лис, осетров, драконов, собак, сказочных птиц Алконост и Сирин, и чаще всего опять же с улыбчивыми Берегинями и львами.
На первый взгляд эти деревянные существа могут показаться кому-то грубоватыми, топорными, примитивными. Кстати, именно так их и воспринимала долгие века вся «образованная публика». Но вот какое любопытное обстоятельство: человек, даже мельком увидевший этих львов и русалок, почему-то уже никогда не забывает их. Не забывает их совершенно человечьих круглых морд, их больших наивных глаз со зрачками-дырочками, их широченных носов и улыбающихся на пол-лица ртов-полумесяцев. Представить существ симпатичней, добродушней и приветливей этих очень трудно, а значит, образы созданы предельно выразительные и емкие. Причем самыми скупыми средствами. Не грубыми и примитивными, а именно скупыми и очень обобщенными, которые только и допустимы при обработке дерева, предназначенного украсить большие плоскости и формы. Ведь, во-первых, человек должен был замечать эту резьбу еще издали и уже оттуда любоваться ею. А во-вторых, ей на роду было написано леденеть от стужи и обильных снегов, мокнуть под долгими дождями, жариться под лучами палящего солнца. Это резчики тоже все учитывали.
Подобная резьба и сейчас еще встречается на кривых, ниспадающих к Волге улочках Городца. Совсем седая стала, вся текстура дерева наружу вылезла. Скользнет по ней луч солнца, или луны, или фонаря, и засветится она старинным благородным серебром, и лев как будто действительно улыбнется и заблестевшими глазами подмигнет…
Большинство специалистов считает, что сюда эти персонажи пришли из Суздаля, из Владимира и Юрьев-Кольского. Помните, там на белокаменных соборах двенадцатого-тринадцатого веков, и в первую очередь на Дмитриевском во Владимире, вырезаны из камня точно такие же львы, драконы, птицы. Сирины. Вот только русалок Берегинь нет… Но принцип резьбы по камню там почему-то очень уж плоскостной, очень похожий на резьбу на деревянных досках. То есть именно на такую, которая бытовала в Городце и во всей Нижегородской округе. А когда-то, еще до появления каменного зодчества на Руси, подобная же резьба была широко распространена по всем славянским землям, о чем не раз писали древние историки и путешественники. Епископ Марзебургский, например, еще в десятом веке побывал в славянском языческом городе Редигосте и видел там трое въездных ворот и храм, «искусно построенные из дерева». Стены этого храма были «украшены чудесной резьбой, представляющей образы богов и богинь». А автор жития Оттона Бамбергского, живший в начале двенадцатого века, описал священное здание (контину) славян в Щетине, наружные и внутренние стены которого были покрыты деревянными резными изображениями людей, птиц и зверей, представленных «столь верно и естественно, что казалось, они дышали и жили».
Так, может быть, путь чудо-зверей пролегал не со стен белокаменных соборов на мужицкие избы, а наоборот – с этих изб на соборы? Может быть, в Городце мы встречаем единственный отголосок некогда очень великого искусства русской домовой деревянной резьбы, из которой выросла и удивительная русская резьба по камню. Надо учесть ведь, что Суздалю, Владимиру и Юрьев-Польскому еще и здорово повезло: камень не горит, не гниет, трудно колется. Опять же не избы это были, не доски, а соборы прекрасные, все их берегли…
И таких пряничных досок, как в Городце, тоже мало где резали.
Пряники играли очень важную обрядовую роль в старой русской жизни. Были пряники свадебные, поминальные, подносимые в так называемое «прощеное воскресенье», в дни именин, в десятках других случаев. И потому печатные доски для них везде изготовлялись с особой старательностью и выдумкой. Но тут, в Городце, они как будто и не формы вовсе, а какие-то своеобразные деревянные картины, на которых с поразительной виртуозностью, одними лишь порезками-углублениями изображались то целые города (эти пряники назывались почетными и были до метра в длину), то бытовые сцены, то птицы, то персонажи из сказок, то кони, то орнаменты, то рыбы, то даже колесные пароходы, когда те появились на Волге. Изображений были сотни, и какая живая упругая пластика везде, как тонко все декорировано!
«Городецкие жители славились пряниками во всем Поволжье и Восточной России, в Пермской, Оренбургской губерниях и даже на Дону». До тридцати сортов расходилось их отсюда, и особенно широко медовые коврижки и фруктовые с мармеладом, которые паковали в двухфунтовые лубочные коробки.
Под боком у Городца, в деревнях, прильнувших к извилистой прозрачной речке Узоле, жили и знаменитые на всю Россию саночники и дужники. Существовала даже песня:
Ехал мальчик из Казани;
Городецки новы сани,
Семисотенный конь
С позолоченной дугой.
Эти дуги были очень красивы; хитро вызолоченные, они плюс к тому покрывались еще неглубокой резьбой и богато раскрашивались.
В тех же деревнях по Узоле делались и единственные в своем роде прялочные донца.
На Руси было два вида прялок: копылы, которые вырубали из целых еловых и сосновых пней, образующих естественный угол с основанием и торчащей вертикальной лопастью, и донечных. Донце – это доски со специальными головками-гнездами на концах. На сами донца пряхи садились, а в головки вставляли большие деревянные гребни, на них надевали кудель, которую и сучили, наматывая нитки на веретено. В копылах же кудель надевалась прямо на лопасть, а садились на основание. Женщины в старину в деревне пряли все поголовно, начиная с ранних девчоночьих лет. Пряли зимой ежедневно, по многу часов подряд и дома, и в какой-нибудь большой избе на общих вечерах-супрядках под треск лучин, под песни, а то и под треньканье балалаек – парни специально приходили на супрядки скрашивать девчатам эту монотонную работу.
Одевалась-то деревня тогда в основном в домотканые холсты – сколько же надо было наготовить для них ниток. Прялка у каждой женщины и каждой девчушки была своя, а то и не одна – и все дареные. Существовал такой обычай: мужчины обязательно дарили женщинам прялки; отец – дочерям, жених – невесте, муж – жене. Это был один из символических и самых почитаемых подарков на Руси. И чем прялка выглядела нарядней, чем искусней была резана или расписана, тем больше чести и уважения самой пряхе, ее семье. Невесты непременно носили их на супрядки и там каждую всенародно разглядывали и обсуждали. А дома гребень вынимали и донце вешали на стену заместо картины. Поэтому ни в одну обиходную вещь русские мастера не вкладывали столько фантазии, вкуса и мастерства, сколько в прялки, – хоть для себя работали, хоть на продажу. Да некрасивую ведь еще и не купят… Мало губернии, даже отдельные волости и села имели подчас свои, совершенно неповторимые по обличию прялки. То большая лопатообразная лопасть покрыта замысловатой геометрической резьбой, то у головки ручка в виде коня и тоже в узоре, то прялка похожа на башенку с сотнями сквозных окошек, то она в огромных ярких резных-расписных цветах, то вся ажурная, точно кружево, то смахивает по силуэту на лебедя… Перечислить все невозможно, как невозможно и передать, до чего все это ошеломляюще разнообразно по формам и узорам, до чего стройно, соразмерение и целесообразно, декоративно, нарядно и жизнерадостно.
Но Городец и здесь наособицу: тут делали единственные в России инкрустированные донца.
Изображали на них барынь в каретах с лакеями на запятках, генералов на конях, охотников с собаками, прогулки, птиц, на головках непременно еще одну птицу с хохолком-коронкой и еще одного коня. Вернее, удивительного конька, у которого такой горделивый вид и такой легкий, неудержимый полет, что он воспринимается как символ мечты. Самый яркий символ, который только можно вообразить.
Делали их так. Вылавливали в заводях Узолы дубовые топляки, то есть мореный дуб. Сушили его, кололи на тонкие пластины, и из них вырезали почти прямоугольное тулово коня с сильной, гордо изогнутой шеей и маленькой чуткой головой. Под этот силуэт вырезали на чистом осиновом донце углубление и сажали его туда. Клеем не пользовались, сверлили насквозь через дуб и осину отверстие и загоняли шпоны, тоже черного дерева: на месте глаз, там, где сбруя должна идти, там, где хвост вяжется, где копыта. И получалось, что и резьбы еще никакой нет, и ног у коня нет, и гривы, и хвоста, а все равно он уже бляшками на подпруге играет и глазом выпуклым косит. Потом мастер лихими овальными порезами соединит шпонки, копытца с туловищем, ноги сделает, от последней шпонки изогнет по доске пружинистый хвост, по шее пустит летящие штришки – гриву, и, смотришь, как будто срослись сосна и черный дуб, как будто всегда были одним целым – изображением неудержимого поэтичного коня. И то, что он снизу чуточку выступает, кажется тоже естественным, словно это нарост…
Конь – фигура в искусстве стародавняя и после человека, пожалуй, самая популярная. Говорят, это наследие языческих времен, когда наши пращуры верили, что иногда солнце ездит на коне, а иногда принимает его облик. У этого божества было даже свое имя – Вязима. А добрее солнца и важнее его человек ничего не знал. И он думал и верил, если нарисовать солнце в виде желтого или красного круга, или цветка, или коня и если иметь их всегда рядом, то они охранят его от бед и несчастий, принесут достаток и радость в дом. Может, именно тогда, давно-давно, люди и говорили «в кобылью голову счастье», и вешали на крышах изб настоящие конские черепа. А потом заменили их охлупнями – деревянными конями – навершиями, вытесанными из комлей деревьев. Потом резными коньками. А в быту стали изображать коней на полотенцах, на детских люльках, на всем, сделали их главной игрушкой. И у скифов их находят – каменных, костяных.








