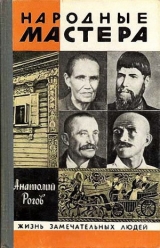
Текст книги "Народные мастера"
Автор книги: Анатолий Рогов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
13
Секретарь палехской ячейки товарищ Качалов докладывал на собрании артели:
– Колхоз «Красный Палех» позорит весь район. Рабочих рук не хватает. Колхоз скоро попадет в прорыв. Художники устраивают воскресники, но это не выход. У артели свой промфинплан, который нужно выполнить…
Думали, как помочь колхозу, но если бы не Николай Зиновьев, так бы ничего и не придумали.
Невысокий, ладный, улыбчивый умница Николай Зиновьев жил в двух верстах от Палеха в тихой красивой деревушке Дагилево. Иконописцем был когда-то изрядным, работал в Москве в мастерский Оловяшниковых, а потом долго крестьянствовал и в артель записался позже многих. Заглазно его звали мыслителем. Была у человека такая страсть: все обстоятельно обдумывать и обсуждать. Так же подходил он и к миниатюре. Теперь вот уже два месяца сиднем сидел в своем тихом уединении и изображал на большом чернильном приборе всю историю земли: тринадцать предметов с картинами.
«Я пишу на нем от происхождения земли до наших дней, начиная с туманностей до нашего строительства, все периоды. Эта тема очень сложна… Не знаю, как на эту затею посмотрят в художественных кругах, – может, скажут, что не за свое дело взялись. Но я думаю, что ж, мы писали шесть дней творенья, а теперь нам наука открыла известные данные, так почему же не написать происхождение земли, первобытное состояние земли, первую жизнь на земле, растения и животных разных периодов, а также первобытного человека вплоть до нашего мира. Может, мне скажут, что это не творчество и неново, но я успокаиваю себя, что я нашел предмет, на котором наглядно, кратко обобщил многовековую историю земли. Эта тема для меня так интересна. Я над ней проработал бы полгода и больше…».
«История земли» была отправлена артелью в Москву и везде вызывала восторг и удивление, массу споров и разговоров. Многим очень нравилась.
Вот Николай Зиновьев и предложил:
– А давайте попросим в наркоматах под этот прибор трактор для нашего колхоза…
И вскоре председатель колхоза товарищ Калмыков уже мчался с накладной на новый трактор в Ленинград на «Красный путиловец». А через пятидневку, пишет Ефим Вихрев, «ночью в селе вдруг услышали грохот мотора». Председатель колхоза товарищ Калмыков самолично въезжает в Палех на тракторе. Он сидит у руля.
Вскоре трактор закружил по колхозным полям. То, что не в силах были сделать люди и лошади, сделал трактор, полученный артелью.
А Иван Иванович Зубков написал прибытие в село первого трактора в очередной своей миниатюре.
14
Эскизов Голиков никогда не делал. Покрутит, покрутит приготовленную шкатулку или пластину и прямо белилами кистью начинает рисовать на ней композицию. Тот, кто знаком с работой художников, хорошо представляет себе, каким невероятным талантом и мастерством должен обладать человек, чтобы вот так, сразу, не на бумаге, не карандашом, где можно хоть тысячу раз стереть любую деталь, а прямо красками рисовать людей, животных, пейзажи, сплетать все это в сложнейшие виртуозные композиции. Из «ученых» художников так работали считанные единицы.
Если в белильном наброске Ивану Ивановичу что-то не нравилось, он все смывал и начинал заново.
А затем белильную подготовку начнет. Это первый, обязательный этап в Палехе – прописать все белилами, выявляя уже ими каждую форму и деталь. Когда белила подсыхают, по ним жиденьким слоем распределяют основные цвета – это называется роскрышь. Потом постепенно, в несколько слоев, тоже жидкими прозрачными красками, подчеркивают условные объемы – это плави. Затем добавляют другие цвета, чтобы переливчатость получилась, – приплескивают, как здесь говорят. И сколько бы таких тонких, перетекающих из одного в другой слоев ни было, белила из-под них все равно всегда светятся – отсюда палехские краски и кажутся горящими, похожими на самоцветы. А еще Голиков придумал ближние листья деревьев, например, по три раза белилами крыть, последний раз совсем густо, чтобы вздувались бугорками, и только потом прописывал их красками – эти листочки и правда кажутся у него выпуклыми, а все дерево очень объемным.
Он таких секретов много напридумывал.
В общем, белильная подготовка – этап для палехских художников, пожалуй, самый ответственный и сложный – начало ведь. Большинство над ним в основном и бьется, бывает месяцами, хотя перед этим не один карандашный, а то и акварельный эскиз сделает.
А у Ивана Ивановича и на этом этапе кисть над папье-маше так летала, что временами за ней даже уследить было трудно. Только начнет картину, час-два пройдет, а глядишь, на черном у него уже белый курган вырос, и там битва кипит, кони раненые падают, город горит. Русский город в теремах, башенках, куполах.
И вдруг, когда дорисовать остается сущие пустяки, Голиков возьмет да и отодвинет работу. И через секунду та же кисточка уже летает над другой крышкой или пластиной, и на ней появляются белый забор, деревья, улыбчивый парень со скрипкой и пляшущая рядом девушка.
Безо всякой паузы затем за третью картину примется, опять и по теме, и по решению совсем новую.
Случалось, до пяти-шести совершенно разных вещей за день начинал, а ночью и в следующие дни дорабатывал незавершенное. «Приходится лишь жалеть, – сетовал Бакушинский, – что в расточительности его творческого размаха первых лет ряд замечательных композиций оказался разбросанным по миру без следа, главным образом – за границей».
Бесчисленные образы и сцены переполняли воображение художника до такой степени, что, казалось, не умещались внутри – где они там рождаются в человеке: в голове, в сердце – неизвестно, и Голиков всю жизнь торопился выпустить их на волю. И порой очень сокрушался, что все-таки не успевает запечатлеть все, что хотел бы. Но даже и при этих сетованиях с кистью в руках он выглядел всегда очень счастливым. Оторвет от картины угольные глаза, а они у него далеко-далеко, а на губах или тихая песня, или они какой-то беззвучный разговор ведут; тараканьи усы топорщатся, вздрагивают, расползаются в улыбке…
«Я грамотей плохой, а какие бы я дал творческие вещи. Душа кипит, хожу из угла в угол, головы моей не хватает…
Зимняя ночь. Метель. Зги не видать. Выхожу на улицу. Всматриваюсь, как все рвет с крыш, метет… Прежде чем писать картину, сначала переживу, весь уйду в тот мир, который нужно изобразить.
Гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски: какое настроение. Выгон скота – утром, вечером – игра пастуха в рожок. Базар. Рыбные ловли. Пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворная. Зимние вечера, когда поет жена…».
Обычно это начиналось вечером, когда все укладывались спать, а он сидел за оклеенной дощатой перегородкой у своего стола. Маленькие Голиковы хорошо знали: если пошевелиться на полатях, из-за перегородки через приоткрытую дверь в глаза ударит мягкий желтоватый луч глобуса. Полоска света разрезала полутемную избу на две косые неравные части, вокруг ребят была уже полная темнота. Пахло теплыми овчинами, ржаными сухарями, замоченными для скотины. На стене громко тикали ходики с привязанным к гире ржавым молотком. Иногда в морозы слышно было, как по всему Палеху стреляют бревна.
– Настя, «Тройку»! Ребятишки, подтягивайте!
И Настасья Васильевна, словно неторопливый рассказ, начинала своим грудным, знаменитым на весь Палех голосом:
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой…
Ребята ладно ей подтягивали, целых семь ртов. Пели лежа. Иван Иванович слушает, слушает, не отрываясь от дела, потом попросит:
– Веселее, ребятишки, под песню лучше получается…
«До чего же нравились нам вечера с песнями, – вспоминают его дети, – мы еще больше любили отца. Он казался нам каким-то необычным человеком, большим и все умеющим делать». В селе ахали:
– Четвертую ночь подряд глобус палит…
А он уж и не выходит из дома-то, и Настасья Васильевна в конце месяца сама в артель корзину с готовыми изделиями тащит. Бывало, по тридцать, а однажды почти сорок штук принесла. Мыслимое ли дело, чтобы один человек столько понаписал! Ну, пять, ну, десять, если это мелочишка какая, брошка там – а больше тридцати… Только Голиков это мог!
И какие все вещи-то!
Настасья Васильевна еще из корзины их вынимает, а вокруг стола уже народу полно, и все новые подходят, прослышавшие, что голиковские принесли. И не восторгаются, как обычно, когда других смотрят, а все больше молчат зачарованно.
И вдруг все бросит Иван Иванович, места себе не находит, где-то бегает, бражничает, по нескольку дней кистей в руки не берет – было, было и такое. В артели его раз даже в срывщики промфинплана записали, на черной доске две недели красовался. Это Голиков-то!..
А как он чисто декоративными средствами передавал неудержимость полета русских троек, лихость ямщиков, нежность парочек, сидящих в санях, а то и страшный испуг ездоков, когда на тройку нападали волки. Снова хочется подчеркнуть – это были совершенно условные средства; волки, например, столь же походили у него на реальных волков, сколь музыка походит на подлинные звуки жизни. Они тоже попадались и желтые, и голубые, и зеленые. Но зато опять невероятно правдивыми, заостренно-динамичными были движения этих волков и всего другого. Даже пургу, изображенную в некоторых «Тройках» простейшими серебристо-голубоватыми линиями, он так завихрил, в такие сумасшедшие спирали завил, что кони, и люди, и волки одно целое с этой пургой составляют, и уже не поймешь, то ли она их несет, то ли борьба людей и коней с волками так снега завихрила.
В цвете все это тоже подчеркнуто; палитра, как всегда у Голикова, полнозвучная, богатая, а смотрится вещь очень цельно, потому что красные (опять же, как всегда у Голикова) все остальные цвета за собой ведут. В «Тройке с волками» у него все три распластанных коня огненно-красные с красными развевающимися гривами, а вокруг еще красные детали в одежде, в санях, красные подпалины и кровь на волчьих боках – все тоже как будто несется и крутится.
А в фантастически нарядных саночках-ладье его первой тройки красных коней, несущейся мимо легоньких, невиданных хрустальных деревьев и кустов – понимай, заиндевелых, – сидел молодой красноармеец в синем шлеме со звездой, и седобородый возница в желто-золотистом армяке, обернувшись, что-то рассказывал ему.
С годами темы его произведений становились все обобщенней и поэтичней: помимо «Битв» и «Троек», еще просто «Танцы», просто «Сельскохозяйственные работы», «Охоты», «Музыканты», «Гулянки»… В таких картинах образы можно было тоже делать предельно обобщенными и внутренней динамикой доводить все до высшего эмоционального накала.
Чисто внешне это иногда еще напоминало древнерусские письма, особенно богатейшим узорочьем, но по сути своей даже в тогдашнем многоликом Палехе это была уже совершенно неведомая живопись, ибо Голиков ушел в ней от иконописи дальше всех. Традиционными оставались, по существу, только образный строй да технология и приемы письма. А он продолжал обновлять и эти средства, приспосабливая их для того, для чего они, по всеобщему мнению, вроде бы меньше всего годились: наполнял все порывом, страстью, романтикой. Высокой романтикой, где правда переплеталась со сказкой.
Такой живописи Россия еще не знала.
Только у Виктора Васнецова такая же, как у Голикова, сказочность и эпичность. Но каким же обыкновенным, каким заземленным кажется нам сегодня живописный язык, которым Васнецов рассказывает свои сказки. Нет, это не порицание, можно, наверное, рассказывать и так, тем более когда делаешь это первым, по существу, торишь путь новому жанру в искусстве. Можно… вот ведь Врубель-то достиг большего, поняв, что если уводишь человека в страну мечты, то она во всем должна быть особенной, эта страна.
Не случайно, наверное, и у Горького «Песня о Соколе» вылилась именно в песню. И «Песня о Буревестнике».
Великолепно понимал это и Голиков.
Конечно, картины Ивана Ивановича очень специфичны; насквозь условны, насквозь декоративны, подавляющая их часть мала по размерам, хотя есть у него и большие работы, а их самоцветная, горящая драгоценными переливами живопись сама по себе и тяжкий труд, и любую битву превращает в несказанную красоту. Пока к этому не привыкнешь, пока не перестанешь замечать внешней драгоценности предметов – глубину палехской живописи не постигнешь. Но вы попробуйте вглядеться хоть однажды в голиковские картины подольше, и они откроются вам. Откроется целый невиданный дотоле мир, в котором все бесконечно красиво и радостно и в котором удивительно много жизненной правды и поэзии. И главное – вы необычайно ярко почувствуете то время, когда были написаны все эти тройки, гулянки и битвы. Почувствуете характер этого времени, его стремительность и напряжение, его краснозвездную романтику и устремленность в прекрасную будущую жизнь.
К десятилетию Октября Голиков первым среди палешан написал Владимира Ильича Ленина. Написал в миниатюре на письменном приборе, подаренном Горькому. Ильич выступает перед рабочими на заводском дворе – фигура его полна динамики и экспрессии. А на других предметах здесь грозные лавины восставшего народа, схватки гражданской войны, мирный труд и союз рабочих и крестьян.
И «Третий Интернационал» изобразил, да как неожиданно, как впечатляюще! На декоративной тарелке, на фоне красной звезды, русские – рабочий, крестьянин и красноармеец – в страстном и мощном порыве протянули руки трудящимся других стран.
Здесь, несомненно, сказался опыт Голикова – плакатиста и декоратора. И не только художественный опыт, но и политический.
15
В 1932 году артель получила большой заказ Дома Красной Армии написать миниатюры и панно на темы гражданской войны, Красной гвардии и партизанского движения. Ивану Ивановичу достались «Двенадцать» Блока – двенадцать миниатюр по мотивам поэмы. Но предварительно надо было нарисовать и отослать в Москву на утверждение эскизы карандашом или пером.
Голиков делал это первый раз в жизни и страшно возмущался:
– Да разве пером выразишь то, что можно выразить красками!..
Без конца читал вслух поэму.
Приехавшего Вихрева, не дав ему поздороваться, усадил рядом и попросил почитать седьмую главу. Тот великолепно читал стихи.
– Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?..
Голиков улыбнулся, подергал усы:
Только ночь с ней провозжался,
Сам наутро бабой стал…
– Похоже, а? Тот же мотив, а эпоха другая… Стенька Разин превратился в красногвардейца. Персидская княжна – в Катьку… По-песенному и решаю, как «Из-за острова на стрежень…». Глядите!..
Работа ладилась. А случался затор, Иван Иванович ложился на голый пол и, ни на кого и ни на что не обращая внимания, смотрел в потолок, на узоры широких золотистых сосновых досок. Через полчаса вскакивал, как обновленный, и опять работал…
Приехал Бакушинский. Устроил очередной творческий семинар.
В мастерской курили. Голиков тоже курил. За окнами собирался дождь. Сизо-черное небо было похоже на закипавший котел, сделалось душно, табачный дым не уходил, пощипывал глаза. В глубине улицы пронзительный бабий голос монотонно кликал не то козу, не то девчонку:
– Фе-еня!.. Фе-еня!..
Московский гость беспрестанно вытирал платком взмокшую лысину.
– Тут, несомненно, влияние цветовых вкусов эпохи модерн с ее приглушенной линялой гаммой, с ее эстетическим изломом в понимании формы…
«И он к «Хороводу» прицепился». – Голиков вздохнул.
Панно «Хоровод» он написал два года назад для выставочного павильона в Нижнем Новгороде.
«Уж сколько времени-то прошло, я и забыл о нем… И потом чего говорить-то, его надо было там смотреть. Панно ведь целых три метра. Мы такие никогда я не писали. И краски клеевые, на холсте… Хотелось ведь, чтобы глаз притягивало, чтобы красивое цветовое пятно в зале появилось. Для этого и взял необычные красно-лиловые и синие с бликами света и золота. И линии для этого же ломал… Там надо было смотреть… Хотя можно, конечно, и все по-иному…».
Что-то Иван Иванович прослушал. Даже вздрогнул, когда Бакушинский вдруг очень громко и резко сказал:
– Да, Голиков, Вакуров, Дыдыкин слишком увлеклись романтизмом, увлеклись эмоциональностью, экспрессией, изображением движения. Все дальше уходят от стильности, заключенной в реализме поздних верхневолжских, иначе – ярославских, писем. Только Баканов их и держится. Он – живой и исключительный носитель традиции, подлинный стилист реалистического описательно-повествовательного направления, которое с полным основанием можно считать пусть более наивным и примитивным, но вместе с тем и куда более свежим, новым крестьянским искусством…
«Наивный и примитивный… подлинный стилист» – непонятно…
– …А стиль Голикова и его последователей из ренессансного перерастает в барочный и в последнее время близок к перерождению в типичный маньеризм… И давайте честно признаемся сами себе, ведь нередко приходится замечать, что наше наслаждение драгоценным искусством Палеха чисто чувственное, а иногда и просто формальное… А главная и самая глубокая опасность для Палеха в том, что больше всего привлекает к нему, в том, что, быть может, является самым характерным для творчества Голикова и что завоевало Палеху мир. Это – легкость, слишком большая безмятежность искусства Палеха на фоне современной суровой борьбы, социальных катастроф, гигантского напряжения масс в социальном строительстве. Голиков – символ этого легкого, веселого искусства… Палех сверкает многоцветьем мотылька, оперением райской птицы, порхая над взбаламученным миром. Но это искусство, быть может, пришло или слишком поздно, или слишком рано. Вероятнее всего, здесь запоздание, отставание от современности в содержании и методах художественного мышления…
«Да что это?! Они все всегда так ему верили. Он столько сделал им хорошего. Так помогал. Такой умный, и вдруг нате: запоздание, мотылек, бездушие, символ легкого… Это он-то, Голиков, символ легкого! Слезы из глаз катятся, душу рвет, а он – легкого… Социальные катастрофы… Чувственное наслаждение, увлечение романтизмом… Но ведь сам же писал, сколько раз лично ему, Голикову, повторял, что они должны, обязаны говорить не прозой, а стихами и искать прежде всего символики образа, его романтического строя. Как же это? Ведь все перечеркнул…».
За окнами лил дождь. Шумел сильно и ровно. Посвежело. Бакушинский стоял у стола бледный, глаза в бумаги. Никто не шевелился, не издавал ни звука, не курил. Томительно запахло густой намокшей полынью, обступавшей мастерскую.
– Палех должен найти новый реальный метод художественного мышления, не отказываясь от себя, от своего прошлого искусства, не отрываясь от его корней, но преодолевая собственную инерцию, парализуя собственные яды стилизации и эпигонства…
«Яды!.. По написанному читает», – подумал Голиков.
Опять повисла тишина. Глубокие глаза Бакушинского медленно ощупывали лица мастеров. Кто-то громко, нервно вздохнул. Кто-то скрипнул табуреткой.
– Перерваться бы!.. Покурить…
Задвигались, стали собираться кучками, окружили Бакушинского, выходили в коридор и на крыльцо, занавешенное с трех сторон ровными освежающими пологами уже светлеющего дождя. Жадно, до треска и искр в самокрутках, затягивались, некоторые переговаривались вполголоса, отрывисто и придавленно, как переговариваются в доме, где лежит тяжелобольной или покойник.
В конце коридора в одиночестве застыл Вакуров – щуплый, очень сутулый…
– Не будут брать работы – и живи как знаешь.
– Сдурел!
– Сдуреешь…
– Маньеризм – означает неестественность. Манерные формы… Дай вспомню, я читал… Ага! Бенвенуто Челлини, Эль Греко… Переход от Ренессанса к барокко…
– Так великие же художники?!
– Он зря не скажет, видно, установка….
И только у Бакушинского голос был прежний – зычный и твердый. Даже Вакуров в конце коридора слышал, как он объяснял окружившим его художникам, что у социалистического искусства, по всем глубочайшим соображениям, может быть только один метод – реалистический. И главная задача всех творческих работников сейчас – борьба с формализмом, которого развилось столько, что уже страшно делается, – и в живописи он, в музыке, и в литературе, и в архитектуре…
– Товарищи! Начинаем обсуждение.
Через час в мастерской шумели, как на самом буйном сельском сходе. Обвиняли, каялись, огрызались, били себя в грудь, кричали… И спрашивали, спрашивали друг у друга и у Бакушинского: а что же им дальше-то делать, если в их живописи вдруг такие страшные яды обнаружились? Как его менять, собственное мышление-то, – ведь выросли с ним…
В правоте Анатолия Васильевича никто не сомневался, он был для них непререкаемым авторитетом.
И в этой неожиданной, до предела накаленной обстановке как-то не сразу, только в середине обсуждения, вдруг заметили, что нет Голикова. Давно уже нет. Повертелся малость после доклада, посмотрел как-то странно и вроде с грустью на Бакушинского, криво улыбнулся ему, раскинул руки: что, мол, вот так вот – и, ни слова никому не сказав, в коридор, а оттуда – под дождь. Курившие на крыльце думали, что он, оглушенный услышанным, остудиться решил под дождичком – скоро вернется. И вот нет его. Сломили мужика, может и запить, в Палехе такое видывали.
А Голиков убежал смотреть, как два молодых монтера из Шуи будут «тянуть» к его дому радио. Они так и сказали «тянуть». А он никогда не видел, как это делается, радио в Палехе до той поры было только на почте, и распоряжался им почтовик Иван Никитич, человек очень характерный. Захочет – включит, а не захочет – уговаривай не уговаривай – не даст послушать, и все… Голиков раз десять в сельсовет ходил, просил: когда будут трансляцию налаживать, чтоб ему первому провели.
И хотя ничего особенного в работе монтеров не оказалось, точно так же по селу раньше тянули телеграф и электричество на Унжу, Голиков и на следующий день был все время возле этих двух парней. Человек десять мальчишек и он. Так, табунком, от столба к столбу и передвигались. Он таскал нанизанную на проволоку гирлянду больших фарфоровых изоляторов и временами встряхивал ее, к великому удовольствию ребятни, – изоляторы мелодично пели.
Бакушинский не уезжал. Встречался с художниками, растолковывал, как он понимает реализм в их живописи. Все повторял: «Нужен новый метод мышления».
Но с Голиковым так больше и не виделся. Наверное, ждал к себе, а тот не пришел…
– Счас! Счас! – Голиков радостно суетился. Несмотря на приближавшуюся грозу, народ все же собирался к его дому. Уже человек тридцать было: и мужики и старухи. И еще подходили.
Наконец радист постарше воткнул вилку в черную кругленькую розеточку с блестящими дырочками, только что привернутую над его столом, выставил на подоконник большой черный картонный диск воронкой, покрутил в нем ручку. Раздался сухой треск, будто кто лучину щепал, потом свист с треском, и вдруг мужской немыслимо красивый тоскующий голос явственно пропел:
…А мне отдай любовь…
Мужики, рассевшиеся было на травке обочь дороги, разом поднялись и приблизились к окну. А кривая старушка бобылка из Ильинской слободы часто закрестилась и попятилась в сторону.
Потом опять засвистело и затрещало, и женский голос сказал, что работает радиостанция имени Коминтерна и что сейчас будут передавать новости.
Мальчишки завопили «ура!». Голиков тоже закричал.
Он маячил над черным диском в распахнутой синей косоворотке, и потное лицо его светилось такой радостью, словно это радио придумал он.
Новости были про виды на урожай, про собрания по поводу уклонов в партии, про кризисное положение в экономике Бельгии и Германии…
Все восторженно переглядывались, улыбались, ахали.
Теперь к Голиковым каждый день шли слушать великое чудо – радио. Иной раз целая толпа собиралась.
Приходили и художники. Руганые – реже. Они в эти дни больше в своих огородах и пчельниках ковырялись или с корзинками и удочками по лесам да речкам шастали. Встретятся где, зыркнут быстро и пытливо друг на друга, постоят, потупившись, покурят, спросят: «Ну как?» – «Да так», – и весь разговор, и в разные стороны.
К Голикову подкатывались поодиночке.
– Ты-то что думаешь? Ведь символ-то ты?
– Я доволен. Символом еще не был…
– Ладно зубоскалить-то! Вакуров неделю у воды без движения сидит. Ни копейки нынче не заработал. Дыдыкин тожеть. План трещит. Говорят, Бакушинский книжку написал, тоже ругает… Ты дело начинал – ты и… это…
Мастеров раздражало его спокойствие. Всегда такой бешеный, а тут…
– Ладно, скажу. Это, значит, как федоскинцы, что ли? К этому сводится… Несогласный я! Дурь это! Мы не щенки на веревочках. Голиков… – Споткнувшись на полуслове, он сек воздух руками. – Голиков, конечно, сказать не может. Но Голиков думает, Голиков знает и еще скажет…
Но если по совести, то он и сам еще не знал, что он такое знает и что скажет. Он только почувствовал тогда, что жестокие, уничтожающие слова Бакушинского вовсе не ранят его, почти даже не трогают. Он как будто был выше их, сильнее. И сильнее профессора Бакушинского. Он понял, что Бакушинский это тоже почувствовал, потому и ожесточился. Умный человек, а не удержался… И вот теперь Голиков ждал, во что же отольется эта его сила, и знал, что это и будет его ответ. А она отольется, обязательно отольется – ее же никогда не было в нем так много, и он никогда не был так спокоен…








