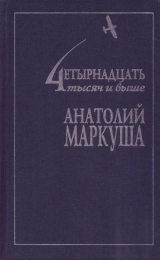
Текст книги "Грешные ангелы"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
28
«Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» – это написано Сергеем Александровичем Есениным. Написано, как видите, эпически спокойно, без горечи. Может быть, потому, что с помощью (?) дяди Саши маленький Сережа плавать научился и, по собственному его свидетельству, плавал, как охотничья собака.
Странное совпадение – у меня тоже нашелся лихой дядя, тоже Саша. И случилось так, что именно он взялся обучать меня хитрым премудростям плавания.
Впрочем, на этом сходство с обстоятельствами есенинской биографии кончается. И вспоминать о моей школе плавания спустя целую жизнь вовсе не весело.
Мой дядя Саша рывком вскидывал меня, маленького и тщедушного, над нагретым солнцем гладким лодочным дном, поднимал над своей головой – курчавой, седеющей – и с размаху бултыхал в воду. Орал он при этом «стерва» или что иное, не знаю: сердчишко мое закатывалось куда-то вниз, холодело, горло перехватывал спазм, охваченный животным, неуправляемым страхом, я ничего не слышал, не видел, только барахтался и беззвучно плакал, отчетливо сознавая почему-то – слезы теплее речной воды… Я начинал захлебываться.
До полной крайности дядя Саша своих экспериментов не доводил, но раза два ему все-таки пришлось нырять за мною в Клязьму, и однажды он делал мне искусственное дыхание. После чего решил: хватит! Колька – дохляк и безнадега.
Так плавать дядя Саша меня и не выучил. Но это – не главная неприятность. Дядя Саша не уставал дразнить меня. Господи, с каким удовольствием он рассказывал всякому встречному и поперечному, какой трус его племянничек – даже плавать не может!..
С помощью дяди Саши я не просто не стал пловцом, но еще возненавидел родственников. Всех, кто состоял в кровной связи с моими родителями.
По какому праву жирная, всегда потная, излучающая удушливый аромат лука, тянулась ко мне со своими липкими поцелуями тетя Зина – двоюродная сестра отца?
С какой стати я должен был отвечать на нахальные вопросы Ромки – сына маминой родной сестры?
Почему меня заставляли оказывать особые знаки внимания дяде Саше, который меня едва не утопил? Он «выбился в люди», как считали родители, только мне до этого не было дела. Родственники научили меня: «общая кровь» – понятие искусственное и вредное. Никакой особой силы никакая кровь не имеет, и не должна она давать дополнительных прав, равно как навязывать дополнительные обязанности. Это я сам так понял. Взял за правило и следую ему всю сознательную жизнь.
Правда, имел глупость, едва-едва подрос, ознакомить с моим пониманием всю многочисленную родню. И страдать от этого пришлось до седых волос. Никакая стая не любит тех, кто не подчиняется рутине.
Теперь, случается, думаю: а прав ли был Колька Абаза, трусливый шкет, не сумевший научиться плавать, в своих ранних обобщениях? И, знаете, сказать: нет, не прав, – не решаюсь.
С годами мое отношение к родне мало изменилось, что сделаешь теперь.
Благодаря дяде Саше я рано узнал, что такое страх, это, может быть, самое отвратное чувство из всех, обитающих в человеке. Дядя Саша способствовал тому, что меня многие годы преследовало опасение, как бы кто-нибудь не понял, не расшифровал это мое унизительное состояние. А боялся я всего: грома, темноты, собак, леса, ночных прохожих и превыше всего одиночества. Кто сильно испугается однажды, тот не скоро преодолеет себя.
Предвижу естественный вопрос: как же с такими задатками я оказался в авиации?
Не сразу, не так вдруг.
Думаю, тут полезно сделать одно уточнение: людей абсолютно бесстрашных, никогда ничего не опасающихся, скорее всего, не бывает. Но если допустить, что исключения все-таки случаются, таких героев придется искать… среди дураков.
Почему?
Лишь умственно неполноценные особи могут ничего не опасаться, они, бедные, не в состоянии определить меры риска, которому себя подвергают или перед которым оказываются по воле обстоятельств, от них не зависящих.
Нормальному человеку свойственно бояться. Страх заложен в изначальной программе человека.
Другое дело, если ты смел, даже худшие обстоятельства не сумеют одолеть твоей воли. И в самый опасный момент ты найдешь силы контролировать ситуацию, противиться неблагоприятным обстоятельствам, находить выход, казалось бы, из совершенно безнадежного положения.
Судить о собственной смелости мне, понятно, не пристало. Но кое о чем я все-таки расскажу – выучиться плавать сделалось моей навязчивой идеей: все могут, один я не могу… выходит, последний человек…
Так приблизительно думалось, где-то в подсознании жила обида и бродили страхи, порожденные униженностью, которую я ощущал. Словом, я очень хотел доказать самому себе: нет, я не хуже всех на свете, нет, не трус я.
В конце концов, пришел такой день, когда я понял – жить, не умея плавать, не имеет смысла. Мне исполнилось к тому времени двенадцать лет – возраст серьезный, хотя еще и не такой, когда человек понимает истинную цену жизни.
Решение было принято: подняться на вышку и с трехметровой площадки кинуться солдатиком вниз, а дальше пусть будет, что будет: достоин жизни – выплыву, недостоин – потону.
Тонуть страшно, но черт с ним… точнее, черт со мной!
Было очень рано, мне казалось – очень холодно, когда я пришел на безлюдную реку и медленно, пересчитывая ступеньки, поднялся на вышку. Заглянул вниз. Сердце дернулось, покатилось, как тогда, на Клязьме, и тяжело задергалось.
Была река, небо, вышка, был я сам, тщедушный, узкогрудый, с изодранными ногами-жердочками, в кровавых ссадинах и царапинах., небо высилось над головой, голубое и безразличное.
Не прыгнуть значило обмануть себя, только себя.
Выдумать какие-нибудь привходящие обстоятельства, всерьез мешающие исполнить задуманное, не получалось.
Я снова подошел к краю площадки, сжался, отчетливо почувствовал, как немеет кожа на руках, на спине, и приказал себе: «Ну!»
Как ни странно, прыгнул.
Падения толком не помню. Вода больно ударила в подошвы и резко выбросила меня назад – к небу, к солнцу, к жизни, с которой я только что был готов легкомысленно расстаться…
Не смею сказать, я выплыл – это было бы грандиозным преувеличением. Теряя последние силы, кое-как выбарахтался и вцепился в скользкую лесенку, что вела из воды на плот.
С трудом поднявшись, я упал на шершавые доски и долго не мог отдышаться. Меня колотило, словно в ознобе, меня пробирал холод, мне было… страшно, да-а, задним числом, но все равно это так противно.
Сколько времени прошло, не представляю – может быть, час, а возможно, каких-нибудь пять минут. Важнее другое: когда я поднялся, то… снова полез на вышку. Это на самом деле – важно.
Извините, что, рассказывая об этом дне, я стараюсь не пропустить даже несущественные подробности, постарайтесь понять: за всю жизнь, думаю, мне не пришлось совершить ничего более значительного. Этот день – едва ли не самый главный для меня.
Итак, я вылез. Постоял. Пожмурился на солнце. Подрожал и… И снова прыгнул.
Увы, плавать всерьез я не научился – ни тогда, ни позже. Но прыгать и не тонуть – могу.
Надеюсь, теперь ясно, каким образом я в конце концов очутился в авиации. И довольно легко самоутвердился в этой среде. Конечно, и спустя годы бывало паршиво на душе, вдруг в наступление бросалась тоска, доводилось терзаться сомнениями, и каждый раз я говорил себе: «Прекрати панику! Вспомни то утро на Клязьме, вспомни жесткую воду, так больно бившую в пятки». Иногда это помогало, иногда нет. Но чаще помогало.
И, если позволите, посоветую: старайтесь до самого конца не совсем расставаться с детством. Детство – такая сила, она держит на плаву, и утешает, и внушает мужество…
29
Когда погода сырая, двигатель меняет голос. Я плохо соображаю в музыке и не смогу объяснить, на половину или там на четверть тона он становится ниже, но это точно, голос у двигателя в сырую погоду другой. Не простуженный, не хриплый, а, я бы сказал, недовольный у него голос, обиженный или хмурый.
Было еще темновато, туманно и промозгло, когда я, сам не знаю почему, притащился в капонир, высадил механика из кабины и стал пробовать мотор самолично. Еще накануне мне показалась, будто мотор недодает тяги.
На малом газу показания всех приборов соответствовали норме. И винт молотил вроде как положено. Поглядел на термометры входящего и выходящего масла, убедился, что коробки цилиндров прогрелись достаточно, и стал передвигать сектор газа потихоньку вперед – шажок, шажок, еще шажок.
Чувствовал, как машина наваливается на тормозные колодки, как она всей своей лобастой головой тянется вперед, и размышлял: «Или мне показалось? Ведь тянет… как зверь!»
Незаметно подошло время выходить на взлетный режим. Поерзав на парашюте, угнездился плотнее в кабине и решительно повел сектор газа вперед… еще вперед – до упора. И замер, обратившись в слух. Ждал легкого, еле уловимого звона, не гуще комариного… и он возник.
Обороты по тахометру были полные. Вполне устойчивые. Давление масла? Нормальное. Температура – тоже. И все-таки наполненности, глубины рева не получалось.
Уменьшил обороты, снова вышел на максимал. Еще раз, еще. Проверил работу зажигания, выключая поочередно левое и правое магнето. Падение оборотов не превышало нормы.
Двигатель опробован.
И что? Осталась какая-то тень сомнения, странная неуспокоенность, а так – по приборам – все без отклонений.
Когда имеешь дело с техникой, общие фразы – штука неприемлемая. Ты обязан формулировать ясно и точно. Например: падение оборотов на правом магнето – сто двадцать, а на левом – пятьдесят. Пусть это не диагноз, но вразумительная констатация. Или давление масла на малых оборотах долго держалось в полторы атмосферы и медленно поднялось до двух…
А что я мог сказать механику Грише или себе? У двигателя слышится некоторая ленца в голосе, боюсь, как бы не подвел?..
Да после такой «оценки» осмотру следовало бы подвергнуть не мотор, а меня… у полкового доктора.
Положение получалось преглупое: машина беспокоила, но я не мог заявить никаких претензий.
«Попросить у Носова разрешения на контрольный облет? – подумал я и тут же сообразил: – Но он непременно спросит: а что случилось?..»
Золотой механик Гриша Алексеев смотрел на меня преданными глазами и ждал… Я понимал, вот скажи я: «Сними оба магнето, бензонасос и еще хоть половину установленных на двигателе агрегатов», и Гриша безропотно обдерет все, что только можно ободрать, и будет копаться в железках до тех пор, пока не отыщет дефект.
Но сказать так я не мог. Тот не летчик, кто не понимает своей машины, кто не отличает ее горестных стонов перед серьезным отказом от обычного вздоха усталости, кто путает дрожь, возникшую из-за неверно установленного зажигания двигателя, с дрожью, рожденной срывом воздушной струи…
И я сказал:
– Все в порядке, Гриша.
Первую половину взлетной полосы я пробежал нормально, потом двигатель задохнулся, как старый астматик…
Я успел подумать: «Прекращать полет поздно: разобьюсь на пнях». Взлетная полоса продолжалась лесной нераскорчеванной вырубкой.
И тут обороты вроде выровнялись. Скорость хоть и медленнее, чем следовало, но все-таки прибывала. Конец полосы был уже близко. И опять перебой. И снова обороты выровнялись…
На последних метрах летного поля я с трудом отодрал машину и закачался с крыла на крыло над вырубкой.
«Лавочкин» вел себя так, будто раздумывал: лететь или падать?.. Падать ему тоже не хотелось, а лететь не было сил.
Волей-неволей и я раздумывал: «Удержусь или упаду?»
И самое гнусное в этой ситуации было то, что сделать я совершенно ничего не мог, от меня ничего не зависело. Сиди, жди. Вот если наберется скорость, тогда показывай чудеса пилотажа на малой высоте…
Машина держалась метрах на пяти-шести и вяло ползла вперед, угрожая при следующем перебое двигателя мгновенно рухнуть на землю.
И тут я представил себе четырнадцати плунжерный насос, питавший двигатель. Увидел его в разрезе со всеми топливными элементами, со страшной силой впрыскивавшими горючую смесь в цилиндры – определенную порцию в строго определенный момент… И все элементы были связаны единой планетарной шестерней!
Если предположить – люфт… нарушается синхронность, и горючая смесь поступает в цилиндры невпопад…
Прозрение мое было, возможно, блестящим, даже гениальным… Но что толку?
«Лавочкин» с бортовым номером «семьдесят два», неверно покачиваясь с крыла на крыло, волок меня в чащу, и нельзя было ничего решительно изменить. Я понимал: через полминуты или минуту найдется сосна повыше и надо быть готовым к встрече. И сосна нашлась.
Машина зацепилась консолью за рыжий блестящий ствол, мгновенно развернулась на девяносто градусов вправо и повалилась к земле.
– Выключи зажигание! – скомандовал я себе. И обнаружил – зажигание выключено: руки знали свое дело! – Перекрой пожарный кран! – Перекрыл. – Упрись левой рукой в борт, ногами в педали…
Все затрещало. Земля, покрытая толстым слоем мха, увеличиваясь в размере, устремилась в лицо. Я успел открыть фонарь кабины и подумать: «Только бы не загореться!» И не загорелся.
Потом, в госпитале, куда я попал не знаю как, меня спрашивал красивый, словно бубновый король, доктор:
– Ты чего все шумел в бреду: «Зараза планетарка!»? Доктор был симпатичным, но что он понимал в нашем деле? И я на полном серьезе сказал ему:
– Да была такая девица… до войны еще. В планетарии техником работала. – И для убедительности добавил: – Блондинка, а глазищи – во!
Потом относительно планетарки высказался Носов:
– Силен ты, мужик. «Зараза планетарка» в бреду выговаривал! А комиссия аварийщиков из семи мудрецов только на третьи сутки доперла – отказал плунжерный насос… Как это ты сообразил?
– Очень мне показалось отвратительно, ужасно: машина качается, не летит и не падает… А что делать? Нечего… И тогда я весь агрегат непосредственного впрыска как на рентгене вообразил… и подумал: почему планетарка заикается? Вроде на оси ее бьет…
– Силен, – сказал Носов. – Грамотный. А еще надо было встретиться с Гришей.
Чувствовал – это будет трудно, хотя золотому моему механику нельзя предъявить никакой вины: дефект был заводской, так и комиссия в акте записала.
Гриша походил вокруг меня на виражах, помурлыкал котом и начал вкрадчиво:
– А тогда утром, командир, когда ты вдруг взялся движок гонять… сам, было у тебя сомнение?.. Или предчувствие?..
– Почему ты решил? – спросил я и заставил себя улыбнуться самой, как мне казалось, беззаботной улыбкой.
– Да ничего я не решил… Только не крути, командир, просто мне показалось… словом, вид у тебя был… колебательный – говорить или не говорить?
– Интересно. А что я мог сказать? Ну, подумай, Гриша, – что?
– Понятно, – врастяжку произнес Гриша. – Поэтому я лично никогда и ни за что не пошел бы в летчики, командир. И славы не надо, и наград не надо, и вашего пайкового шоколада не хочу…
30
Раньше или позже у каждого появляется своя Ева. Кто кого находит – не суть. Важно, что после какого-то шага дальше люди следуют вдвоем.
Иногда совместный путь оказывается дольше, иногда короче, одни маршруты отмечены полным согласием и взаимопониманием, другие протекают с затруднениями, но все равно идут в два следа.
Моя Ева казалась мне красоты необыкновенной. Отличалась удивительной уравновешенностью, почти не раскрывала рта и сказочно, опять же, на мой взгляд, улыбалась…
А я вел себя глупее некуда: говорил, говорил, говорил… Мне казалось, если я перестану изливаться, если только замолчу или отойду на шаг в сторону, Ева исчезнет.
Теперь мне представляется: скорее всего, она относилась ко мне с некоторым состраданием, как мать к своему умственно неполноценному ребенку…
Едва ли наши следы могли протянуться долгой двойной стежкой. Сомневаюсь. Не думаю, чтобы Ева стала бы бесконечно мириться с моей болтовней… Впрочем, чего гадать – путь наш оборвала война. Закрутила, раскинула в разные стороны. Я вынырнул, а Ева, увы, нет – пропала без вести… Скорблю? Теперь отболело. Война поломала не одну судьбу.
Как ни стыдно признаваться, скажу откровенно: чаще вспоминаются не ее льняные, в крупных завитках волосы, не смеющийся рот и ямочки на полноватых щеках… а как я ходил мелким бесом вокруг нее, и суетился, и пылил ненужными словами. И делается горько, неловко и обидно… за себя, понятно.
Потом, уже после войны, попалась мне, на беду, другая Ева. Мужняя жена. Мать симпатичного мальчишечки. Чем-то она напоминала ту, пропавшую без вести, хотя, как скоро выяснилось, была птицей совсем другого полета…
Зимним вечером я провожал новую Еву домой. Муж ее был в командировке. Наученный кое-каким жизненным опытом, я старался не слишком разливаться соловьем, но под конец все-таки признался в любви и, взяв в ладони ее голову, тихо, бережно поцеловал холодное лицо.
Она не сопротивлялась, аккуратно высвободилась из моих рук и сказала с нехорошей усмешкой:
– Чаще женщин целуют, когда их презирают…
Господи, эти пошлейшие слова, заимствованные из какого-то бульварного романа – она много читала, – произвели на меня оглушающее впечатление. Тогда я еще был околдован магией слов…
И как же я лез из шкуры, убеждая ее оставить мужа и перейти в мое владение. Как доказывал, что буду замечательным другом ее сыну. Как метал икру.
Она возражала:
– Муж ничего плохого мне не сделал. Почему я должна его оставлять?
Муж был подполковником, я – лейтенантом. Она не напоминала об этом, но я постоянно помнил: мы неравно стоим – и в табели о рангах, и в ведомости зарплаты…
В какой-то день я услышал:
– Ничего ты не понимаешь, милый! Ты – вольная птица, а я – чайка со спутанными ногами…
И я опять был околдован ложной значительностью слов.
– Ты хочешь, чтобы я уровнял положение? – спросил я. – Хочешь, чтобы женился при первом более или менее удобном случае?
Она устроила замечательно красивую истерику и проявила агрессивность.
И все-таки я не понял, вокруг кого виражил. И поступил в соответствии со своим глупейшим демагогическим заявлением – женился при первом подходящем случае.
Время показало – случай, увы, оказался менее, а не более подходящим. Пришлось разводиться…
Матримониальные дела принесли мне достаточно много неприятностей, хотя были, конечно, и тихие зори над спокойными плесами, и штормовое буйство прибойной волны, из которого выбираешься еле живым, вроде совершенно обессиленным и… новым.
Теперь я знаю.
Нельзя советовать: женись – не женись. Никому. Никогда.
Надо опасаться излишних откровений – своих и ее. Пусть все будет ясно между людьми, но чем меньше излияний, тем лучше.
Сияние глаз, и нежность рук, и трепет тела – это чудесно и вечно, но прочность связи обеспечивается только хорошим отношением друг к другу – ежедневным, будничным хорошим отношением.
Все ищут Еву, и лучшее, думаю я, на что может рассчитывать современный Адам, – честное партнерство.
Не так давно, уже под вечер, на моем столе зазвонил телефон.
– Николай Николаевич? Один? Разговаривать тебе удобно? В жизни не угадаешь, кто тебя беспокоит… Впрочем, сюрприз и должен быть неожиданным, согласен?..
Увы, я узнал, кто меня беспокоил. Узнал не столько даже по голосу, давно не слышанному, сколько по специфическому налету пошлости… Но я не спешил открывать карты. Я сделал над собой усилие, чтобы нечаянно не допустить грубого или тем более язвительного слова.
Я ненавидел эту женщину, ненавидел самым нешуточным образом, и, думаю, было за что: она отняла у меня веру в святость чувств, смешала в моем представлении высокое и низкое, убила юношескую восторженность… А что дала взамен? Торопливые объятия, бессмысленную скороговорку из чужих, заемных слов…
Но можно ли упрекать человека в душевной ограниченности, в примитивности чувств? Это все равно что дразнить заику или насмехаться над горбатым… И зачем? Она ведь теперь старуха. Может, и не от хорошей жизни звонит. Так думалось, но я ошибся. Она звонила не по причине догнавшего ее горя, припозднившегося раскаяния или какому-либо иному похожему поводу.
– Мне так захотелось взглянутьна тебя… Какой тытеперь.
– Старый, – сказал я, понимая, что надо бы сказать что-нибудь иное.
– Ко-о-оля! Это не по-джентльменски – напоминать даме, хотя бы и косвенно, о ее возрасте. Скажи, ты, как и прежде, увлеченный, восторженный? Или озлобился?
– Я умиротворенный, – сказал я и сорвался. Чуть-чуть. Не следовало, знаю, но я сказал еще: – Ко всему прочему, у моей нынешней жены очень хорошая персональная пенсия…








