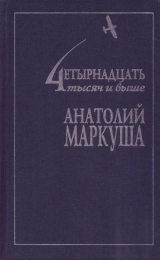
Текст книги "Грешные ангелы"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
24
Не скажу, будто мы с Шалевичем прошли всю жизнь крыло в крыло, хотя бы фигурально. Я всегда высоко ценил в нем и летчика и человека, всегда сознавал – никто больше Дмитрия Андреевича не дал мне в жизни, никто при этом не взял меньше, хотя размолвки у нас и случались.
Из песни слова не выкинешь, потому и рассказываю. Началось все вроде с пустяка. Когда Шалевич вышел на пенсию – выслуга, годы! – и вскоре попросил свести его с кем-нибудь из круга, как он выразился, пишущих, вот тогда и случилось.
– Среди твоих знакомых всякой твари по паре. Вероятно, и литератор найдется, – заметил Шалевич. И, развивая мысль дальше, пояснил, что хочет дать пишущему человеку «достоверный и ценнейший» материал, из которого можно сконструировать «мемуарную книгу» высокого достоинства.
– Допустим, я найду опытного разбойника пера, – сказал я, – и тот сочинит за вас книгу, а дальше что? Хлопот много, денег мало, слава – сомнительная.
– Мне лично мемуары не так уж нужны, но растет молодежь… много ли она знает о той авиации, в которой мы начинали? – ответил Шалевич хорошо мне знакомым спокойно-нравоучительным тоном, стараясь замаскировать свое неудовольствие.
Почему-то мне сделалось неловко за Шалевича. Стараясь быть предельно вежливым и мягким, я спросил:
– Вы категорически убеждены, Дмитрий Андреевич, что молодежи позарез желательно и нужно знать, с чего начинали дедушки? Взгляните надело не с нашей, а с их точки зрения.
– А как же иначе? – удивился Шалевич.
– Вот именно, как же? Понятия мы не имеем, как следовало бы беречь наше прошлое. Почему мы не сохранили ни один По-2, почему нет Р-5 из тех, что спасали челюскинцев? Где полюсные корабли водопьяновской четверки? Почему выставку трофейного оружия по ветру пустили? А вы говорите, как же… Если нам ничего не оказалось надобным, так чего с них спрашивать?!
– Мне кажется, вы противоречите себе, – обиженным тоном сказал Шалевич. – Если не осталось материальных, вещественных свидетельств расцвета нашей авиации, хотя кое-что все-таки собрано в музеях, то правдивый и доступный рассказ об этом времени приобретает не меньшее, а как раз большее значение.
И снова я не согласился с Шалевичем. Стал говорить, что это как стихийное бедствие – все торопятся повествовать о прошлом, о своем участии в великих событиях… А на поверку оказывается, чуть не каждая вторая книга мемуаров – чистое утешение авторского честолюбия вместо литературы. Я говорил, как думал.
Внезапно Шалевич поднялся со своего места и сказал сухо:
– Не смею больше отнимать ваше дорогое время… Признаюсь, я даже не сразу сообразил, что произошло.
А когда понял, прежде всего, растерялся. Что же делать?
Первая мысль была: извинись. И сразу же возражение: а в чем я провинился, чтобы извиняться?
Вторая мысль: пошлю письмо, разъясню мою принципиальную позицию подробно, он же умный, человек, поймет…
Письма не послал. Не слишком ли по-мальчишески писать, объяснять, косвенно просить «пардону»? Были намерения вернуться к неудавшемуся разговору, да так намерениями и остались. Не заметил, как минул год. И – другой.
Постепенно я сам уговорил себя: меняются времена, меняются взгляды, все проходит. И окружение сменяется. Это нормально. В конце концов, что плохого я сделал, если говорить конкретно – что? И все-таки от себя не уйдешь.
Разыскал я не так давно новые координаты Шалевича, набрался духу и поехал на поклон. Решил, войду и сразу в полный голос: «Повинную голову меч не сечет…» – и бухнусь на колени. Вроде и не совсем все всерьез получится. Шалевич всегда хорошо чувствовал и ценил юмор. Все-таки у нас общее прошлое, и какое. С тем и поехал.
Разыскал 7-й Поперечный просек, пересекавший 4-ю Продольную улицу нового микрорайона, нашел корпус пять и в нем сто двадцать седьмую квартиру. Позвонил.
Странно, и чего бы мне волноваться? Не ограбил, не зарезал. К тому же столько времени уже прошло. А все-таки неспокойно мне было.
И вот отворилась дверь. В проеме предстала высокая, скорбного вида женщина, одетая во все темное. Она смотрела на меня безразлично и выжидательно.
– Могу я видеть генерала Шалевича? Женщина ничего не ответила. Посторонилась, пропуская меня в дом. На всякий случай я назвался. То ли она не расслышала, то ли не поняла, но реакция была нулевая… Мы прошли сквозь неряшливо прибранную квартиру к балкону. И первое, что я, к крайнему своему изумлению, увидел, был ярко раскрашенный, аккуратный улей. Да-а, самый настоящий пчелиный улей!
Самого Шалевича я обнаружил не сразу. Пожалуй, «обнаружил» – слово не совсем точное, вернее было бы, пожалуй, сказать – разглядел. Сморщенный, ссохшийся старичок, одетый в толстый, не по июньской погоде свитер из грубой шерсти, в боты на резиновом ходу, сидел в кресле-качалке.
Глаза у него были прикрыты. Он радостно улыбался, прислушиваясь к басовитому гудению пчел, и можно было подумать, будто в их звучании он различает что-то очень важное…
Нужно было обладать смелым воображением, чтобы предположить: старичок и генерал Шалевич – одно лицо.
– Дмитрий Андреевич, к вам пришли, – громко сказала женщина, впустившая меня в дом. Подождала и повторила: – Пришли к вам. Абаза Николай Николаевич пришли.
Но Шалевич словно бы и не слышал. Во всяком случае, он никак не отреагировал. Слушал пчел. Потом только встрепенулся и сказал рассеянно, будто мы вчера только расстались:
– Абаза? Ну, здравствуй, Абаза. Садись.
Не могу даже вспомнить, о чем мы говорили… Все время над нашими головами господствовало ровное, тяжелое гудение пчел. Мне показалось, что, кроме их гудения, напоминающего самолетный стон, Шалевич ничего не воспринимал.
Визит мой продлился минут пятнадцать. Никакой попытки заговорить о нашей размолвке я не сделал. Это было бы совершенно бесполезно. Стоило мне приподняться с места, Шалевич сказал:
– Уже идешь, Абаза? Ну-ну, ступай… счастливо тебе! А я – с пчелками, с пчелками все… – и поглядел на меня, не видя. Тысячу лет назад в школьной раздевалке точно также глянула на меня Наташка, девочка моих давних снов.
Говорят, в старую воронку новый снаряд не ложится. Не знаю, теперь я в этом не уверен…
В узком, заставленном мебельным хламом коридорчике будто из стены возникла женщина в темных одеждах и громким шепотом сказала:
– Не обижайтесь на него. У Дмитрия Андреевича весь свет в пчелках теперь. Последний аэродром. Не дотянуть Дмитрию Андреевичу до зимы. Затихнут пчелки, и ему – конец. А вы не обижайтесь, он вас помнил. Это ведь у вас неприятность над морем вышла, когда просили передать привет Клаве? – Женщина улыбнулась без яда, совсем просто: вот, мол, как занятно в жизни может получаться.
Поклонившись, я вышел на лестницу. Наказанный? Расстроенный? Раскаивающийся? Прежде всего – опустошенный.
И самолетное гудение пчел долго-долго еще не давало мне покоя.
25
В жизни мне довелось выслушать много разных упреков: почему плохо ешь?.. Кто дал тебе право не учить уроков?.. Почему поздно явился домой, есть же порядок… Да мало ли что еще ставили мне в вину. Вот, например, почему невесело на старшину смотришь?… Медленно наворачиваешь портянки почему? Почему разговоры разговариваешь, когда положено щелкнуть каблуками, выдохнуть «Есть!» и рысью исполнить полученное приказание.
Попреки слышишь с детства и до седых волос. Думаю, я не исключение. С большим или меньшим основанием, с вдохновением или лениво, «по обязанности» ругают всех.
Но вот что удивительно: почему-то мои наставники всегда еще старались унизить и оскорбить меня. Когда мораль читал отец, он обязательно пересыпал свою речь такими словечками: «балбес», «олух царя небесного», «разгильдяй»… Когда воспитывал Симон Львович, приходилось узнавать о своих «ограниченных умственных способностях» или «повышенной фанаберии»… Когда задело принялся старшина Егоров… здесь я могу только понаставить много, много, много, много точек вместо букв, из которых складывались самые подлые слова, не прописанные ни в одном нормальном словаре…
Пожалуй, Шалевич ругал меня не меньше других наставников, но как он это делал?
Мог, например, произнести монолог, обращенный к… самолету, на котором я летал:
– Умница ты, «семерка», соображать же надо: когда делаешь левый разворот на месте правого ведомого, надо оборотики что?.. Увеличивать. А то отстанешь. Правильно. И крен надо держать по ведущему, а еще – не зевать. Из разворота выходишь, обороты уменьшай, а то проскочишь ведущего… Интервал скрадывать ножкой надо: дать, убрать, еще дать – и опять убрать…
Все это время меня Шалевич и не замечал. Клянусь, это было самое настоящее представление, он играл, и, надо сказать, с блеском… Потом, как бы отчаянно удивившись, замечал меня и говорил что-нибудь в таком роде:
– Сообразительный тебе достался самолет! Если так пойдет и дальше, к концу лета он, пожалуй, научит тебя ходить в строю. Только ты ему не мешай и запомни: все движения в строю должны быть двойными. Дал – убрал, споловинил и еще раз: дал – убрал…
Вот так он меня ругал! И сколько же полезной информации было в его методе доводить до ума человека. Давил информацией, и никаких «балбесов», «олухов», не говоря уже о более специфических терминах.
Уроки Шалевича, как оказалось, обладали долгосрочными и неожиданными последствиями. У меня растет внук. Алешка – порядочный буян и скандалист. Сообразительный, но трудноуправляемый малый. Отец с ним не особенно церемонится: редкий день у них обходится без «вливания с южного конца».
Этих действий я не одобряю, но никто у меня разрешения на силовое применение старинных методов не испрашивает.
Так вот, в минуты философического расслабления, а такие у Алешки случаются обычно вслед за всплесками темперамента, он жмется ко мне, вздыхает и говорит, как взрослый:
– Только у тебя, деда, и хватает терпения со мной заниматься.
Не знаю, глаголет ли устами семилетнего младенца истина, но, если глаголет, это прежде всего хвала Шалевичу.
Если во мне есть терпение – от него.
Мальчонкой я ужасно боялся смерти. Бывало, просыпался среди ночи в холодной и липкой испарине, лежал в темноте с тяжко бившимся сердцем и думал, думал, думал: как же так – меня не будет?.. Совсем и никогда!
Страх долго не разжимал свои холодные, жесткие ладони. Страх медленно превращался в клейкую, опустошающую тоску. И так хотелось, чтобы потом, после… раз уж нельзя без смерти, было хоть что-то… пусть только слух… только память… или трансформироваться бы хоть в обезьяну, согласен – в кузнечика.
С годами такие приступы становились реже. Из умных книг я узнал: явление это закономерное, все через него проходят.
На войне я видел много страшного, и близкую смерть встречал. Именно тогда я окончательно распрощался с детством и утратил остатки наивной веры в бессмертие.
26
С тех пор как Дмитрий Андреевич умер, я все чаще вспоминаю о нем. Может, в наказание зато невольное небрежение, омрачившее последние годы нашей дружбы.
Воспоминания о Шалевиче не могу назвать тягостными или горькими. Очень они разные, порой неожиданные.
В училище, где он когда-то закончил полный курс авиационных наук и тоже, помимо желания, был оставлен инструктором, долгие годы жила, например, такая легенда.
Начинающий инструктор Шалевич в первый же год пребывания наставником молодежи отличился рядом немыслимых эскапад и фортелей. Скажем, вылетев с полевого аэродрома Кардаил в передней кабине самолета У-2, он в назначенное время аккуратно приземлился на главном аэродроме, находясь… в задней кабине того же У-2! Сей удивительный факт сделался известным начальнику училища.
Вызванный по этому поводу генералом для личного объяснения, Шалевич произнес лишь одно слово:
– Хиромантия!
Разгневанный начальник сунул Шалевичу пять суток ареста и гаркнул:
– А теперь чтобы ноги твоей здесь больше не было! Вон! Шалевич проворно вскинулся на руки и отбыл из кабинета именно так – не касаясь ногами пола…
Позже, на инспекторской проверке, он выполнил пилотаж, снижаясь практически до никакой высоты… и вновь предстал перед ясными начальственными очами, на этот раз перед начальником управления учебных заведений Военно-Воздушных Сил.
Комбриг посмотрел на сухого, спортивного вида парнишку с дерзким выражением на лице и сказал, медленно растягивая слова (очевидно, чтобы лучше запомнились):
– Случай кристально ясный: летать можешь и хочешь. Инструктором служить не желаешь? Или я не прав?
– Так точно, правы!
– Запомни: пока я на должности, перевода из училища не будет. А еще один такой пилотаж – сделаю командиром взвода в роте охраны. Летай, как человек. И советую – женись.
Странно, но к совету начальника управления жениться Шалевич отнесся с полной серьезностью и начал ухаживать за хорошенькой медицинской сестрой Липой.

Его спрашивали:
– Решил жениться?
– Куда деваться, раз начальство велело.
Впрочем, ухаживал он странно: ходил за Липой по пятам, молча вздыхал, время от времени делал подарки – цветы, конфеты, духи… духи, цветы, конфеты…
Потом случилась командировка.
Шалевич отсутствовал долго – месяца полтора, а когда вернулся, узнал – «доброжелатели» радостно сообщили, – у Липы свадьба. Завтра!
Действительно, хорошенькая медицинская сестра сменила фронт и дала согласие более решительному претенденту – военному технику второго ранга, баянисту и затейнику Пете.
Шалевич удивился:
– За техника идет? Странно, – и замолчал. На другой день в назначенный час загудела свадьба. Впрочем, «загудела» – преувеличение; были произнесены лишь первые тосты, раз или два крикнули: «Горько!» До серьезного шума дойти не успели: распахнулись двухстворчатые двери ресторанного зала, и в помещение… въехал Шалевич. Верхом. Лошадь была взята напрокат. Извозчичья.
По зимнему времени Шалевич был в голубом на меху комбинезоне, в летном, подбитом белкой шлеме и замшевых перчатках с крагами.
Не спешиваясь, достиг свадебного стола, протянул Липе руку. Все – молча. И Липа, видимо, совершенно сраженная таким великолепием, не отважилась пренебречь его рукой…
Тогда Шалевич нагнулся, положил перед растерявшимся женихом пачку сторублевых бумажек и произнес первые слова:
– Компенсация за свадебные расходы.
Он помог Липе подняться на лошадь и неспешно выехал из ресторана, разбрасывая по пути мелкие купюры обалдевшей челяди. Говорят, то была последняя гусарская выходка Шалевича. А с Олимпиадой Арсеньевной они прожили в молчаливом согласии около тридцати лет, вырастили двух дочерей.
Сам Шалевич о своих матримониальных делах мне не рассказывал. Обо всем этом я узнал стороной, и проверять у Дмитрия Андреевича, что истина, что домысел, не собирался. Впрочем, такое за здорово живешь не сочинить. Теперь вспоминаю Шалевича, дивлюсь и радуюсь – не в одну краску был человек.
27
Желая объяснить какую-нибудь несусветную глупость, говорят обычно: как в кино. Или случилась странная встреча, и тоже слышишь: «Три года не виделись, а тут иду… а он спотыкается… и мне в объятия. Ну, как в кино».
Между тем я давно замечаю: незапланированных, случайных, немыслимых встреч в жизни нашей бывает, пожалуй, немногим меньше, чем встреч запрограммированных, ожидаемых и соответствующим образом обставленных.
Во всяком случае, у меня – так.
Шел, помню, по лесу. Ни человека, ни птахи, и мысли не из светлых: только что разругался с Бесюгиным и Коркией. Они на речку тянули, а мне чего на речке делать – плавать я толком не умел… Вот и стал доказывать: «Раз решили в лес, давайте как назначили».
А Сашка сразу: «Ставлю на голосование: кто за речку?..»
Конечно, их двое, я один.
Но я такого голосования не принял. Был уговор? Был. Значит, надо по уговору. Все! И пошел в лес. Один.
Вообще-то ничего интересного в лесу не оказалось. И, признаться откровенно, очень скоро мне надоело. Но тут я заметил: вроде ртутный блеск между кустами и оттуда как будто прохладой сквозит. Решил посмотреть, что бы это могло быть. Оказалось, бочажок, озерцо лесное. И вода в нем до того голубая, как небо, а по воде облака ползут, белые-белые… Красотища!
Уходить от бочажка не хотелось. Залег в траву, стал озираться. И вдруг метрах в двадцати обнаружил женщину. Лежит на животе, лицом в руки уткнулась. Голая, между прочим, лежит, вроде загорает. Смотреть на женщину было неловко. Немного даже стыдно. И хоть специально я на нее не пялился, а все же видел: лежит. И вдруг в голову как щелкнет: она живая или неживая? Может, солнечный удар, может, с сердцем плохо… Подойти или тихонько смыться? Ведь мог я ее и не видеть… Докажи попробуй!..
Только я так подумал, как женщина зашевелилась – живая! И говорит:
– Отвернись, Коля, пожалуйста, я прикроюсь… – А голос – Александры Гаврииловны.
Как услышал, стал дурак дураком. Слова не выговорить. Понимал: директорша – живой человек. И все у нее как у всех. Но понимать – одно, а своими глазами видеть – совсем другое. И смыться после того, как Александра Гаврииловна меня узнала, тем более окликнула, было, ясное дело, невозможно.
Накинула она полосатый халат, позвала, и я пошел. Жутко стесняясь, подходил, но уселся рядышком, как Александра Гаврииловна показала, и тупо отвечал на ее вопросы. Все время помнил: а под халатом она голая. Мне было стыдно оттого, что я про это думал, но ничего не мог с собой сделать; и странно, что в башку лезло: а пожалуй, Александра Гаврииловна не такая и старая… интересно, есть у нее муж… дети?..
О чем мы над тем романтическим озерком рассуждали, совершенно не помню. Почему-то осталось в памяти, как Александра Гаврииловна угощала меня кислыми сливами и говорила, что ей нравится кислое.
Возможно, в тот день эта случайная невероятная встреча заставила подумать: у человека много-много лиц, много-много масок… В одной он входит в класс, другую надевает дома, в третьей бывает в кругу друзей… Человек не обязательно такой, каким кажется, и не такой, каким старается показаться.
Может быть, это были первые серьезные мысли об окружающих.
Узнавать человека, расшифровывать его маски – увлекательное и азартное занятие. Не исключено, что самое увлекательное изо всех, какие только есть в жизни. Во всяком случае, с той поры я постоянно занят в игре выдуманных мною масок. Я радуюсь, когда угадываю людскую суть, и огорчаюсь, когда угадать, кто передо мной, не удается…
Шалевича я наблюдал много лет. Был с ним достаточно близок и долго не мог определить, что же он за человек. Порой, когда, например, он заставлял объяснять публично, что побудило инструктора Абазу, взрослого и самостоятельного человека, «целовать» ангарную крышу, мне казалось: нет на свете человека вреднее. Но проходило время, и тот же Шалевич прикрывал от насмешек и поддразниваний товарищей, хотя бы после моего дикого вопля над морем: передайте Клаве… И мне представлялось: не бывает людей сердечнее и отзывчивее.
Не сразу удалось взять в толк: маски масками, а в человеке непременно должна звучать главная тема. В ней вся суть.
Что это значило применительно к Шалевичу?
Когда меня разжаловали и должны были отправить в штрафной батальон, смывать кровью… и так далее, мой бывший командир эскадрильи находился далеко, служебно это Шалевича не касалось, узнал он о моей беде случайно, из третьих уст. И… И тем не менее счел долгом вмешаться.
Командующий воздушной армией, в непосредственном подчинении которого я состоял, был когда-то командиром эскадрильи, и Шалевич начинал под его знаменем. Дмитрий Андреевич, легко преодолевавший все препятствия летного мастерства, пользовался особой благосклонностью своего бывшего комэска. И теперь Шалевич написал командующему частное письмо:
Сергей Сергеевич, я бы не стал Вас беспокоить и утруждать зря. Пишу относительно Абазы. Краем уха слышал: Вы собираетесь высаживать его из авиации. Не делайте этого, Сергей Сергеевич! Накажите примерно, коли он того заслужил, хоть выпорите, превысив права, только не лишайте авиацию Абазы. Нет, я не описался: Абаза нужен авиации. Нужен при всей его непутевости: он родился для нашего дела…
Письмо это странным образом оказалось в моих руках. Когда меня восстановили в звании и должности, сам командующий подарил мне это письмо и сказал:
– Береги! И помни, как Шалевич за тебя старался… Не пойму, чего он тебя так любит.
Потом, после войны, когда мы снова встретились с Шалевичем и я завел было разговор, благодаря его, делая реверансы, Дмитрий Андреевич отмахнулся от меня, как от глупой мухи:
– Не помню… Да и какое это может иметь теперь значение? Войну выиграли, неужели больше не о чем думать?!
Как я теперь понимаю, главная тема Шалевича, невзирая на суровость его ремесла – летчик-истребитель, карающий меч, – всегда была доброта. Доброта самого высшего порядка, когда ты живешь для людей, вовсе не заботясь, а понимают или не понимают, ценят или не ценят это окружающие. Живешь, не требуя вознаграждения, не ведя учета своим благодеяниям, не оглядываясь по сторонам.








