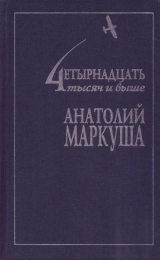
Текст книги "Грешные ангелы"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
20
Мальчишкой я почти никогда не дрался. Скорее всего, потому, что чаще всего не бывал уверен – справлюсь или нет. Вот сам и не лез. Конечно, такое не украшает – всякая драка держится на какой-то порции риска, а тот, кто рисковать не желает, доброго слова не заслуживает.
Думал я об этом на ночной дороге.
И была та дорога, как в страшном сне, будто черти ее перелопатили: колдобина на колдобине, грязь, вода в колеях. И ко всему еще – темень: луна только изредка появлялась и надолго исчезала в низких аспидных облаках.
Мы возвращались в расположение части. Шли из города, в окрестности которого попали ровно на десять дней, чтобы перевооружиться на новейшую модификацию истребителя «лавочкин».
До гарнизона оставалось километров пять-шесть. А надо было еще выспаться: на другой день планировались полеты.
Мы пробовали остановить попутку, но в ответ на темпераментные размахивания руками замызганный «студер» даже не притормозил.
Теперь, когда в очередной раз наступило короткое лунное просветление, открывшее несравненной мерзости пейзаж, Остапенко театрально хлопнул себя ладонью по лбу, замер на месте и объявил:
– Идея, гусары! Столбы видите? – Действительно, на обочине валялись беспорядочно сваленные и почему-то не растащенные на дрова телеграфные столбы. Штук, пожалуй, десять, когда не больше. – Кладем на проезжую часть клеточкой, гусары, и порядок, никакой «студер» не перескочит.
Сказано – сделано.
Столбы уложены на дороге. Мы же усаживаемся в сторонке, закуриваем и ждем. Меликян сказал:
– Интересно, что подумает водитель, когда увидит этот дот?
– Очень ты любопытный, Мелик, – сказал Остапенко, – лучше прикинь, сколько времени остается до подъема?
Но Мелик ничего не успел ответить: над дорогой, еще вдалеке, замотались, задергались слабые световые пятна.
Мы отошли подальше, затаились.
«Виллис» качнулся на рессорах и встал. В темноте он казался еще меньше, чем был на самом деле, – коробочка.
Кто-то, ругаясь, вывалился на дорогу. Хлопнули дверцы.
Оценив обстановку, мы поняли – деваться «виллису» некуда, и решили предпринять маневр: сначала оттянуться метров на сто назад, в направлении города, там выползти на дорогу и с беспечным трепом рулить в сторону гарнизона.
Шагов за десять до «виллиса» нас окликнули:
– Что за народ?
– Авиация на пешем марше.
В отблеске включенных в тот момент фар увидели: спрашивал генерал-лейтенант, большой красивый мужчина, украшенный густым набором тяжелых боевых орденов.
– Истребители? – спросил генерал.
– Штурмовики, – на всякий случай сбрехнул Остапенко, резонно полагая – сбить начальство со следа никогда не вредно.
– Помогите освободить проезд, ребята, – попросил генерал. – Какая-то сука нашкодила.
Мы помогли.
И генерал предложил нам затаскаться на узенькое заднее сиденье, пообещав подбросить до гарнизона.
Полагая, что наша военная хитрость вполне удалась, мы радовались еще и на следующий день, а Остапенко раздувался так, будто он выиграл Аустерлицкое сражение.
Так часто бывает – пустячок, а празднуешь.
Конечно, еще через день мы и думать забыли о нашем броске в город, о сомнительных городских утехах и о мерзкой ночной дороге. Тем более до возвращения на фронт оставалось всего несколько дней.
Полк собирался на тренировочные полеты.
Носов предупредил: к построению прибудет новый командир корпуса. Гвардии генерал-лейтенант Суетин. Он был в Испании, дрался на Халхин-Голе, говорят, строг, не терпит размазней. Станет задавать вопросы – отвечать полным голосом, голову держать высоко, есть глазами начальство…
– Хвостом вилять? – поинтересовался Остапенко, любимец Носова.
И тут же получил исчерпывающий ответ. (В силу его полной непечатности дословное повторение опускаю.)
– Становись! – без лишней рьяности скомандовал Носов, когда на дальнем фланге самолетной стоянки обозначился командирский «виллис».
– Клянусь, Колька, – сказал Меликян, – сейчас окажется, что генерал – наш. Веришь, печенкой чувствую. И Мелик не ошибся. Печенка его не обманула. Носов доложил. Суетин поздоровался и скомандовал: «Вольно!» Никаких установочных речей произносить не стал, сказал только:
– Занимайтесь своим делом, майор. По плану действуйте, а я погляжу, как оно у вас идет…
И поглядел. И увидел!
Протягивая мне, вроде своему лучшему другу, руку, генерал очень сердечно произнес:
– А-а, штурмовик. – Подмигнул озорно: – Привет! Никто ничего не понял, а я, не зная, куда деваться, сделал над собой усилие и бодро ответил:
– Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-лейтенант. Как только вы меня запомнили?
– Есть у меня нюх, штурмовик. И память – тоже! А летаешь ты как? Как брешешь?
– Никак нет, товарищ гвардии генерал-лейтенант. Летаю куда лучше: я брехун – любитель, а летчик – профессионал.
Почему-то это ему не понравилось. Генерал нахмурился, отвернулся от меня.
– Профессионал?! – И, обращаясь к Носову: – Где твоя машина, командир? Сейчас я слетаю с этим профессионалом на свободный воздушный бой. Поглядим, какой он на самом деле профессионал.
На высоте в две тысячи метров мы разошлись в противоположные стороны, чтобы через восемьдесят секунд встретиться в стремительной лобовой атаке.
Я твердо знал: в учебно-тренировочном воздушном бою предельно допустимое сближение на встречных курсах не должно быть меньше четырехсот метров. Но решил: первым не сверну!
Он – начальник, вот пусть и отвечает за безопасность, пусть обеспечивает…
Мы дрались минут семь.
Никогда раньше я так не старался в учебно-тренировочном бою.
«Вотты, – думал я, – сомневаешься, какой я профессионал? А почему? У тебя звание выше, орденов больше… И что с того? Себя не пожалею, тебя не пожалею, лучше столкнусь, чем уступлю! Ты – летчик, я знаю, но и я – летчик. Истребитель должен быть злым… в бою…»
Небо становилось из голубого черным, снова голубым и – розовым, потом опять чернело; спина уже переламывалась, и вся требуха поднималась из живота к горлу… Играли перегрузки.
Эта мука не кончалась и, казалось, никогда не кончится. Но так не бывает, всему приходит тот или иной конец.
Я услышал в наушниках шлемофона голос Суетина:
– Выход из боя! Выход из боя… Снижаемся в паре. Через пять минут я стоял перед генералом.
Заметил: у него лопнул кровеносный сосудик в глазу и белок сделался светло-розовым. Сознаюсь: обрадовался. Розовый белок свидетельствовал – и генералу досталось в этом бою…
– Ты всегда так дерешься?
– По вдохновению, – сказал я и притаился. Что последует?
– Ты – опасный нарушитель, Абаза. С тобой надо бороться.
– Так точно, товарищ генерал, – как война кончится, Гитлеру капут сделаем, можно будет за меня приниматься.
– Напрасно смеешься, – сказал он задумчиво, – если ты доживешь до конца войны, Абаза, так приблизительно и будет: ты очень опасный нарушитель.
Часом позже, вполне удовлетворенный столь тревожно начатым днем, я заканчивал тренировочный пилотаж в зоне.
Пилотаж! Иду резко вверх, оборачиваюсь «бочкой», ложусь на спину и – к земле. Ох и машина «лавочкин»! Фантастика! Может, чуть тяжеловата, если откровенно сказать, но за ручкой ходит, но высоту берет…
Поглядел на часы: мое время кончилось. Подумал: пора. И тут увидел – на светлом покрове земли движется четкая тень. Пригляделся – По-2. Низко-низко летит, будто крадется.
Особо ни о чем не размышляя, я опрокинул своего зверя через крыло на спину, слегка довернул на пикировании и ринулся на «цель». Захватить По-2 в перекрестье пушечного прицела – не трудная задача. Но этого мне показалось мало: а если впутать его в струю «Лавочкина», вот перепугается парень…
И впутал.
Проскочил под «противником» и сразу под самым его носом рванул горку…
Сел в положенное время. Никаких сомнений или угрызений не испытывал. Думал только об одном: до чего же хороша машина «лавочкин».
Прошло минут пятнадцать, может быть, чуть больше, над посадочной полосой прострекотал По-2. Приземлился у самого командного пункта. Ясно – начальство. Машину летчик не убирает. Носова к себе поманил пальчиком. Совещались они не дольше минуты.
Меня – на ковер!
Оказался Суетин. Летел он в соседний полк, но вернулся, чтобы выяснить, кто с бортовым номером «72» летает.
– Абаза?
– Так точно.
– Говори, тебя сразу к чертовой матери из корпуса выгонять или сперва наказать? Как сам считаешь?
– Сначала, товарищ гвардии генерал-лейтенант, для пользы службы надо обязательно наказать.
– Пять суток хватит?
– Многовато, товарищ гвардии генерал-лейтенант, нам ведь запланировано через три дня на фронт вылетать.
– Вот и поедешь с наземным эшелоном, без ремня поедешь… Для позора и осознания! Эх, Абаза, Абаза, умрешь ты лейтенантом.
– Так точно, товарищ гвардии генерал-лейтенант: летчик и должен быть молодым…
21
Всю жизнь мне приходится хоронить товарищей. Некоторые считают – профессия такая. Но это как сказать: по точным статистическим данным, авиация сегодня – самый безопасный, самый надежный вид транспорта.
И все-таки без катастроф в нашем деле не обходится.
Хоронить я никак не привыкну, не могу примириться с этой сражающей наповал картиной: был человек – нету… Слышу разговоры – не спешил бы с разворотом. Или – надо бы сразу пожарный кран перекрыть… Или – какая нелепая катастрофа, и удивляюсь – можно подумать, что бывают катастрофы «лепые».
Шурика Саенко я знал со времен летной школы. Он был лучшим гимнастом нашей эскадрильи, он отличался завидной приспособляемостью – одинаково хорошо ладил и с мотористами, и со старшинской публикой, и с курсантами, он всегда правился начальству. Потом, став самостоятельным человеком, Шурик не вызывал зависти коллег, ему охотно прощали мелкие слабости, а все потому, что понимали – добрая душа Шурик, бесхитростный мужик – не обманет, никому преднамеренной бяки не сделает, от чужого куска не откусит.
И вот катастрофа.
Шурик испытывал опытный образец машины с резко – втрое против обычного – увеличенным размахом крыла. Аппарат предназначался для полетов на сверхвысотах, где воздух такой слабенький, что коротенькими крылышками за него просто не зацепиться.
С самого начала было ясно: на взлете возможны трудности.
У больших крыльев большая подъемная сила, двигатель на машине мощнейший, значит, отрыв от земли должен получиться ранний. Хватит ли устойчивости на малой скорости – это предстояло выяснить в первую очередь.
Впрочем, в тот день Шурик не собирался взлетать. Думал только побегать по аэродрому, примериться к машине: как направление держит, как тормоза работают. А еще хотел понять, как обдуваются рули.
Но вышло не по писаному.
Едва стронувшись с места, машина резко подняла нос, пробежала каких-нибудь полсотни метров, оторвалась от земли и стала раскачиваться с крыла на крыло. Долгие ее консоли едва не цепляли за бетон. И Шурику никак не удавалось попасть в такт, чтобы как-то утишить, парировать раскачивание элеронами. Он рухнул в конце взлетной полосы и сразу загорелся.
Потом, как всегда в подобных случаях, говорили:
– Надо бы сразу прервать взлет.
– Не следовало давать полные обороты во время разбега…
– Непонятно, почему он довел машину до отрыва?
У нас свобода слова: каждый говорил чего хотел.
Аварийная комиссия работала, но официального заключения еще не было. Может быть, поэтому поминки Саенко проходили особенно напряженно. Возможно, впрочем, мне это только казалось. Какие другие поминки бывали непринужденными? Запомнилось упорство, с каким во всех речах, произнесенных за траурным столом, повторялось, каким великолепным, каким всегда предусмотрительным, необычайно расчетливым и бескомпромиссным испытателем был Саенко.
Всей силой коллективного авторитета ребята «давили» на аварийную комиссию, стараясь исключить из будущего акта вполне возможные слова: «Считать виновником катастрофы летчика-испытателя Саенко, допустившего…» – перечень ошибок и прегрешений.
Ясно, товарищи Саенко руководились лучшими намерениями. Люди старались изо всех сил. И все-таки… мне казалось – за таким столом должны были звучать другие слова.
Разговорный жанр – не моя стихия.
По части публичных выступлений, пламенных речей я никогда не блистал, не отличался… Но тут вместе с горьким вином, вместе с обидой за Шурика что-то накатило, толкнуло меня, и я взял слово:
– Мужики, пусть аварийная комиссия напишет, что найдет нужным, что положено писать. Не будем совать нос в ее дело. Шурик в реабилитации не нуждается… И вообще какая может быть разница – кто виноват? Саенко, можно с уверенностью сказать, наперед отработал любой самолет. Авансом отработал. Понятно? И я хочу сказать тут про нашего Шурика, про самого… Он пожрать любил вкусно. Он баб любил. Он постоянно себя мучил: зимой – лыжами, летом – велосипедом… Ему требовалось преодолевать… Такой уж характер.
Помирать, конечно, никому неинтересно. Но учтите – Саенко правильно закончился – преодолевая… и в полете. Сразу. Дай Бог так каждому, не мучаясь. У меня просьба к вам, товарищи, давайте будем его помнить живого, каким он был на самом деле. Не надо сиропить. Ему этим не помочь, а нам, ребята, стыдно… – Так я говорил, пока меня силком не усадили на место.
И сразу же, еще за траурным столом я почувствовал – потянуло холодком, какой-то отчужденностью. Только сперва не мог понять, откуда и почему.
А на другой день в летной комнате замечаю: не так на меня смотрят товарищи, не так, как недавно смотрели. Никто – ни слова, только глядят осуждающе.
Отлетались и тогда мне дали понять. «Для чего, – спрашивают, – ты про баб выразился? У нас тоже жены имеются, – говорят, – они на поминках присутствовали и слушали. – И еще спрашивают: – А как ты думаешь, надо было Шурки ной супруге получать информацию о его бабах в такой момент?»
И для чего членов комиссии было подковыривать?
Пришлось признать – виноват. Язык мой – враг мой. Попутал. В какой уже раз.
Впрочем, я тогда думал и сейчас готов подтвердить: говорил одну чистую правду, крупиночки не сбрехнул, не для красного словца старался. Чего хотел? Хотел, пусть люди почувствуют, что в Шурике было самым главным, его голубую, как небо, душу оценят, – его любовь к жизни оценят. Хотел, да, видать, не сумел.
Есть во мне такая несуразность – не способен я к обходному маневрированию. Сколько ни пытался – не получается.
Хвалюсь? Ни в коем случае. По нынешним временам – сомнительная это доблесть… И лучше бы мне, наверное, промолчать, да обещал – ничего не утаю. А уговор дороже денег.
22
Не знаю даже, следует ли мне после Коллинза, Бриджмена, Галлая и Эвереста рассказывать о существе летно-испытательной работы. Многие уже пробовали, и большей частью напрасно: или таланта не хватало, или собственного профессионального опыта, у одних – летного, у других – литературного.
Но об одном эпизоде умолчать я не в силах.
Вскоре после того, как я закончил специальную подготовку и приступил к исполнению своих обязанностей на новом уровне, меня позвал Лебедев.
Два слова об этом человеке. Был он умен, красив, осмотрителен, смел и азартен сверх всякой меры. В авиационном мире был живой легендой.
Позвал меня Лебедев и говорит:
– Ухожу в отпуск, закончи, старичок, программу. Начальство не против. В чем там вся хитрость? Тебе надо ничего не делать. Присутствовать и запоминать.
И он живо нарисовал мне картину предстоящего полета, сложности которого я не оценил.
По заданию следовало набрать четыреста метров высоты, сделать обычный круг над аэродромом, выйти на посадочную прямую, снизиться до восьмидесяти метров и над ближним радиоприводом включить автоматику.
До высоты в шесть – восемь метров полагалось убедиться, что самолет надежно управляется без участия летчика, и тогда снять со штурвала руки, а с педалей – ноги и… смотреть во все глаза, запоминая и оценивая действия автоматики.
Опущу техническую сторону дела: игру электронных импульсов, посылаемых на землю и возвращаемых землей, сложное преобразование радиосигналов в усилия гидравлической системы – предмет увлекательный, но плохо поддающийся популяризации. Про это не буду. Сразу перейду к финалу. А финал, как я мог себе представить, должен был выглядеть так: самолет без моего вмешательства приземляется, теряет на пробеге скорость и останавливается. Сам! Затем я заруливаю на стоянку, машину осматривают, после чего я повторяю взлет, а автоматика – посадку.
Вводя меня в курс дела, Лебедев сказал:
– Техническая сторона более или менее ясна. С точки зрения психологии – хуже. Действовать всегда легче, чем бездействовать. Понимаешь? И как тут привыкать? Надо прежде всего поверить в эту холеру… Я почти поверил, но привычки, старый мой опыт все-таки бунтуют. Они – против.
– И ты решил отдохнуть в отпуске? – спросил я. Лебедев не ответил, хотя на его открытом красивом лице можно было прочесть: «Ну и нахал ты, Абаза!»
На высоте восьмидесяти метров, как только зазвенел звонок радиопривода, я проверил скорость, перекинул тумблер вверх, выждал ровно пять секунд и снял ноги с педалей. Управление ходило мелко и четко. Самолет надежно сохранял направление.
Я отпустил штурвал. И он тут же задергался неживыми, жесткими, очень уж выверенными движениями. Покачиваясь с крыла на крыло, машина – правда, самую малость – начала опускать нос. Бетон приближался, наплывал в лицо.
Хорошо были видны черные следы стертой при торможении резины, заметны были отдельные масляные пятна, швы между плитами…
«А если эта холера приложит меня с последнего метра?» – подумал я вдруг. И когда увидел, как пошли назад рычаги управления двигателями – мне показалось, слишком быстро, – перехватил управление, выключил автоматику и ушел на второй круг. Справедливости ради признаю: я едва сам не приложился с последнего метра, это опасная акробатика – выхватывать штурвал над самой землей.
В тот день я сделал четыре захода и ни одной автоматической посадки. Никто меня не торопил, никто не понукал. Давали время освоиться, привыкнуть, преодолеть себя.
На другой день, не стану объяснять как, но с первого же захода я приземлился на автомате. Зарулил на стоянку. Выключил двигатели и пошел отказываться от дальнейших полетов.
Настроение было, как бы поточнее выразить… моросящий дождь с туманом.
Два марша по широкой лестнице, я у цели.
В просторной светлой комнате начлета, бывшего планериста-рекордсмена, под потолком, расписанным кучевыми облаками и парящими планерами изумительной красоты, я обнаружил… Лебедева.
– Кто-то, мне казалось, собирался в отпуск?
– Задержался на денек: хотел посмотреть, как у тебя получится затравка.
– Я пришел отказываться.
– Почему?
– Я – не Гастелло.
Лебедев проворно поднялся со своего места, обошел начлетский стол, взял меня бережно под руку и повел к двери. Со стороны это, должно быть, выглядело забавно. Только у самого ангара он сказал:
– Как же хорошо, что там никого лишнего не оказалось. Старичок, посторонним не следует такое слышать. Пойдем на машину и слетаем вместе. Надо, старичок, перешагнуть… непременно, Коля, надо. И – никаких возражений.
Мы сделали три посадки в автоматическом режиме. Ничего более отвратительного я не испытывал.
Мы очень сблизились с Лебедевым за эти немногие минуты, вытягивавшие у меня душу. Пожалуй, удивляться тут нечему.
Его фотография – на моем столе.
Обыкновенный любительский снимок, без черной рамки.
Лебедев смеется и, случается, вопреки здравому смыслу высказывает мне иногда очень откровенные и отнюдь не комплиментарные вещи.
23
До чего же крепко вцепились в память – я их и сейчас вижу – эти корявые строчки: «… график – изображение линиями свойств, действий, явлений во всех случаях, когда таковые могут быть определены числами». Это я сам писал под диктовку математика.
Со школы каждое слово помню. Каждую буковку, кажется, вижу. И это подтверждает: что такое график – я знал давно и твердо, но знать – одно, а представлять, чувствовать – совсем другое.
Мне тысячу раз толковали: вот, смотри, на вертикальной оси отмечаем температуру в градусах, на горизонтальной – годы. Берем соответствующий год, и – еще… пока не образуется система точек. Остается последовательно соединить эти точки и получить график, наглядно рисующий состояние климата, его изменения и тенденции в определенной точке земного шара за известный отрезок времени…
Я смотрел на кривую, вычерченную внутри прямого угла, вроде бы понимал: сначала было холоднее, потом, в течение пяти лет, погода держалась более теплая… и снова средняя температура снизилась. Все это я понимал, но никакого ощущения при этом не испытывал. Мог разобраться в графике, но не более того… Наверное, не хватало воображения, или я не чувствовал особой необходимости проникать в глубинную суть бессловесных кривых. Получал по математике и физике обычно четверки, а чего еще надо?
Никогда бы не мог поверить, что придет время, и я стану жить графиками, рисковать собственной головой ради единой не вполне ясной точки графика. И ощущать себя счастливым, когда сомнительная точка прояснится, и глубоко несчастным, когда другая точка вдруг подведет меня.
Испытания были закончены.
Машина получила вполне приличную оценку. Правда, и список доработок, приложенный к акту, оказался довольно пространным. Но это обычно.
Теперь мне предстояло перегнать самолет из центра на восточную базу. Расстояние для истребителя порядочное, покрыть его для подвесных баков невозможно.
К подготовке маршрута привлекли не только штурманские силы, но и представителя двигатели сто в пригласили.
К концу дня графики расхода горючего, резко менявшие свой характер в зависимости от высоты и скорости полета, лежали на моем рабочем столе.
В авиации всегда так: хвост вытащишь – нос увязнет. Хочешь долететь быстрее, вроде бы ясно – увеличь скорость, но, коль скорость больше, горючего расходуется тоже больше и может не хватить… Чем выше летишь, тем сопротивление воздуха меньше – вроде выгодно, но… тяга двигателя с высотой падает…
Короче говоря, всякое решение должно быть компромиссным, держаться на взаимных уступках.
Расчеты были сделаны.
График полета готов. Инженерные рекомендации сведены в четкую таблицу и перенесены в наколенный планшет.
Старший штурман и главный двигателист подвергли меня перекрестному допросу. И убедившись, что график я усвоил, в таблице разобрался, украсили полетный лист своими подписями и большой гербовой печатью.
Можно было лететь.
На семи тысячах, как и обещали синоптики, облачность не кончилась. Но это меня не огорчило. Поставил обороты по таблице, проверил режим горизонтального полета и, продолжая пилотировать исключительно по приборам, устремился к цели.
– Курс? – время от времени спрашивал я себя и отвечал, взглянув лишний раз на компас: – Заданный.
– Скорость? Нормальная.
– Высота? Высотомер докладывал: «Нормальная». Вариометр предупреждал: «Без отклонений идешь». А секундомер знай свое, накручивал время.
Цена минуты была достаточно высокой – двадцать километров! За каждые пять минут я пролетал сто километров. Пройдя чуть меньше половины маршрута, проверив расход топлива, подумал: впереди, совсем уже рядом – точка возврата. Это – край, последний рубеж, с которого я еще мог в случае чего вернуться на аэродром вылета.
Перешагну точку возврата и лишусь такой возможности. И тогда – только вперед, только до цели.
За правильность принятого в полете решения отвечает летчик.
За успешное выполнение своего правильного решения отвечает тоже летчик.
И за все остальное, что происходит на маршруте, вообще в небе, отвечает летчик.
Точку возврата я прошел в расчетное время. Но вскоре обнаружил: горючее в баке убывает быстрее, чем должно убывать.
Возможен дефект в тарировке прибора. Но с чего? Летал до этого, все сходилось. Возможно, нарушение регулировки двигателя? В наихудшем варианте не исключается утечка топлива…
А машина летела. Минута – двадцать километров. И у меня не было возможности снять руки с управления, покопаться в двигателе, обдумать положение.
Усилием воли и воображения заставил себя увидеть график расхода горючего: его плавная элегантная кривая показывала совершенно отчетливо – граница наименьшего потребления топлива на километр пройденного пути лежит на одиннадцати тысячах метров высоты. Мешкать нельзя. Следует идти вверх – немедленно, сейчас же, но… На каких оборотах, в каком режиме набирать высоту, чтобы не проиграть в дальности полета?
Я заглянул в наколенный планшет и почувствовал себя крайне неуютно: надо давать полные обороты, чтобы получить максимальную скороподъемность… Но все мое существо, долгий надежный опыт летчика поршневой авиации требовали: убрать обороты, снизить скорость, зажаться, экономить. Я понимал: у реактивных двигателей иные законы. Только понимать – это еще не все, надо найти в себе силу подчиниться закону.
Повлажневшей ладонью я перевел рычаг управления двигателем вперед до упора, поднял нос самолета и доложил земле обстановку.
Солнце за облаками показалось особенно приветливым и более дружелюбным, чем обычно. Хотя, если смотреть на вещи совсем трезвыми глазами, солнце никак не влияло на исход полета.
Последние семнадцать минут на маршруте были не лучшими. Нет ничего отвратительнее сознания: мне страшно, а сделать ничего не могу, могу только ждать…
Но все хорошо, говорят, что хорошо кончается.
Посадку я выполнил на аэродроме назначения. Время полета превысило расчетное всего на шесть минут. Замерили остаток топлива в баках, оказалось – двести двадцать литров. Как показала проверка топливомера, прибор подвирал, завышая расход топлива, когда остаток горючего становился меньше половины.
Мои действия в полете были признаны правильными.
Через неделю, может быть, через десять дней все благополучно и безболезненно забылось. Миновала еще одна неприятность.
Но осталась память: непроглядные серые облака и словно золотым теплым светом прорисованный на них график расхода топлива. Элегантная инженерная кривая, полная смысла, дружественной информации… Спасительная кривая.
Наверное, не каждый меня поймет, если именно здесь я замечу – люблю и почитаю абстрактную живопись, хотя и не сумею объяснить толком, за что и почему…








