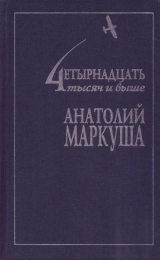
Текст книги "Грешные ангелы"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
37
– Скажи, Абаза, на пилотаж у тебя аппетит еще не прошел? Держится еще задор? – спрашивал генерал Суетин.
И я старался сообразить: к чему такое начало? Особых нарушений за мной не числилось. Неудовольствия начальство тоже не выражало. Но спрашивал-то Суетин неспроста – уж будьте уверены, на этот счет у меня был как-никак опыт и нюх.
На всякий случай я склонил голову к плечу, вроде вошел в состояние глубокой задумчивости… И, пока было возможно, молчал…
– Есть интересное задание, Абаза, – заговорил вновь Суетин. – Показательный пилотаж. Работать тут, над центром аэродрома. И надо, чтобы публика ахнула…
– Какое прикажете упражнение выполнять?
– Не валяй дурака, Абаза! Ты был шустрым и сообразительным мальчиком. Высокое, – он поднял руку над головой, – наземное начальство, которому мы, к сожалению, теперь подчинены, желает видеть, что могут «прикомандированные» к нему летчики. Короче, устраивается праздник: будут парашютные прыжки на цветных куполах. Воздушный «бой» пары против пары, штурмовка, катание публики на вертолетах…
Нетрудно было сообразить: Суетин всей этой затеей недоволен. Скорее всего, праздник генералу навязали.
И подумалось: «Но как тебе, братец, ни противно наземное начальство увеселять, на что-то ты рассчитываешь…»
– Время, отводимое на пилотаж?
– Пять минут чистых – над полем.
– Высота, – спросил я, – от и до?
– От метра, выше нуля и, чтобы не скрывался из глаз, до. Комплекс составь сам, свободный. Доволен?
– Есть! – сказал я и был отпущен с миром.
Точно в назначенный момент я ворвался налетное поле, снизив свой Як ниже леса, ниже телеграфных проводов…
Подумал: «Ты сказал: плюс один метр выше нуля, честь имею… Получай!» – и тут же представил встревоженное лицо моего непосредственного начальника и напряженную улыбку генерала Суетина.
Я подхватил ручку на себя, слева мелькнуло оранжевое пятно – тент, сооруженный для гостей, – мелькнуло и исчезло.
Я поставил машину в зенит, выждал чуть и повел ручку к борту, нажимая ногой на педаль. Як плавно обернулся одним… вторым… третьим витком восходящей «бочки». Тут я помог машине лечь на спину, аккуратно зафиксировал положение вверх колесами, головой вниз и дал опуститься носу к земле. Отвесно.
Пилотаж, наблюдаемый с земли, кажется хорошо отрепетированным танцем. Танец может быть быстрым или медленным, но всегда фигура переходит в фигуру без рывков и изломов – локально гладко, безостановочно.
Пилотаж, ощущаемый летчиком, это прежде всего сменяющие друг друга перегрузки: темнеет в глазах, отпускает, давит, давит… а теперь тащит с сиденья вон из кабины… И снова потроха в горло… А следом: голова ничего не весит… плывет…
Мрак, красное марево… голубое небо…
И все время тревога – направление? Темп? Скорость? Высота? Скорость?..
Я всегда мечтал: взлететь и, не думая об ограничениях, последствиях, объяснительных записках, остаться один на один с машиной… И вот этой сменой перегрузок, что туманят мозг, что лишают тебя веса, выразить свое отношение к нашему ремеслу.
Для чего? Не знаю. И, по правде, не хочу знать.
Для чего поют птицы? Для чего люди сочиняют музыку? Кому нужны рекорды на снежных трамплинах или в прыжках с шестом?
Может быть, сам человек для того и задуман, чтобы выражал себя в невозможном?!
Заканчивая пилотаж, я завязал двойную петлю и собирался уходить резким снижением, чтобы скрыться из глаз зрителей за темно-зеленым неровным краем соснового леса, но услышал в наушниках:
– «Клен-четыре», благодарю за работу. – Последовала маленькая пауза, и Суетин сказал: – Главнейший просит произвести посадку здесь.
– Вас понял. Исполняю, – ответил я. Проверил высоту. Нормально. Поддернул машину. Аккуратно перевернулся на спину и, энергично работая рулем высоты, стал выходить на посадочную глиссаду. Направление? Нормально…
Высота? Чуть снизить…
«Пора, шасси, – сказал я себе и тут же выпустил колеса. – Со щитками не спеши… Та-а-ак, теперь в самый раз…»
Мягко коснувшись бетона, Як пробежал что положено и вот-вот должен был остановиться, когда я услышал:
– «Клен-четыре», подрулите к шатру.
Открываю фонарь. Расстегиваю привязные ремни. Освобождаюсь от парашютных лямок…
Соображаю, глядя на блестящую трибуну, кому докладывать. И не могу решить. Тяжелое золото погон просто-таки подавляет меня.
Старший по званию, насколько удалось разглядеть, – маршал рода войск. Но каких? Не могу разобрать…
Импровизирую, играя на повышение:
– Товарищ Маршал Советского Союза, разрешите обратиться к гвардии генерал-лейтенанту Суетину! Он перебил меня:
– Обращайтесь, обращайтесь…
– Товарищ генерал, ваше задание выполнено. Докладывает…
И по тому, как Суетин досадливо махнул рукой, я понял: представляться и докладывать следовало наземному начальству. Видимо, для того меня и усадили здесь и велели подрулить к трибуне.
Тем не менее почетная трибуна приветствовала меня весьма сердечно.
Была задана куча вопросов: не страшно ли так низко летать, не кружится ли голова?.. Вежливо выслушав все слова, ответив на все вопросы, я отколол латунные крылышки военного летчика первого класса и, стараясь сделать как лучше, протянул их молодой женщине, стоявшей рядом с маршалом и белозубо мне улыбавшейся.
– Позвольте вручить на память?
– Если папочка не будет возражать, – сказала она кокетливо, – с большим удовольствием. И я, идиот, клюнул.
– Позвольте, товарищ маршал?
Он поглядел на меня из-под нависших бровей усталым взглядом и сказал ворчливо:
– Что именно позволить? Если вы собираетесь ухаживать за моей женой… то обычно на это разрешения не спрашивают.
Бочка меда – капля дегтя.
Небо над нами стояло синее-синее.
Зубы у женщины были перламутрово-ровные и белые.
Пилотаж, черт меня задери, получился!
Так где же деготь?
Всю жизнь, но особенно в детстве, меня ругали – я уже говорил об этом, – иногда гневно, иногда так… для порядка, чаще задело ругали, реже – зря. И никак я не мог приспособиться к «законному» порядку вещей: допустим, мне объясняют – разговаривать во время уроков с соседом по парте стыдно и плохо… Я должен при этом хлопать глазами, соглашаться и обещать исправиться, никогда больше не повторять. У меня так не получалось. Прав или не прав, я лез оправдываться, доказывать свое, и, как правило, ничего хорошего из этого не получалось.
Кто много говорит о любви к самокритике или уверяет, что жить не может без принципиальной товарищеской взыскательной критики, врет. Нормальный человек не может обожать осуждение, хотя бы и самое дружественное. Стерпеть, принять во внимание – куда ни шло, но не более. Нормальному человеку должно быть приятно слышать слова одобрения в свой адрес, слова сочувствия, тем более, хоть изредка, слова восторга.
Правда, я думаю, что каждый, поступая как-то не так, выпадая из общего ряда, нарушая принятые нормы, отлично понимает – он не прав. Сам понимает, без напоминаний…
Понимал это и я. И много раз старался начать совершенно новую жизнь: безошибочную!
Как мне это представлялось?
С первого числа буду делать физзарядку, говорил я себе, придумывал «железные клятвы» и ждал первого числа в твердой и совершенно искренней уверенности – начну полнейшее обновление. Но почему-то именно накануне заветной даты я заболевал, мне предписывалось лежать в постели. Никакой речи о физических нагрузках не могло быть… Потом я выздоравливал, надо было наверстывать упущенное в школе, и «старое» первое число приходилось переносить на другое, таившееся в туманной дали.
Или: дал себе твердое слово – бросаю курить! Казалось, будто врачи поглядывают с каким-то подозрением, а в авиации одного слова доктора достаточно, чтобы человек распрощался с полетами если не навсегда, то надолго. Короче говоря, я сам принимал решение: надо, пора отказываться от сигарет. В принципе все ясно…
А дальше? Вот отлетаем инспекторскую проверку, схожу в отпуск, вернусь отдохнувший, успокоенный морем и с первого числа брошу. Проходила инспекторская, проходил отпуск, я возвращался в часть, а там меня ждал приказ: «Назначить членом аварийной комиссии по расследованию катастрофы, имевшей место…»
И надо было лететь в соседний гарнизон, копаться в обломках вдребезги разнесенной машины, помногу часов напряженно опрашивать свидетелей, искать виновников… Словом, никому такой работенки не пожелаю, вся – на нервах.
Но приказ есть приказ.
И вот идет день за днем в предельном напряжении, как тут бросить?
А первое число – мимо.
Тем не менее новую жизнь я начал все-таки с первого числа. Правда, эту дату назначил не я. Первое число, можно сказать, догнало меня и поставило на новые рельсы.
Носов сдал полк. На его место пришел подполковник Шамрай. Худого сказать не могу: новый командир свое дело знал. Академию успел закончить в первом послевоенном выпуске, так что и практика и теория у него соответствовали требованиям.
Но отношения наши не заладились с первого числа.
На офицерском совещании Шамрай кругло и складно говорил о порядках, которые он собирался установить, и получалось, вроде новый хозяин все бывшее до него не поносит, но… полагает, надо начинать с нуля, заново.
В заключение он сказал:
– У кого, товарищи офицеры, есть вопросы?
Встав, как положено по уставу, назвавшись, я спросил:
– Как вы можете объяснить, товарищ подполковник, что полк при старых порядках сбил за время войны шестьсот тринадцать самолетов противника?
– Пока не могу, – ответил Шамрай.
И вот с этого момента отношения наши не заладились. Примерно через полгода командир пригласил меня к себе в кабинет и завел такой разговор:
– До меня дошло, Николай Николаевич, что вы стремитесь покинуть полк, так ли?
– Никаких официальных шагов я не…
– Помилуйте, разве ж я в осуждение! Просто хотелось бы знать, соответствует ли такое вашему желанию?
– В этом полку я отвоевал войну, здесь стал тем, кто есть.
– Понимаю и ценю. Но открылась, как мне кажется очень подходящая для вас вакансия. Приемщиком на завод не желаете?
Все во мне задрожало. Испытателем! Так какой же летчик откажется от такого счастья. Но виду не подал, спросил:
– Ваше предложение имеет адрес?
– Естественно. – И Шамрай назвал, правда, не завод, скорее солидные ремонтные мастерские, где приводились в порядок хорошо мне знакомые самолеты и двигатели.
– Подумать можно?
– Сутки, – усмехнулся Шамрай.
Первого числа я приступил к исполнению своих новых обязанностей.
Теперь я был сам себе начальником. То есть формально надо мной стояло достаточно много старших по должности и званию, но практически за все хорошее и плохое, что могло и обязательно должно было случаться, ответственность лежала на мне.
38
Наконец-то жизнь вошла в желанные берега. Ни тебе утренних построений, ни долгих предполетных подготовок, тем более – разборов полетов. Утром я приходил на свой заводик, узнавал, сколько машин готово к облету, что на них делалось накануне, составлял таблицу полетов, нес эту единственную официальную бумагу к главному инженеру, он, обычно не заглядывая, ставил подпись и всегда говорил одно и то же:
– Только, мил-друг, попрошу осторожненько! – и отпускал меня с миром.
Потом я летал, стараясь быть на самом деле осторожным: мне вовсе не хотелось лишаться этого сказочного места. После полетов я давал замечания по работе материальной части ведущему инженеру, механикам, заполнял отчет и был свободен.
Вначале меня даже сомнение брало: ну что это за испытательная работа, когда ничего не случается? Давила на сознание расхожая литература, охотно изображающая испытательные полеты как некую разновидность боя быков или показательных выступлений гладиаторов.
Но постепенно я привык, втянулся и вовсе не искал приключений на собственную голову.
Давно уже и твердо усвоил: главный показатель успехов в авиации – отсутствие ЧП и предпосылок к ним!
Старался жить без ЧП и без предпосылок.
И это удавалось.
В тот день я взлетел, как обычно, и сразу после отрыва перевел кран уборки шасси на подъем. Видел: погасла левая зеленая лампочка, следом – правая. Чуть спустя почти одновременно загорелись красные огоньки: шасси убралось, стойки встали на замки.
Все в порядке.
Набрав заданную высоту, прогнал площадку и убедился – максимальную скорость мой «ероплан» хоть и без особенного удовольствия, но развивает. Выполнив с десяток фигур, не обнаружив при этом никаких отклонений, я начал снижаться.
Подошло время выпускать шасси. Давление в гидравлической системе соответствовало. Мне следовало перевести кран в положение «выпуск» и ожидать…
Погасли красные лампочки. Чуть позже загорелась левая зеленая, а правая – не включилась.
«Здрасте! – сказал я себе и подумал: – Может быть, не в порядке сама лампочка?» Нажал на кнопку контроля: зеленый глаз тут же вспыхнул. Значит, стойка шасси не становится на замок. Почему?
Доложил ситуацию земле, попросил:
– Пройду над стартом, а вы поглядите, в каком положении правая нога шасси.
Земля поглядела и передала:
– Стойка убрана, встречный щиток закрыт.
Если замок не раскрылся, рассуждал я, аварийный выпуск применять нельзя. Но… красный сигнал погас. Стало быть, замок должен был открыться.
Проверил положение крана выпуска шасси и открыл аварийный вентиль. Положение не изменилось.
Что же могло произойти?
На взлете, после того как погасли зеленые лампочки и еще не загорелись красные, до меня дошел… Нет-нет, «дошел» – слишком сильно сказано… мне почудился легкий скрежещущий звук, даже, пожалуй, и не звук – намек… сотрясение. Так бывает, когда на колесах вместе с грязью поднимается в купол какой-нибудь посторонний предмет – прилипший камушек, железка… Но я взлетал с совершенно сухого бетона.
Тогда я велел себе: запомни.
Теперь я решил набрать высоту и попробовать вытряхнуть колеса из купола перегрузкой: снижался и резко рвал машину вверх. Еще, и еще, и еще раз.
Машина кряхтела, нога не выходила.
Я уже начал с тревогой поглядывать на бензиномер, как бы не остаться без горючего, но тут, не знаю, на каком по счету выводе из пикирования, тряхнуло, и я, раньше чем увидел загоревшийся зеленый глазок, понял – нога встала на замок, все в порядке.
На земле самолет подняли на козелки, вывесили, произвели контрольное опробование гидравлической системы: шасси убиралось и выпускалось беспрепятственно. И тут я заметил первый косой взгляд, брошенный в мою сторону. Долго не думая, спросил механика:
– Давай назови вариант ошибочных действий летчика, при котором одна нога выходит, становится на замок, а другая остается в куполе. Ну?
Механик пришел в замешательство.
– Да я ничего… только видите: гоняем, а они и выпускаются и убираются путем…
Меня отозвал в сторону ведущий инженер и предложил:
– Давай так, Николай Николаевич, месяц кончается… подпиши приемку… А мы все в лучшем виде отладим, и завтра машинка будет как штык. А то премия…
– Нет, – сказал я. – Сначала найдите дефект и устраните, потом я слетаю и тогда подпишу.
– Но план…
– Нет, – сказал я, твердо убежденный – все правильно, по законуи по совести.
Отказался подписывать, и сразу же мысль ушла в сторону: а почему все-таки могла не выйти стойка при открытом замке? Чудес-то не бывает…
Изо всех перебранных мысленно вариантов остановился на одном – неправильно установлен встречный щиток колеса. В убранном положении его заедает, да еще скоростной напор добавляет в полете свое усилие, вот стойка и не идет… А на земле, когда воздушный поток отсутствует, гидравлика справляется.
С этим я вернулся к машине и высказал механикам свое предположение.
– Проверьте, отрегулируйте как надо, а я слетаю. Обернусь моментом.
– Сегодня не успеть. Светлого времени не остается. Обращения к энтузиазму, к совести рабочего класса воздействия не имели.
Трудовой день истек. Завтра.
Вечер был как вечер. А радость куда-то ушла: все вроде правильно, только мне тошно.
Мы часто встречались тогда с Шалевичем. Он, отлетав свое, перешел на новую, преподавательскую работу и много занимался проблемами психологии летного труда.
Позвонил Дмитрию Андреевичу, пожаловался на судьбу: вот-де все шло хорошо, никаких сомнений, а тут такая оказия… И не пойму, в чем, собственно, мой просчет.
– Формально, – сказал Шалевич, – ты стопроцентно прав. Но люди, что делать, не любят, когда им демонстрируют свое превосходство, даже совершенно очевидное. С наземной службой всегда выгоднее разговаривать в примирительном ключе: давайте-де, братцы-механики, посоображаем вместе. А вот так не могло быть? И пусть лучше бы все выглядело так, будто они тебя, а не ты их просвещаешь.
Скорее всего, Шалевич был и на этот раз прав. В мудрости ему никак не откажешь. Но соглашаться не хотелось. Все-таки время моего курсантства давно миновало…
Помню, еще Александра Гаврииловна, директор школы, отсылала меня к энциклопедии, велела взять том на «К» и прочитать там про компромисс…
Кто-то гениально сострил однажды: стрельба – это тоже передача мыслей на расстоянии. Вот ведь куда может завести компромисс…
Уважаемый Константин Андреевич. У меня нет сколько-нибудь веских оснований для этого нарушения воинской дисциплины и служебной этики – непосредственного обращения к Вам в обход многих ступенек иерархической лестницы, и все же я иду на риск, так как отчетливо понимаю: упустить время – значит, наверняка проиграть игру.
Два с половиной года я летаю в военной приемке. Мне не на кого и не на что жаловаться, кроме как на самого себя. Всю жизнь, начиная с семи с половиной лет, я непрерывно учусь, подвергаюсь контрольным опросам, зачетам, экзаменам и прочим… и всю жизнь мне удается благополучно проходить сквозь множественные рифы образования, но только теперь, получив настоящую самостоятельность, я ощутил потребность, а не печальную необходимость повысить свой профессиональный уровень.
Знаю: как раз теперь вверенное Вам управление начало формировать центр подготовки летчиков-испытателей. Условия, предъявляемые к потенциальным претендентам, порядок подачи документов и вся, так сказать, техническая сторона дела мне неведома. И я отважился обратиться к вам.
У меня, по мнению лиц, в чьем подчинении я находился долгие годы, много недостатков. Один из наиболее существенных – нескромность. Это верно: показной скромности я терпеть не могу и никогда к ней не стремился. Кстати, вопрос: а нужна ли такая черта испытателю? К чему говорить: «Постараюсь… попробую, если ты убежден – сделаю! Могу. В девяти случаях из десяти проявление такой скромности не более чем притворство, желание понравиться, влистить.
Обо мне говорят: невыдержан на язык, груб со старшими. Пожалуй, и это соответствует, хотя я считаю невыдержанность, грубость и т. п. свойствами позорными, недостойными…
Только при одном «но». Грубость как черта характера, как производная темперамента не может быть обращена на нижестоящих. Такое всегда напоминает поведение хама взрослого, обижающего ребенка, будучи стопроцентно убежденным – сколько-нибудь опасного сопротивления не последует.
У меня есть и другие недостатки. Накопилось некоторое количество взысканий, например, за длинные и пестрые годы службы… Однако я хочу обратить Ваше внимание, уважаемый Константин Андреевич, и на неоспоримые достоинства, которые и не всегда замалчиваются, но часто как бы набираются самым мелким шрифтом, вроде примечания.
Абаза – человек честный. Обучен честности в первую очередь мамой, считавшей с замечательной наивностью – врун жизни не достоин! И не случайно я открываю список моих положительных качеств именно этой чертой. Мне представляется: абсолютная честность, бескомпромиссная верность своему слову должны быть первейшими свойствами летчика-испытателя. Даже более важными, чем, допустим, смелость и настойчивость, хотя и то и другое качества совершенно необходимы.
Абаза хорошо летает. И это надо понимать шире, нежели способность получать отличные отметки при проверке техники пилотирования, фиксируемые в летной книжке. Я летаю осмысленно: знаю, что и для чего делаю, чем чреваты передозировка или изменение порядка действий скажем, при отклонении рулей. Я могу вполне технически грамотно описать поведение самолета в воздухе, связав это поведение с порядком моих действий… Надо ли продолжать?
Конечно, у Вас нет никаких причин, уважаемый Константин Андреевич, питать ко мне особое расположение или тем более какие-нибудь чувства. Надеюсь на Ваш здравый смысл и заинтересованностъ в делах авиации. Полагаю, явная целесообразность подскажет Вам текст единственно справедливой резолюции на этом письме: откомандировать нахала в создаваемый центр подготовки летчиков-испытателей для повышения его квалификации.
Примите мою самую искреннюю благодарность за это.
Готовый к услугам
Николай Абаза








