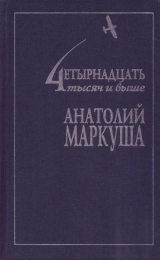
Текст книги "Грешные ангелы"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
42
Его прислали к нам на «полировку».
Начальство дало понять: надо помочь капитану, навести на него профессиональный блеск. Техника пилотирования у человека отличная. Проверено. Летает уверенно… На испытательную работу рекомендует сам Шувалов.
Признаться, мне было безразлично, кто рекомендовал капитана, Шувалов или кто-то еще вышестоящий. Я сказал:
– Хорошо, поглядим… А кто рекомендует, значения не имеет: летать капитану придется без Шувалова, самому…
Никто со мной не спорил.
В первый же летный день я без труда убедился: капитан пилотирует действительно хорошо. Уверенно и чисто выдерживает заданный режим. Показывает безукоризненную координацию движений. Невозможно было придраться и к осмотрительности человека в полете.
По самым строгим нормам строевой части – отличник. И все-таки чем-то этот капитан мне не нравился. Знаете, так бывает: не болит, а беспокоит. Очень похожее чувство я испытывал от общения с прикомандированным капитаном.
Мы снижались на большой лайбе, два винта были зафлюгированы. Я старался подвернугь поближе к четвертому развороту, чтобы очутиться в точке, гарантирующей попадание на полосу. Опытные винты ведут себя отвратительно – не держат оборотов, и я опасаюсь, как бы они не пошли вразнос.
Боковым зрением замечаю: капитан берется за рычаг выпуска шасси и готов перевести его вниз. Несвойственным мне тоном старшины сверхсрочной службы рявкаю:
– Отставить! Сначала выпусти посадочные щитки… и не спеши, не спеши! Теперь – давай…
Убедившись, что на аэродром мы при всех, даже наихудших условиях попадаем, сразу успокоившись, говорю своему второму:
– Вот теперь давай колесики выпускать. Капитан выпускает шасси. Садимся мы нормально. Полетик достался не из легких. Надо остыть, войти в нормальную колею. Вот теперь, пожалуй, можно и спросить:
– И чего ты полез шасси раньше времени выпускать?
– Согласно инструкции, колеса выпускают перед третьим разворотом, после чего – щитки, предварительно на пятнадцать, а после четвертого разворота окончательно – на пятьдесят градусов.
– Чеканишь ты правильно. Точно! Но на нашей работе надо не столько выполнять инструкции, сколько составлять. Ты же в испытатели нанимаешься.
Мы не ссоримся и не конфликтуем, но всякий пустяк мешает сближению.
– Аэродинамические материалы смотрел? – спрашиваю я.
– Дело правого, – говорит капитан, имея в виду место второго пилота в машине, – не мешать левому.
– А если меня кондратий хватит? – пытаюсь подыграть я.
– Такого удовольствия я от вас не ожидаю – треп? Понятно, треп. Только тон, как говорят французы, делает музыку…
Наш экипаж пригласили в конструкторское бюро. Ведущий проводил обзорную беседу по прототипу, на котором нам предстояло летать. Верно, еще не завтра и даже не послезавтра. Однако опыт учит: чем раньше испытатель начинает настраиваться на новую машину, чем дольше привыкает к ней, тем потом случается меньше неожиданностей и огорчений.
Все приехали вовремя. Капитан не показался на фирме. Мне пришлось, естественно, спросить: что же случилось?
– Так оно еще вилами на воде писано – будет ли машина и тем более будем на ней мы или кто другой? Так чего раньше времени мозги мусорить?
– У Заболоцкого есть стихи, – сказал и без всякого раздражения прочитал: – «Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!»
Почему-то именно эти стихи Заболоцкого ужасно оскорбили капитана. Настолько они его задели, что он пошел жаловаться.
– Лучше бы выматерил! А то, как мальчишку, за ухо… и давай эрудицией давить… какими-то там рифмами мозги пудрить! Разве я обязан, нет, серьезно, обязан я в поэзии разбираться? Превышает власть Абаза.
Начлет, подсунувший мне капитана, был в отпуске. Замещал его Лебедев. Какой у них получился разговор, не знаю, только вскоре капитан от нас убыл.
Слыхал, работает в военной приемке на заводе. Вроде с успехом. Доволен он, им тоже все довольны.
Много позже Лебедев подковырнул меня:
– Слабак ты, малый. Такого муравьишку не рассмотрел, стихи перед ним метать стал, словами хотел воздействовать… Его надо было на второй день гнать… – И Лебедев передразнил меня: – «Душа обязана трудиться…» Сначала надо, чтобы она была, эта душа!
43
У меня всегда была странная память – нужное для дела, или хорошей отметки, или в каких-то моих личных интересах запоминаю с усилием, со скрипом, медленно, порой мучительно, а что не имеет никакой цены – проходной пустяк, сущую мелочь, голова схватывает моментально и хранит бессрочно.
В далекой молодости возвращался я из Клина домой. Поезд был обшарпанный – и недальний и не пригородный, составленный из коротких, трясучих, продуваемых ветром вагонов. Полки громоздились одна над другой, отвратительно воняло дезинфекцией, и ко всему вагон освещался тусклыми свечками, вставленными в закопченные фонари – над каждой дверью по одному, а всего два.
В отделении, где я сидел, затиснутый в угол, было еще человек десять или двенадцать. Почти все спали. Только трое горячо спорили, касаясь материй высоты необычайной – о предназначении человеческой личности… о смысле существования… о вероятной встрече с марсианами (тогда еще жила вера в существование марсиан).
Этот жаркий спор раздражал меня. Какого черта шуметь и мусорить словами, думал я, в конце концов, предполагать можно все что угодно, но раз ничегошеньки невозможно доказать, какой смысл волноваться?
Мне очень хотелось не слышать чужого спора. Но в ту пору я обладал кошачьим слухом и совершенно не умел выключаться. А уйти, оторваться от спорщиков не представлялось возможным. Короче, меня хватило только на то, чтобы не влезть в чужой разговор. Главный спорщик по природе своей был бодрячок и затейник.
Другой – скептик. И наконец, третий, как и полагается в подобной ситуации, – махровый пессимист.
За давностью лет не стану восстанавливать содержание вагонного спора и повторять бессмысленные, на мой взгляд, словоизвержения, хотя хорошо помню ход баталии, специфические словечки и нервную дрожь голосов. Приведу только одну реплику:
– А про динозавров слыхали, мыслители?! Отлично! Тогда вопрос: какая особенность? Как у кого… ясно – у динозавров? Молчите? Отлично, мыслители! Габарит – во! А головка – смотреть не на что! Потому динозавры и вымерли раньше времени, что ушли в тело, в массу… И мы вымрем, если перестанем расти в голову…
Давно отстучали колеса на пути от Клина к дому. Сколько с тех пор пережито и перевидано, сколько навсегда утрачено – не перечислить. И надо же, а динозавры время от времени все снятся. Громадные, невообразимо тяжелые, едва-едва переставляя ноги и волоча за собой хвосты, напоминающие что угодно, только не хвосты, уходят мои динозавры от воды. Уходят, сами того не подозревая, умирать.
Всегда на следующее утро я просыпаюсь с отвратительным вкусом во рту, в плохом, угрюмом настроении. И точно знаю: в этот день лучше ни за что серьезное не браться, все будет валиться из рук.
Говорил уже – в принципе я не суеверный: не отплевываюсь, не стучу по деревяшке, не хватаюсь за пуговицу, не избегаю черных кошек и тринадцатых чисел. Но этого сна – с динозаврами – не люблю.
Ночью накануне они мне приснились. Они шли гуськом, и закатное малиновое солнце высвечивало громадные, как горы, их тела, стирая детали, но удивительно точно воспроизводя контур. Точно так, как это делают мастера, вырезающие черные портретные профили. И странная мелодия сопровождала это угрюмо-торжественное шествие. Будто на невидимом органе исполняли реквием.
Утром на аэродроме ведущий инженер сказал:
– Эти идиоты из Васильевской службы перепутали концы.
– И?
– И вывели из строя электросистему, весьма капитально.
В ближайшие дни при такой ситуации думать о полетах не приходилось. Разбираться с «идиотами» не входило в круг моих служебных обязанностей. И я решил не без тайного удовольствия: раз так, поеду на пляж. Настроение с утра одолевало паршивое, вот и рвану к реке. Там уединение, песок… легкий ветер… чистая совесть… Поваляюсь на берегу, позагораю, и ночные видения выветрятся, утренние неприятности отойдут.
Река оказалась на месте. Река текла в своих берегах. И солнце грело сквозь тонкую облачную пелену, не утомляя. Ветер тоже оказался что надо – воздух струился, а песок лежал смирно.
Чего еще можно было желать?
Раздевшись, вытянулся на песке и сказал себе: «Спокойно, к черту подробности; все проходит, пройдет и это!»
Мне было хорошо. Огорчения оседали, как чаинки в стакане, – медленно, но верно.
И тут…
Они шли к воде медленно, переставляя гипертрофированные, неохватные ноги, покачивая жирными бедрами. Их было три. И над карикатурными этими фигурами возвышались обтянутые яркой резиной купальных шапочек маленькие яйцеобразные головки – две оранжевые, одна ядовито-зеленая. И следом за женщинами по чистому белому песку волочились их тени, напоминавшие гигантские, безобразные хвосты.
Это была злая пародия на вымерших динозавров.
Женщины вошли в воду. Как и следовало ожидать, плавать они не умели. Но их это не смущало. Довольствуясь шестидесятисантиметровой глубиной, в трех шагах от берега они окунали и тут же выдергивали свои телеса из желтоватой теплой реки. И визжали, победно озираясь.
Женщины были довольны собой. Они не испытывали ни тени смущения, просто не понимали, вероятно, сколь безобразны их фигуры, сколь недостойны они облика человеческого…
С пляжа я ушел, не обмакнувший, в реке. И началось: иду, еду, сижу и почти бессознательно отмечаю: «Толстая, толстая, очень толстая…»
Этот кошмар преследовал меня неотступно. Оказывается, толстых и сверхтолстых вокруг гораздо больше, чем худых и, так сказать, нормальных.
Смотрю. Считаю. И думаю: так, может, был прав тот спорщик в клинском поезде? Может, и впрямь мы вступили на тропу динозавров?
Наверное, вам известно – Маяковский писал: «…тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Пусть эти слова классика хотя бы немного извинят мою меланхолию. Вот было, случилось, и не хочу скрывать.
От наблюдений и подсчетов я впал было в такую тоску, хоть караул кричи.
Спас меня третьеразрядный стадиончик, затерявшийся, как ни странно, почти в самом центре города, сюда с утра и до позднего вечера приходит заниматься в спортивных секциях школьная ребятня.
Забрел я туда совершенно случайно – хотел отдохнуть от уличного шума, от асфальтовой духотищи, от беспрестанного мелькания жирных, потных туш с головками уменьшенного габарита. А тут вижу – оазис! И свернул.
Вошел на стадиончик, гляжу – бегут. Юноши легкие и прекрасные, словно изваянные Роденом; девушки грациозные, будто антилопы. В каждую и во всех сразу хочется влюбиться.
На том крошечном стадиончике господствовал свой молодой мир. Он, этот мир, внушал надежду. Пожалуй, люди еще смогут продержаться на поверхности нашей планеты, если только мы научимся видеть себя – не такими, какими нам хочется, а такими, какие мы есть.
44
В совсем-совсем еще раннем детстве был у меня старый, изрядно обтрепанный, почему-то горчичного цвета игрушечный медведь. В отличие от большинства плюшевых собратьев мой стоял на четырех мощных лапах, и в пузе у него было спрятано секретное кольцо – потянешь, мишка ревет и открывает пасть… Игрушка досталась по наследству, кажется, от дочери дяди Саши.
Этого мишку я помнил столько, сколько себя.
Любил? Затрудняюсь сказать: игрушки никогда особенно меня не увлекали, другое дело – инструменты. Но привык я к своему горчичного цвета зверю, привязался крепко. Как-никак он был молчаливым свидетелем моих многочисленных болезней, стаивал со мной вместе в углу, все мои друзья-приятели не переставали удивляться мишкиной способности реветь и разевать пасть. Словом, облезлый, замученный, существовавший в доме с нэповских времен зверь сделался частичкой моей жизни, хотя чаще всего я не вспоминал о медведе. Тем более в войну не до того было.
Но…
Случилось счастье – необыкновенное, невыразимое – залететь домой, к маме, пусть на какой-то час!
С аэродрома я ринулся очертя голову в город, воображая по дороге, как обрадуется, как заплачет мама, как она кинется мне навстречу. Три с половиной года мы не виделись.
Я несся домой, сжимая в потной ладони, словно какой-нибудь первоклашка, пронесенный через все передряги войны мой персональный ключ от квартиры. И адски волновался: а вдруг дома сменили замок?
Ну, вот подъезд. Тут, кажется, ничего не изменилось. Даже «Лешка – хвост!» – на месте. Как выцарапал рыжий Димка, так и осталось. Пожалуй, стало грязней, неприютней. Понятно, война.
По лестнице я поднимался почему-то на цыпочках. Мне ужасно хотелось не просто войти в дом, а… нагрянуть! Застать врасплох.
Вот – дверь. Дрожащей рукой вставил ключ… Слава Богу, замок открылся почти бесшумно. В коридоре было темно, но я прилетел домой! И никакая подсветка не требовалась: ноги сами привели меня к двери. Тихонько толкнул створку и вошел в комнату.
Все тут было, как было – обои, мебель, фотографии. Только в нашей комнате было запустение. На столе стояла чашка с недопитым чаем, рядом с пустой хлебницей – мой старый, еще больше облезший медведь. Он сильно сдал за военные годы, вроде даже голову опустил, и секретного кольца что-то не было видно.
В смежной комнате мамы тоже не оказалось. Наверное, мама на кухне, подумал. Пойти за ней или обождать? Обожду. Присел к столу.
В розетке для варенья блестело что-то белое: не соль, не сахар… Кристаллики несколько напоминали нафталин, только мельче. Понюхал – не пахнут. Лизнул палец, приклеил самую малую пылинку и отправил в рот… Сначала язык вроде обожгло, потом по всему рту разлилась какая-то сильно преувеличенная сладость. Сахарин, сообразил я. И мне сделалось еще грустнее.
Поднялся: пойду на кухню – к маме. Но тут она появилась сама. Нет, не вскрикнула, пораженная моим появлением, не упала в обморок, а тихо заплакала, сказав только:
– Дождалась… вообще-то я знала…
Мама очень расстроилась, узнав, что в нашем распоряжении всего один час, что в Тушине стоит мой «лавочкин» и в четырнадцать ноль-ноль запланирован вылет. Куда? Странный вопрос! Дальше – на запад. Об этом я сообщил маме с бодростью необычайной, будто лететь на запад было развлечением, праздничной прогулкой…
Мы говорили торопливо, разом, мешая друг другу совсем ненужными вопросами и неожиданными воспоминаниями.
Под конец я почему-то спросил:
– А медведь для чего на столе очутился?
– Он со мной и в эвакуации был, – ответила мама, как мне показалось, смущенно. – Только он один и был там со мной. Хочется же поговорить с кем-нибудь… И знаешь, когда совсем нет рядом с тобой прошлого, очень трудно чего-то ждать от будущего…
Никогда моя мама не была сентиментальной, она не верила в бога, не страдала суеверностью… Медведь, увезенный в эвакуацию, – это был не ее стиль… Впрочем, и война была совсем уж не в ее стиле.
Когда мы попрощались, когда все уже было сказано и время не позволяло мне мешкать, мама сказала:
– Об одном прошу: если возможно, пиши почаще, хоть одно слово: жив.
По дороге на аэродром я заскочил на почту. Попросил конвертов. Симпатичная глазастая девушка поглядела на меня непонимающе:
– Вы с фронта, наверное? – и улыбнулась. – Давно уже нет никаких конвертов в помине…
– Жаль, – сказал я и тоже улыбнулся, – очень нужно.
– Кому писать-то собираетесь?
– Маме. – И я рассказал этой совершенно незнакомой девушке про медведя, который ездил в эвакуацию, и о том тягостном, что встретило меня в доме… Не надо, наверное, было говорить об этом, да так получилось.
– Подождите, – сказала девушка и вышла.
Я поглядел на часы – времени оставалось совсем мало.
Славная девушка скоро вернулась и подала пачку секреток.
Теперь таких не делают – листок, сгибающийся пополам, имел клейкую кромку. Сложи, залепи, и пожалуйста, получается закрытое письмо…
Секреток оказалось пятьдесят. Это я узнал, добравшись до места назначения, на полевой аэродром. И в первый же вечер я заполнил их все.
Жив, – писал я, – от тебя долго нет весточек, но я не волнуюсь, т. к. не сижу на месте и понимаю: почте трудно угнаться. Здоров. В порядке. Очень прошу, за меня не беспокойся. Мы не воюем уже, а только довоевываем. Разницу чувствуешь? Обнимаю тебя…
Тексты имели разночтения, но смысл их сводился к только что приведенному.
Мне обязательно надо было исписать все секретки, чтобы не разбазарить их… И было еще соображение…
Утром я отдал золотому моему механику Алексееву все полсотни секреток и наказал:
– Если не вернусь с задания, Гриша, посылай штуки по две в неделю.
Он посмотрел на меня хмуро и сказал:
– Лучше возвращайся, а я буду напоминать, чтобы сам посылал…
Когда мама умерла, в немногих ее бумагах я обнаружил сорок четыре секретки – голубенькие, из шершавой бумаги, с жалкой розочкой или каким-то еще цветком, напечатанным в правом верхнем уголке внутренней страницы…
45
Никогда вещи не имели надо мной особенной власти. Бывало, конечно, мальчишкой мечтал о фуражке-капитанке с лакированным козырьком, или позже хотелось обзавестись кожаным пальто, но чтобы с ума сходить: без мотоцикла или без трофейной машины БМВ жизнь не жизнь – такого не случалось.
Однако вещи я видел и, если можно так сказать, запоминал их в лицо. Порой надолго. И всегда любил, да и сейчас люблю соотносить вещи с повадками и характером их владельцев.
У Митьки Фортунатова я был всего один раз. Затащила Наташа. Для чего, я не понял. В памяти остались просторные комнаты бывшей барской квартиры: потолки высоченные, карнизы лепные, двери с зеркальными стеклами. Все добротное, массивное, сработанное на года. И странная толкучка вещей, царившая в этих комнатах. Краснодеревные шкафы, буфеты и посудные горки; были там еще комоды и секретеры… А всякий клочок горизонтальной площади залеплен фарфором, хрусталем, деревянными статуэтками, бронзовыми безделушками и еще какой-то прорвой занятных вещей и вещичек. Было что-то неистребимо магазинное в фортунатовском доме.
Но больше вещей, захвативших львиную долю живого пространства, поразило меня отношение к этим самым вещам.
Нас с Наташей пригласили к чаю. Смотрим, овальный полированный стол накрыли суконной попоной, поверх положили кухонную клетчатую клеенку, обрезанную точнехонько по форме крышки, и еще постелили байку, а потом только скатерть: Никогда прежде (да и потом) такого не видывал.
А как морщилась хозяйка, когда Митька – уж он-то наверняка был надрессирован! – с пристуком опускал фитюльку-чашечку на расписное, очевидно, китайское блюдечко…
Ну, а когда Наташка едва не смахнула на пол вазу – этакое многоярусное сооружение из стеклянных тарелочек, нанизанных на блестящий серебряный стержень, – Митькина мама схватилась за сердце. Конечно, я тогда не понимал, какая, скажем, мебель у Фортунатова – просто старая или старинная, дорогая или антикварная; что у них за посуда – севрская, гарднеровская, императорского завода… Но я запомнил на всю жизнь: мебели, вообще барахла была прорва и над имуществом тряслись, а лучше сказать – трепетали.
Позже, сначала подрастая, потом набираясь ума, наконец, надеюсь, мудрея, я перевидал всякое: и кровати, убранные кружевными подзорами, украшенные пирамидками подушек – меньше, меньше, меньше, меньше… едва не до самого потолка; и много раз осмеянных, якобы специфически мещанских слоников, непременно колонной, обязательно по семь; видел разную редкую мебель – и красного дерева, и карельской березы, и светлого американского клена; попадались на глаза вещи затейливые, изукрашенные резьбой или бронзовыми накладками, инкрустированные перламутром. Что сказать? Беречь старину, приобретать дорогой комфорт, наверное, не зазорно и наверняка не предосудительно, но преклоняться перед вещами, служить бездушным предметам – позорно и, хуже того, – погибельно. Посещение Фортунатовых получилось скучным.
Мы сидели, окруженные роскошью. Под самым носом у нас громоздились горками разные печенья и заманчивые восточные сладости, пестрели нарядными обертками сортов пять лучших конфет. Митька молотил все подряд. Его мама старалась нас развлекать явно «воспитательными» разговорами. Все ее слова так или иначе касались правил хорошего и очень хорошего тона. Кстати, образцом, достигшим вершины такого тона, мама называла бывшего графа, генерала Красной Армии Игнатьева…
Сообразуясь с обстановкой я старался есть и пить так, чтобы не подумали – голодный, или, что оказалось бы еще неприятней, – первый раз за таким столом.
Все, наверное, сошло бы благополучно, но… «мой черт», что живет во мне и постоянно шкодит, вдруг выскочил. Когда я был уже по горло сыт и печеньями и козинаками, а пуще – речами мамы Фортунатовой, стараясь поддержать беседу о правилах хорошего тона, я поинтересовался:
– Скажите, а почему женщины не любят, когда упоминают их возраст?
Мама Фортунатова охотно и обстоятельно принялась объяснять. Получалось, женщине-де свойственны очарование, красота, мягкость, и, естественно, каждое существо женского пола хотело бы возможно дольше оставаться предметом поклонения…
Тут я противно хмыкнул – так, думаю, это выглядело со стороны – и попытался вежливо уточнить кое-что:
– Простите, но, когда предмет поклонения сообщает, что ей «восемнадцать уже было», а каждый невооруженным глазом видит – и сорок давно мимо пролетело, разве это может продлить или усилить восторг мужчины?
– Так рассуждать невежливо, – сказала мама Фортунатова. – Ты уже большой мальчик, Коля, у тебя хороший вкус, – она игриво взглянула на Наташу, – и тебе следует понимать: мы живем в мире со множеством условностей… Нравится или нет, считаться с ними надо!
– А я думаю, если женщина крепко жмет руку, сверкает белыми здоровыми зубами и открытым текстом сообщает, что ей сорок два, например, а сама выглядит как десятиклассница, вот это действительно повод для преклонения!
– Коля, милый, думать так невежливо, даже – стыдно.
– Неужели мысли бывают невежливыми или стыдными? – спросил мой расходившийся черт и заставил меня еще раз противно хмыкнуть. – А я думал, существуют мысли правильные и ошибочные, а еще – честные и лицемерные…
Меня не выгнали, просто в подходящий момент вежливо подвели к двери, пожелали всего хорошего и… больше уже не звали. Впрочем, по этому поводу я никогда не горевал.
Теперь благодарю судьбу: человеку нужен разный опыт – и положительного и отрицательного знака тоже. Опыт – наше главное, наше самое бесценное оружие и богатство одновременно.
В фортунатовском доме я впервые соприкоснулся с образом жизни, мне откровенно чуждым. Но еще важнее наглядного примера – так не надо! – оказалось недоумение: а для чего?
«Для чего?» – спрашиваю я себя всякий раз, когда встречаю добровольных рабов собственного жирного благополучия.
«Для чего?» – повторяю я снова, когда жизнь сталкивает с широко расплодившимся лицемерием или ханжеством, когда слышу голое, рядовое вранье – даже без фантазии!
Для чего?..
Близился конец войны. Это ощущали все. С полным единодушием ждали последнего звонка. А вели себя люди разно: одни жили надеждой – дожить. Другие старались выжить. Кому-то, очевидно, казалось, будто погибнуть на пятый, тридцать третий или сто двадцать восьмой день войны легче, чем пасть вдень последний…
Странно? Но именно такое было.
В это завершающее время меня занесло в стрелковую дивизию, на пункт наведения авиации. Я должен был подсказывать ребятам, находившимся в воздухе, где противник, какие у него намерения. Иными словами, наводить «Лавочкиных» на «фоккеров», предупреждать «горбатых» [3]3
«Горбатые» – прозвище фронтовых штурмовиков Ил-2.
[Закрыть], откуда на них валятся «мессеры». Выражаясь в современном стиле, мне полагалось обеспечивать наши экипажи точной, квалифицированной информацией о противнике и обстановке в воздухе.
Летчику на земле воевать несподручно, но приказ… куда денешься? Впрочем, я еще не начал воевать, а только шел по лесной дороге в артиллерийские тылы. Гнала нужда: умри, а разыщи мастерскую, где можно подзарядить аккумулятор, и договорись о помощи – рация наведения еле дышала.
Местность смотрелась прекрасно – сосны, еловый подлесок, великая сила черничника, а мох – просто с ума сойти каким густым ковром рос.
Но я шел и дрожал. Признаюсь, смертельно боялся нарваться на мину. Наше продвижение на запад было более чем стремительным, оно только-только замедлилось. Саперы, конечно, прочесали тылы, но поди знай, не осталось ли где «подарочка».
В минах, как и в другом наземном оружии, я не понимал ровным счетом ничегошеньки. Не обучали. И мне всюду мерещились торчащие из густого мха «усики»: тронь – взлетишь, распадаясь на составные части.
А еще было тоскливо от мысли: ребята дерутся, по пяти вылетов подряд накручивают… небось обо мне думают: устроился, выживает – войны-то совсем уже мало остается…
До артиллерийских тылов я добрался благополучно. И мастерскую нашел. Оказалась будка, сколоченная кое-как из снарядных ящиков. В будке сидел замухрышистого вида и неопределенного возраста человек, он перекладывал немыслимые предметы: фаянсовую вакханку, пепельницу с двумя сеттерами, фигурку пастушки… что-то еще хрупкое, на войне абсолютно неуместное. Увлеченный своим странным занятием, он не ответил на мое приветствие. И только когда я уже не в первый раз напомнил о себе, он взглянул в мою сторону, встрепенулся и недовольно спросил:
– Надо было?
– Простите, не понял… – сказал я, стараясь изо всех сил войти в контакт с этим неприятным, но очень мне нужным типом.
– Надо было так мучиться, чтобы заполучить мешок такого барахла? Трофеи! Умные люди иголки для швейных машин повезут, линзы для очков… – Тут он замолчал, пристально поглядел на меня беспокойным взглядом черных живых глаз и спросил: – Что у вас?
– Нужно позарез подзарядить аккумулятор, – объяснил я.
– Аккумулятор? Это можно. В принципе.
– А практически?
– Что можете предложить?
Ничего вещественного предложить я, понятно, не мог. Что с меня можно было взять? Летную, затертую до белизны кожаную куртку, армейские поношенные бриджи, разбитые сапоги?.. Но я заметил алчный свет в красивых глазах, вспомнил почему-то фортунатовский бастион довоенного благополучия и, не задумываясь над последствиями, пообещал беспечно:
– Часишки кое-какие найдутся… с браслетами и без.
– Далеко?
– Что «далеко»?
– Товар.
– Развилку дороги перед КП дивизии знаешь? Старую черную сосну видел – без верхушки… Вот там.
– Слушай, – легко переходя на «ты», сказал аккумуляторщик, – автомобильный, студебеккеровский тебе подойдет? Могу к восемнадцати ноль-ноль подкинуть. Чувствуешь, с доставкой на дом будет тебе аккумулятор, так как, фирма?!
Он показался на дороге в начале седьмого. Верхом на белой лошади. Лошадь была облезлая и старая. К самодельному седлу, я разглядел издалека, был приторочен вправленный в сетку-авоську аккумулятор. Я смотрел в бинокль и видел: ухмыляется, соображает, наверное, какие лонжины ему приготовлены… Подумал: «Сгрузит он мне под ноги аккумулятор, что я стану делать?»
И тут грохнуло. Небо раскололось и задрожало. Черно-рыжим выбросом взметнулась земля.
«Как глупо, – успел подумать я, – и до конца-то осталось…»
Впрочем, мне, как видите, осталось: пишу, вспоминаю – жив. А вот от белой лошади ни гривы, ни хвоста после артналета я не обнаружил… И аккумуляторщик вроде бы мне почудился только. Прямое попадание.
Вот рассказал, а сам думаю: что это? Мимолетный взгляд в прошлое, еще один фрагмент, пережитый на войне? Будто тень – появилась и погасла… Но почему вдруг? Неужели из-за того, что накануне случайно увидел в витрине антикварного магазина толстоморденькую фаянсовую пастушку? Застыла, кокетливо приподняв юбку, отставив маняще ножку… и глазки синенькие-синенькие, как полагается настоящей Гретхен.
Закрываю, открываю глаза, встряхиваюсь, а все равно прошлое со мной, никуда от него не уйти, не спрятаться.
Спи боль. Спи жизни ночью длинной.
Усни баллада, спи былина,
Как только в раннем детстве спят.








