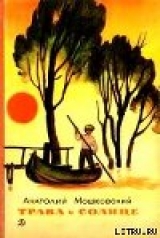
Текст книги "Трава и солнце"
Автор книги: Анатолий Мошковский
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Мошковский А. И
ТРАВА И СОЛНЦЕ
Повести

Рисунки Ф. Лемкуля
ДЕЛЬФИНИЙ МЫС
Повесть

ВСТУПЛЕНИЕ
Дул попутный ветер, и Зевс, косматый и грозный, смотрел с тугого паруса вдаль.
Там кувыркались дельфины, сверкало солнце, а здесь ритмично взлетали длинные весла и из трюма доносилось слабое постукивание: в несколько рядов стояли в деревянных ячеях большие глиняные сосуды с вином – острый, дурманящий запах его щекотал ноздри кормчего, управлявшего судном.
Понт Эвксинский[1]1
Так древние греки называли Черное море.
[Закрыть] искрился и полыхал синевой.
Кормчий задумался. Он вспомнил слепящие белым камнем Афины, откуда еще мальчиком был увезен родителями сюда, в Скифию, потому что у отца отобрали за долги крошечную гончарную мастерскую. Здесь он окреп, возмужал, а год назад нанялся к хозяину судна кормчим: возил грузы. Что ни день – то качка, от которой поташнивает, брызги в лицо, скрип весел и острая резь в глазах – вечно напрягаешь их, глядя вперед, чтобы не налететь на риф, не сесть на мель, – и вечно от зноя сухо в глотке…
Скорей бы прибыть в Херсонес и спуститься в подвальчик, где много холодного вина и острой еды, усесться на деревянную лавку и забыть обо всем…
Кормчий смотрел вперед, оглохнув от солнца и воспоминаний, смотрел в смутную синеву – и ничего не видел.
И не слышал.
Не слышал голосов тех, кто сидел за веслами. А они о чем-то кричали. И очень громко и возбужденно.
Он трогал свою жесткую бородку и мечтательно улыбался.
И вдруг – удар!
Море вокруг клокотало, мачта накренилась. Огромное лицо Зевса с вытаращенными глазами перекосилось. В нем был гнев и ужас. Удар! Еще удар! Гигантский острый мыс, врезавшийся в море, был далеко, но из воды вокруг судна вдруг выскочили скалы. Море возле них взрывалось, крутилось, пенилось. Судно накренилось. Загремели, выскакивая из ячей, глиняные сосуды. Гребцы стали прыгать в воду. Мачта переломилась, и лицо Зевса сморщилось, исказилось от боли.
– Какой неверный, какой скалистый берег! – крикнул кормчий, хватаясь за обломок мачты…
Судно так и не прибыло со своим грузом в бухту назначения. Но гибель его не прошла бесследно. Не прошла хотя бы уж потому, что через две тысячи лет она перевернула вверх дном жизнь одного московского мальчишки, да и не только его…

Глава 1
ОДИК И ОЛЯ
Одик с сестрой и родителями ехал в Скалистый – приморский городок, названный так, наверно, потому, что там было множество острых опасных скал.
Оля смотрела в окно и хмурила тоненькие бесцветные бровки, а Одика так и распирало от улыбки, и он героически боролся с собой. Улыбаться сейчас было нельзя, потому что мама с отцом заспорили. Охота же! Делать им больше нечего. Мама провела пальцем по зеркалу, занимавшему всю дверь в купе, и зеркало, как молния, рассек зигзаг чистой дорожки. Она передернула плечом:
– Даже вагона не убрали как следует. А что будет днем? Духотища, жара…
Ну точно помешалась на чистоте! И дома от мамы нет спасения: охотится за каждой пылинкой и не успокоится, пока не поймает ее сырой тряпкой или пылесосом.
– Переживем, – буркнул из-под потолка отец, и очень правильно буркнул: такое дело… Он стоял на шаткой стремянке, сердитый, грузный, и самостоятельно застилал верхнюю полку.
– Но мы б уже были там… Там, понимаешь… Два часа – и никаких постелей и гари! В море б уже купались…
– А путь от аэропорта? И ты забываешь: детям надо брать на самолет взрослые билеты, не посадишь же Одика на коленки.
Одик прыснул.
– Пузырь! – Оля возмущенно убрала со столика худые локотки и стала вытираться платочком.
– А ты заморыш! – выпалил Одик. – Вяленая треска, щепка… А ну позвякай костями!..
Мама тут же вонзила в него осуждающий взгляд.
Одик прикусил язык. И не потому, что струсил – в семье он никого не боялся, – не хотел связываться с сестрой: еще рассыплется от его шуток на свои составные части и до моря они не доедут. А это совсем не входило в его планы. Дома мама то и дело твердит ему: отстань от нее, ты старший, ты здоровый и к тому же она девочка… Ну и что? Значит, потому что он парень, и не такой тощий, и кончил уже пятый класс, он должен вечно помалкивать? А может, он еще и виноват, что она не такая добрая и упитанная, как он, что у нее оказались слабоватые легкие и врачи прописали ей сухой, йодисто-смолистый воздух юга?
Нет уж! Худущие – они все злые. Все, как один.
– Билеты! – возразила мама. – Разве дело в билетах? Да мы бы на самолете целых три дня сэкономили – туда и обратно, я ведь так устала, и на питание бы не тратили, а ты…
– Валя! – обрезал отец, в сердцах оборвал на наволочке пуговицу, качнулся, стремянка рухнула, и он, удерживаясь на руках за верхние полки, запыхтел, беспомощно заболтал ногами. – Прошу тебя, не говори «сэкономили»! Что ты в этом понимаешь? Это моя монополия!
Одик заулыбался: уморили! И уткнулся в стекло с грязными разводами. Отец запрещал маме говорить «сэкономили» потому, что работал экономистом в Министерстве легкой промышленности и не хуже новейшей электронно-вычислительной машины мгновенно производил в уме сложнейшие подсчеты всех их расходов и приходов. Но, по словам мамы, экономистом он был никудышным, потому что их семейный бюджет вечно трещал и лопался по швам и перед получкой ей всегда приходилось как-то выкручиваться.
Ноги прыгали в воздухе до тех пор, пока мама не подвела под них стремянку.
– Воображаю, как мы будем сегодня спать! – сказала она.
– Зато у нас полная гарантия, что мы и наши драгоценные дети увидим море…
– Ах ты вот о чем, вот о чем! А я и не догадывалась, – угрюмо сказала мама.
«О чем это они?» – подумал Одик.
Кое-как покончив с постелью, отец, кряхтя и вздыхая, улегся и мгновенно заснул: тихо и удовлетворенно засопел. С него этот спор как с гуся вода – молодец! Только край плохо заправленной простыни выбился из-под матраца и лениво раскачивался в такт ходу поезда.
– Узнаю родной дом! – Мама показала глазами на простыню и развела в бессилии руками.
Этот жест был так знаком Одику. Мама и отец – они были такие разные. Он – беспечный, рассеянный, весь какой-то расслабленно-благодушный, а мама – всегда собранная. И ни капельки благодушия. Она вечно ходила за отцом по комнате и прибирала: ставила на свое место стаканы и туфли, половой щеткой выкатывала из-под кровати яблочные огрызки, рвала на клочки оставленные на тумбочке листы бумаги со столбиками цифр после длительной игры его с гостями в преферанс, вешала на спинку стула комом брошенный на кушетку пиджак, ползала по паркету и наскипидаренной суконкой стирала кривые черные полосы, оставленные отцовскими туфлями, – не может ходить, как все люди! Иногда мама до глубокой ночи наводила в комнате порядок – подметала, скребла, чистила, утверждая, что туда, где побывал отец, надо немедленно посылать экскаватор, пока еще можно что-то расчистить…
И говоря все это, мама вот так же разводила руками.
Отец жил, как хотел, и мамино стремление к аптечной чистоте и порядку иногда бесило его. И правильно. Жаль вот, от этой его беспечности частенько приходилось страдать Одику. Он смотрел на край качающейся простыни и вспоминал, как однажды чуть не получил из-за отца двойку по арифметике: отец с вечера по рассеянности сунул в свой портфель его тетрадку с задачником и унес в министерство; в другой раз отец потерял ключ от двери, мама ушла к школьной подруге, и Одику пришлось как кошке лезть в форточку, и он сильно поцарапал щеку. И еще маловато зарабатывал отец: ни копейки сверх зарплаты.
Второй год ждал от него Одик велосипеда и новых клееных эстонских лыж с полужесткими креплениями. Отец редко давал ему больше гривенника, даже после самых слезных просьб. А у других ребят было все – и велосипед, и легкие гибкие лыжи, и даже часики на руке, – эти ребята в точности знали, когда кончится какой урок и надо ли трястись, что тебя вот-вот вызовут, или можно спокойно откинуться на спинку парты и поплевывать в потолок… Чего-то все-таки не было в отце, чего-то не хватало ему, и, случалось, Одик целиком держал сторону мамы, хотя и она была не слишком щедра…
Вагон убаюкивающе болтало и трясло, словно поезд, как и они, дрожа от нетерпения, спешил к теплому морю и кипарисам.
Одик слушал стук колес, сопение, вздохи и скрип под собой. А утром стало совсем жарко: солнце быстро накалило цельнометаллический вагон. Мама с Олей почти ничего не ели, а вот у Одика разыгрался чудовищный аппетит. Да и не то чтоб разыгрался, он никогда не покидал его. Чего-чего, а поесть Одик любил.
В дорогу мама набрала всего: утром Одик запросто умял два крутых яйца, бутерброд с ветчиной и принялся обгладывать большой кусок цыпленка – кур он особенно любил: их белое мягкое мясо, разделявшееся на тонкие волокна-ниточки… Почаще бы давала! Когда он ел, Оля нудно тянула из стакана в блестящем подстаканнике чай и с нескрываемым презрением посматривала на него сквозь густые ресницы. И, видя это, Одик еще громче причмокивал, ухмылялся ей, точно говорил: «Вот как надо есть! Ела бы, как я, человеком была бы. А от того, что все время бегаешь, визжишь, играешь в мячик и без конца проглатываешь разные книжки, – от этого здоровой не станешь». И еще пуще нажимал на цыпленка. Скоро в глазах мамы появилось что-то похожее на испуг. И когда Одик, кое-как обглодав свою часть цыпленка, потянулся к ножке, лежавшей перед Олей, мама сказала:
– Хватит с тебя.
– Еще хочу, – проныл Одик.
– А Оля? Она ведь не ела еще.
– Да пусть лопает, – разрешила сестра, – а то умрет от истощения и не увидит моря… Жвачный!
– Так много есть вредно, – сказала мама.
– Так ведь все равно испортится, – вмешался в разговор отец. – Одик растет, ему надо побольше есть.
Одик уже протянул руку к Олиной куриной ножке, но мама схватила ее и вместе с другой снедью завернула в прозрачную хрустящую бумагу.
– Я считаю, что на нашу семью хватит одного толстяка, – сухо сказала она и придвинула Одику стакан. – Пей.
Одик с преувеличенным сожалением вздохнул, стал большими глотками пить полуостывший чай и захрустел печеньем.
– Он не сладкий… Попроси еще сахару. И печенье кончается.
– Одик, в нем четыре куска, – сказала мама, – это более чем достаточно.
Отец сидел рядом, без пиджака, в ярко-синей трикотажной безрукавке, с сонливыми глазами. Он улыбался Одику и поглаживал свой тугой, как бочонок, живот.
– Я хочу еще, – сказал Одик, – я не напился.
– Верблюд! – по-змеиному прошипела Оля. – Хочешь на всю неделю напиться!
– Хоть бы до обеда дотерпеть… – заявил Одик. – Печет как!..
– Ну хватит, мне надоели твои разговоры о еде, – сказала мама. – Какая же ты зануда и чревоугодник!
– Удав! – процедила Оля. – Пузырь!
– Замолчи, – сказала ей мама – то-то, и ее одернула! – и повернулась к Одику: – Займись чем-нибудь.
– Чем?
– Если нечем, то смотри, как я вяжу. – Мама вынула из сумки клубки толстых ниток и спицы.
– Вот еще! – хмыкнул Одик. – Очень мне это интересно… Что я, девчонка, что ли?
Тут уж Оля не растерялась.
– Тебе далеко до девчонки! – пискнула она и негодующе передернула плечиком – ну точь-в-точь как мама. – И разве тебя, кроме собственной утробы, что-нибудь интересует?
Одика слегка заело.
– Много ты знаешь! Заткнулась бы.
– И зачем ты едешь на юг? – не унималась сестра. – С тоски ведь помрешь там.
– Это почему же?
– Как будешь там жить без Игорька и Михи? Их бы с собой прихватил… Было бы кем командовать!
– Стоп, – сказал Одик. – Отдохни… Тебе вредно так долго злиться.
До сих пор не мог он понять до конца, почему сестра терпеть его не может. Наверно, потому, что завидует его силе и здоровью. Откуда же у нее может быть доброта?
Про Игорька вспомнила, про Миху! Ну и что с того, что они на три года моложе его? Зато у него с ними, как говорится, полный контакт. Его слово – для них закон. Вместе катают снежные бабы и пускают с верхнего этажа их дома бумажных голубей. Потом Одик приводит их к себе и начинает играть в шашки – сам же научил – и, конечно, быстро обыгрывает их, большеротого грустного Игорька и Миху – карапузика с удивленно вытаращенными глазищами. Они-то его ценят: хохочут от его острот, слушают не моргнув глазом разные истории, и всему верят, и повсюду бегают за ним. А с мальчишками из своего класса у него не очень ладится: дерутся, не дают списывать, перемигиваются за его спиной и дразнят Бубликом. А почему? Потому ли, что лицо у него румяное и круглое, как бублик? Или еще почему? И разве это плохо, что он Бублик?
Отец сладко зевнул, достал из чемодана колоду карт и стал бродить из купе в купе. Одик не слышал его голоса, но знал – уж тут ошибиться невозможно! – искал любителей преферанса. Скоро он вернулся, сел и стал обмахиваться сложенной «Вечеркой». По его крутому, с залысинами лбу и тугим красным щекам непрерывно катился пот.
– Что за народ подобрался! Хоть бы один в преферанс играл – бездарный вагон!
– Дома не надоело? – спросила мама. – Зачем брала «Мертвую зыбь»? Ведь по знакомству дали в библиотеке на весь отпуск.
– Ох и пекло же! – простонал отец и полез на верхнюю полку.
Мама, поджав ноги, без туфель, устроилась внизу и вязала Одику зеленый свитер.
Сверху донеслось густое сопение – заснул отец.
Обедали они в Харькове – хлебали горячий украинский борщ прямо на платформе под навесом и жевали малосъедобный шницель с тушеной капустой. Зато южнее этого города с продовольствием было куда лучше: отец рыскал по пристанционным рынкам и приносил то круги творога с оттиском марли, то пучки редиски и холодные моченые яблоки, а в одном месте – кажется, это был Мелитополь – принес что-то завернутое в промасленную бумагу – все семейство наблюдало из окна за его продовольственными экспедициями; Одику с Олей мама строго-настрого приказала из поезда не выходить. В бумаге оказался свежеизжаренный цыпленок. Узнав, что отец отвалил за него, не торгуясь, целых три рубля, мама вздохнула:
– Боже мой, Леня, какой ты неумелый, какой неприспособленный! Ведь нас четверо, и нам еще месяц жить у моря и брать обратные билеты…
– Сдаюсь! – Отец дурашливо поднял руки. – До самого Скалистого буду голодать, даже на газировку не потрачусь… Клянусь!.. – По его лбу еще обильней бежал пот. – Ох и жжет, как на сковородке!
Одик хохотнул, а мама посуровела.
– Не видела людей легкомысленней тебя… Надо же было поехать именно сейчас… Ведь говорила же… Если ты здоров и толстокож, то не все же такие…
Конечно, она имела в виду Олю, потому что и в Москве запрещала ей долго бегать на солнце.
– У моря жара переносится легче, – сказал отец. – И потом, сама понимаешь, нельзя упускать возможность – кто бы дал нам еще такое письмо? Я думаю, Карпов не сможет отказать…
– Наивный! – Мама стала распутывать мохнатую зеленую нитку. – А если он возьмет с нас не столько, сколько говорил Гена, а заломит? Сможем мы у него поселиться? Да и кто мы ему такие?
У Одика снова разгорелся жгучий интерес к тому письму, к конверту с синими ирисами, которым снабдил их в день отъезда сосед по квартире, дядя Гена. Он только что вернулся из отпуска, темно-коричневый, как орех, пополневший, весь какой-то лоснящийся от радости и впечатлений, и сказал, что жил у самого моря, в замечательных условиях, у Карпова, веселого и умного человека, директора местного дома отдыха, что может рекомендовать и их ему. Заодно они отвезут ему купленную по его просьбе головку для электробритвы «Москва» и несколько запасных лампочек для карманного фонарика. Отец с мамой обрадовались, и дядя Гена всю неделю бегал по магазинам, искал подарки и через какого-то знакомого, переплатив три рубля, достал югославскую нейлоновую сорочку, а потом несколько раз переписывал из-за помарок письмо – неловко было посылать грязное. Конверт он не заклеил, и у Одика так и чесались пальцы вынуть письмо. Но брать без спроса он побаивался, а просить не хотел. Одик только узнал, что жить им предстоит в городке Скалистом – ух, наверно, и скал там наворочено! – на Тенистой улице, дом номер 5, – вот где, должно быть, тенища! Потом, когда Оля на минуту вышла и в комнате никого не оказалось – была не была! – Одик кинулся к раскрытому чемодану, в который все было в беспорядке набросано: термос, мамин купальник, крем для загара, мотки ниток, – вынул из кармашка на внутренней стороне крышки чемодана письмо и принялся в лихорадке читать: «Глубокоуважаемый Георгий Ник…» За дверью послышался стук Олиных сандалий, и она едва не застала его на месте преступления – чуть успел сунуть конверт в кармашек. «Глубокоуважаемый…» – так, пожалуй, можно обратиться к одному морю», – вдруг вспомнил Одик и засмеялся.
– Ты чего? – спросила мама.
– Так… А море там очень глубокое?
– Тебе хватит, чтобы утонуть! – съязвила Оля.
– Заткнись. Вот научусь плавать – буду ловить тебя за ноги, пока не пущу ко дну.
– И неостроумно! Такой большой и толстый, а плаваешь как молоток. И не научишься без помощи Игорька.
– Зато ты способная – дальше некуда! – крикнул Одик. – Ты…
Мама оторвалась от ниток и так посмотрела на него, что Одик осекся и смягчился:
– Научусь… Вода в море соленая, плотная и лучше держит.
– Тебя удержит? Тебя ничто не удержит!
– Удержит. Научусь.
Оля иронически поджала губки:
– Попробуй!
Пейзаж за окном меж тем изменился: кончились леса, исчезли холмы с известковыми карьерами и огромные островерхие темно-бурые терриконы возле шахт – отвалы ненужной породы. Промелькнули длиннющие украинские станицы с белыми мазанками, с утками и гусями на прудах, с садами, в которых уже наливались яблоки, темнели вишни и сливы. Степь была гладкая, как стол, с белыми пятнами солончаков, с худыми и тощими, точно воды им давали по чайной ложке в день, пирамидальными тополями. И становилось все жарче, все суше и томительней…
Отец редко смотрел в окно – он уже ездил по этой дороге – и больше спал.
Глава 2
ПИСЬМО С СИНИМИ ИРИСАМИ НА КОНВЕРТЕ
Впереди показался большой южный город. Мама стала расталкивать отца и в панике укладываться. Отец тер заспанные глаза, а мама еще раз напомнила ему, чтоб переложил письмо из чемодана в пиджак, и, когда он сделал это, для верности переспросила, не сунул ли он его мимо кармана. Как будто все их благополучие, вся их жизнь у моря теперь зависели от этого письма с синими ирисами на конверте!
Потом они долго тряслись в большом, пропахшем бензином автобусе, мчались по автостраде со столбиками по краям, мимо каких-то беленьких поселков с шиферными крышами, с садами и огородиками, с автопавильонами и рыжими осликами у рынков, мимо виноградников и табачных посадок. Дорога лезла все выше. Холмы сменились горами, с гор смотрели сосны и дубы, и стало не так жарко; на поворотах дороги вдруг появлялись то бронзовые орлы на постаментах, то выбегали горные, тоже бронзовые, козы, то возникали бодрые бетонные пионеры с горнами и барабанами. Потом стало совсем свежо. Что-то белое, сырое и косматое заволокло все впереди и ворвалось в автобусные окна холодом и моросью.
– Облака! – завопила Оля. – Мы в облаке.
Сразу потемнело, потом внезапно стало светло, в глаза наотмашь ударило солнце, и Оля завопила:
– Море! Море! Я вижу – море!
От быстрой езды у Одика рябило в глазах, пейзаж так быстро менялся, повороты были так внезапны, его так подбрасывало и дергало, и горы над головой были такие отвесные, а ущелья у самых скатов автобуса такие крутые и глубокие, и все это так неслось, мелькало, дразнило, что у Одика кружилась голова и он не успевал увидеть и запомнить все.
Он должен был первым увидеть море, и не увидел, и не мог даже понять, где оно.
– Где ты видишь его? – крикнул Одик.
– Вон!
Он опять ничего не увидел, ничего, кроме бескрайнего синего неба. Внизу оно было темней, чем сверху.
– Я ничего не вижу! – Одик закрутил головой во все стороны: – Где оно, где?
– Скрылось! – крикнула Оля. – Ты снова жевал чего-нибудь?
Ох как хотелось стукнуть ее – и стукнул бы, да мама сидела рядом. Одик заранее знал, что Оля вконец отравит его существование на юге и уже принялась отравлять. Лучше всего не замечать ее. Но попробуй не заметь, если с утра до вечера путается под ногами и суется во все дела. Зато из-за нее-то и на юг поехали! Отец отнес в комиссионный на Арбате оставшуюся от дедушки подлинную картину Айвазовского; ее, на их счастье, купил какой-то провинциальный музей, и они смогли поехать…
Потом кое-кому из пассажиров – среди них был и отец – стало нехорошо. Водитель остановил автобус, люди вышли наружу подышать свежим воздухом. Отец стал зеленоватый и вроде бы чуть похудел. Но мама тем не менее спросила у него, когда все уселись:
– Письмо не потерял?
– Нет.
Потом и Одик увидел море, но оно, если быть до конца честным, не очень поразило его. Может, потому, что он устал и злился на Олю, что она первая увидела море, или потому, что глаза его не могли принять сразу такую уйму всего – не вмещалось! – не могли вобрать в себя так много гор, зелени, облаков, поселков и полей с аккуратными зелеными рядками, со всеми этими красивыми бетонными статуями – хоть музей открывай!
Море он увидел за стволами прямых, темных, похожих на тополя, но более строгих и узких деревьев – не кипарисы ли? – и оно было очень большое, очень синее и все в каких-то полосах ряби, точно от холода его обметало гусиной кожей…
Потом автобус мчался вдоль моря по ровной дороге, и назад убегали уютные городки с кафе, столовыми, гостиницами, с зонтами пляжей – только что это за пляжи? – все из камней, которыми можно укокошить, наверно, и бегемота. И вот они приехали, выгрузили чемоданы, сумки, свертки, и водитель показал отцу, куда надо идти к Тенистой улице.
– Невероятно! – сказала мама, оглядываясь. – И есть же такие, что живут здесь весь год… Ты письмо не потерял?
– Дети, не попадите под автобус! – крикнул отец.
Они рысью перебежали автостраду и двинулись в тени высоченных деревьев. Навстречу им шли легко одетые люди, шутили, смеялись, ели мороженое («Папа, купи!» – «Потом»). Где-то играла музыка. Они миновали магазин «Подарки» с просторными, богато убранными витринами – не хуже, чем в Москве; прошли мимо высокого кинотеатра «Волна», похожего на гигантский аквариум – бетон, стекло и металл, – с афиш его ослепительно улыбалась белозубая красавица в бескозырке и моряцкой тельняшке.
Навстречу им, замедлив ход, ехала машина с зеленым огоньком.
– Такси! – крикнул отец, изнемогавший под тяжестью двух чемоданов.
– Спасибо, нам уже близко, – сказала шоферу мама, перегруженная сумками, и машина, недовольно фыркнув, опять набрала скорость.
Впрочем, навьючены были все: Одик, весь перекосившись, мучительно сморщившись – ничего себе, приехали на отдых! – тащил на плече сумку-рюкзак; Оля, мелко семеня, тоже несла большую авоську с кульками. Справа от них, постепенно возвышаясь, уходили зеленые, лесистые снизу горы и совершенно голые, лысые сверху, точно вся растительность вылезла от старости. Слева – за деревьями и оградами – нестерпимо синело Черное море, то самое, к которому они так стремились.
– Скажите, Тенистая улица скоро? – спросил отец у длинного парня в морской мичманке.
– Третья отсюда.
– Ох-х-х! – крикнул отец и, мокролобый, колышущийся, со сползающими с живота брюками, двинулся вперед.
Улица и в самом деле была тенистой, почти темной – в платанах, кипарисах, тополях, и лишь редкие солнечные блики пробивались сквозь листву и, как медные монеты, прыгали на дороге.
– Кажется, тут. – Отец опустил чемоданы у металлической калитки и рукой провел по лбу. – Только бы устроиться… Эге, да тут техника в почете! – Вздохнул почему-то и храбро нажал большим пальцем кнопку звонка.
Дома не было видно. Он прятался в густейшей зелени – сплошные деревья и кусты.
– Как в тропиках! – пропищала Оля. – А море отсюда близко?
– Леня, приготовь письмо, – предупредила мама, – и, умоляю, будь с ним предельно вежлив.
Где-то в глубине сада, в листве непроходимых джунглей, возникла вдруг, приближаясь, негромкая песенка, послышались легкие шаги, и Одик увидел за решеткой калитки девушку в пестром сарафане. У нее была короткая стрижка; руки, плечи и лицо ее сильно загорели, глаза смотрели очень приветливо.
– Вы к кому? – спросила она, оглядывая их багаж.
И Одик подумал, что не так-то хороши у них дела.
– Это дом номер пять? – спросил отец.
– Да, но у нас нет свободных мест, и вообще мы никому со стороны не сдаем.
«Ну чего он медлит? – испугался Одик. – Почему не говорит про письмо?»
– Нет-нет… Подождите… Не уходите… Мы тут везем кое-что Георгию Никаноровичу, и у нас есть письмо к нему. – Отец засуетился и стал рыться в карманах. – Куда ж оно запропастилось?
– Ты потерял его? – У мамы даже голос, казалось, побледнел.
Девушка с прежней улыбкой смотрела на них. И тут Одик увидел, что она не одна. Рядом с ней стоял невысокий мальчик в майке и новых коротких штанах с большими, сильно оттопыренными наружными карманами. У него были серьезные глаза, а на тонкой шее висела ниточка с разноцветными ракушками.
– Вот оно, нашел! – радостно – и в этой радости было что-то жалкое – вскрикнул отец и протянул между железных прутьев измятый, переломанный в двух местах конверт с синими ирисами.
Девушка склонила голову и стала читать. Тень от ее длинных ресниц и круглой щеки лежала на бумаге. И чем дальше она читала, тем красивей казалось Одику ее смуглое лицо – точеное, узкое, с тонким носом и маленькими, аккуратно сложенными губками. А когда она перевернула письмо и, доканчивая его, читала, наверно, про эту самую югославскую сорочку и головку для электробритвы системы «Москва», она снисходительно улыбнулась и стала еще красивей, у него появилась надежда. А когда она кончила читать и подняла к ним лицо, Одик ни в чем уже не сомневался.
Однако мама, видно, не разделяла его уверенности: глаза у нее были довольно-таки тревожные.
– Право, не знаю, – сказала девушка, – у нас ведь совсем нет свободных комнат, есть одна с террасой, но мы со дня на день ждем родственников мужа… («Вот тебе и «девушка»: уже замуж выскочила!») Проходите, пожалуйста, поставьте пока что у нас вещи, а Виталик сводит вас к мужу… Он недалеко работает.
Мурлыча под нос все ту же песенку, она повела их к дому.
– А папа обещал достать павлинов – самца и самку, – сказал вдруг Виталик, и отец невольно рассмеялся.
– Зачем же вам тут павлины?
– Для красоты, – сказал мальчик. – Нету птиц красивей их!
Они прошли, чуть пригнувшись, по темному туннелю сквозь зелень, поставили вещи у большого дома с террасами, лестницами, с телеантенной на крыше, и отец с Виталиком и Одик зашагали к дому отдыха «Северное сияние». Одик шел сзади и старался не отставать. Он был слегка напуган всей этой красотой и неизвестностью – удастся ли устроиться? Как у него сложатся отношения с Виталиком? Он, пожалуй, не старше Игорька, но уж слишком независимо держится.
Быстро перебирая тонкими ножками, деловитый и уверенный, Виталик привел их через высокие ворота на территорию дома отдыха: дворец с колоннами, аллеи, клумбы, фонтаны со статуями… Мальчик кивнул сторожу и санитаркам в белых халатах и беспрепятственно провел Одика с отцом по гранитным ступеням в торжественную прохладу дворца. Мимо ожидавших в приемной они проследовали за Виталиком прямо в кабинет.
В глубоком кресле на низких ножках полусидел, полулежал плотный загорелый человек и, закинув ногу на ногу, басом разговаривал по телефону. Стол перед ним был громаден и ошеломительно пуст – лишь ручка да белый листок бумаги – и весь сверкал своей поверхностью на солнце; не то что стол отца у них дома – старый, скрипучий, испачканный чернилами, заваленный книгами и пожелтевшими газетами.
Одик с трудом заставил себя перешагнуть порожек. И, перешагнув, прижался лопатками к стене.
Увидев вошедших вместе с Виталиком, человек – а это, конечно, был сам директор дома отдыха Карпов – быстро кончил разговор, положил трубку на рычаг и улыбнулся.
– Чем могу быть полезен?
Отец ничего не сказал, и правильно сделал: еще напортит! Он протянул Карпову измятое письмо. Тот стал читать, и лицо его из властного и решительного потихоньку становилось все более мягким, понимающим, доступным.
И Одик почувствовал легкость.
– Присаживайтесь, пожалуйста. – Карпов показал рукой на стулья у стола.
Они присели. Оба на краешки стульев. Только Виталик не сел. Он стоял у порога и, видно, ждал, чем все это кончится.
– Благополучно доехали? – спросил Карпов.
– Вполне.
Лицо у отца было красное, напряженное.
– Ваш сосед, Геннадий Вениаминович, – прямо, без перехода начал Карпов и прошелся короткими сильными пальцами по этому громадному, пустынному, сверкающему столу, – прекрасный человек: точный и обязательный. Ненавижу болтунов.
Одик с отцом согласно качнули головой.
– Спасибо вам за труды, – продолжал Карпов, – а в смысле пристанища вот что: к сожалению, на днях должен приехать мой старший сын, так что могу приютить вас только временно, однако твердо обещаю устроить в другом хорошем месте у моих друзей, и тоже у моря.
– Благодарю вас, сказал отец, поспешно встал и суетливо закланялся на прощанье, неуклюже пятясь задом к двери.
Одик последовал за ним.
– Виталик, проводи гостей, – бросил Карпов. – Скажи, чтоб их расположили в комнате Всеволода. До вечера!








