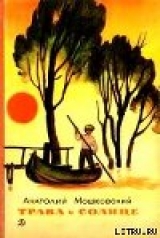
Текст книги "Трава и солнце"
Автор книги: Анатолий Мошковский
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Глава 7
«КАПИТАН СХОДИТ ПОСЛЕДНИМ»
Два дня помогала Фима обмазывать дом. Работников на этот раз было негусто. Груня на рыбоприемном пункте Широкое строила с колхозной бригадой клуб. Отец тоже был на лову. Бабка Никодимовна чуть оправилась и подносила ил.
Локтя выполнял подсобную работу: подавал инструмент и воду, чистил к обеду картошку, бегал за хлебом, сыпал уткам кукурузное зерно; однажды был даже послан торговать семечками и принес рубль сорок пять копеек.
Два дня Фима не выходила в город. Иногда вспоминала об Авере. Верно, все-таки он не так виноват, как ей казалось. Плохо, конечно, что он так быстро сдружился с тем, кого два часа назад обзывал гадом. Ну что ж, взрослые говорят, без недостатков людей не бывает. А то, что он угождал этим туристам и покрикивал на своих – хотел похвастаться властью, – он ведь из таких… К тому же они гости, москвичи, может, скоро уедут… Почему бы не показать им свою щедрость?
На третий день после обеда мать сказала ей:
– Чего не пожалуешься? Притомилась ведь?..
– Ничего, – сказала Фима.
– Вижу я твое «ничего», иди прогуляйся… Лицо у тебя от работы стало плохое, загар начал слазить.
– Могу пойти, мне все равно. – Фима пожала плечами. – А Локтю отпустишь?
Мать сморщила лоб, поглядела на нее, потом перебросила усталый взгляд на сына:
– У тебя что, дружков, окромя него, нету?
– Не хочешь – не отпускай, пойду одна.
– Ну пусть идет, только смотри у меня… Чтоб… Сама понимаешь…
Наверно, мать боялась слишком сильного влияния ее на своего меньшого.
Они умылись, переоделись и вышли.
Три дня не хотела Фима видеть Аверю. Может, поэтому и возилась с такой старательностью с илом. А теперь ничего, теперь она не возражала бы, если бы он встретился. Ну, поздоровались бы, может, перекинулись бы словом-другим…
Пройдя последний ерик, вышли к закрытой Рождественской церкви. Локтя чуть отстал и быстренько перекрестился двумя пальцами, по-старообрядчески.
Фима сделала вид, что не заметила. Церковь белела прочным камнем, огромная, массивная. Купола ее улетали вверх, свежевыкрашенные серебристой краской, и по ним соскальзывали лучи послеобеденного солнца. Церковь была ограждена новенькой металлической оградой, над калиткой высился ажурный крест.
И закрытая, церковь излучала тяжелую прохладу и мощь и совсем не собиралась сдаваться.
Увидев новый купол ее, Фима вспомнила прошлогоднюю историю и сказала брату:
– Отремонтировали… Помнишь, как горел купол? Молния угодила в крест.
– Помню.
– Совсем обнаглела молния – Илья-пророк послал в святой крест. Бога не побоялся.
Локтя молчал.
– Дрянь, видно, дела на небе, если по своему же кресту бьют, на котором был распят ихний Христос. Но ты, Локоток, не огорчайся: поставили к кресту громоотвод и весь электрический заряд теперь будет уходить в землю.
– А чего мне бояться?
– А вдруг сожжет? Куда тогда будешь ходить молиться с мамой?
Локтя ничего не отвечал.
– Тогда в другую церковь пойдешь, у нас ведь их две… Тебе повезло.
Локтя обиженно надул губы:
– Я хожу с мамой просто так – водит, ну и хожу. Я маленький и должен слушаться.
– А как же. Особенно если страшно ремня.
В это время они увидели Маряну. Она летела по тротуару; платье било по коленям и вилось сзади, как волна за пограничным катером.
– А-а, Фим, привет! – Она с ходу остановилась. – Эх и Аверька! Маху дал, а?
Фима посерьезнела: может, хочет разыграть?
– А зачем тот снимал, что не положено? Правильно задержал.
– Ты куда сейчас? – спросила Маряна.
– С братишкой хочу погулять. Три дня месила тесто для новой хибары.
– А… – Маряна о чем-то задумалась. Потом вдруг спросила ее: – Была в кино?
– Некогда. И деньгами батя не сорит.
– Слушай, вчера привезли новую картину. Сходи. Обязательно.
– Что за кино?
– Понравится. Очень даже. В твоем духе. Ну, я побегу. Ведь с работы отпустили: надо Машку посетить, прихворнула что-то. Да еще в магазин забежать – купить что-нибудь ей. А тебе вот, – Маряна протянула Фиме блестящую монету, – полтинник.
– Да что ты, Маряша! Не нужно мне. Что я сама не…
– Бери, и точка… Всего!
И не успела Фима придумать, как лучше возвратить деньги, Марянино красноватое платье уже летело далеко впереди.
– И на меня хватит? – спросил Локтя.
– Если сядешь на первый ряд – хватит Будем сидеть порознь, хорошо?
– Спрашиваешь еще…
Они подошли к порту: к причальной стенке, укрепленной бревнами, к кучам досок, к громадной пристани и плавучему крану с длиннющей шеей.
Фима любила приходить сюда, по сходням взбегать на пристань, куда ежедневно пристают несколько речных трамваев из города Измаила, до отказа набитых рыбаками и бабками с корзинами, испачканными клубникой (торговали в районном городе, где цены дороже), служащими и просто любопытным людом… Три раза в день подлетала к пристани «Ракета» на подводных крыльях и тоже высаживала людей.
Когда-нибудь, наверное, не будет тихоходных судов, все будут летать, как «Ракета»: в эпоху космических полетов нельзя по-черепашьи ползать по морям-океанам. Фима обязательно станет к пульту управления одного из таких вот судов, и они в три часа долетят до Каира, а в полдня – до Нью-Йорка.
На рейде покачивались на якорях три самоходные баржи: их перегоняли из Чехословакии в наши порты. С барж доносилась музыка.
Они были новенькие, блестящие, белоснежные, и старое слово «баржа» – что-то закопченное, черное, неуклюжее – никак не подходило к ним. Это были корабли с двигателем, рубкой и каютами для команды, но три четверти выдвинутого вперед корпуса предназначалось для грузов.
Сирена прорезала тишину дня.
– «Ракета»! – Локтя бросился к пристани.
Прочертив дугу, острогрудое, как космический снаряд, летящее над волнами судно снизило скорость, чуть опустилось и легко подкатило к пристани.
Фима побежала за Локтей: всегда жгуче интересно посмотреть, кто новый приехал сегодня. Фима взбежала на пристань и замерла.
У трапа, уже перекинутого на борт «Ракеты», стояли Аверя и Лев. Они пристально смотрели вперед, кого-то дожидаясь. Цепочкой, по одному, поднимались пассажиры из люка и ступали на трап.
Вот вышли два пограничника, – лица у Авери и Льва серьезны; вот появился толстобрюхий парикмахер Леон, – они слабо кивнули ему; вот вышел директор школы Дмитрий Алексеевич с сыном Петькой, – вежливо поздоровались с ним; вот вынырнул поп, отец Василий, рослый, в шапочке, с волосами, заплетенными косичкой, и в длинной дорогой рясе…
– Здравствуйте, отец Василий, – смущенно пролепетал Аверя, – с вами желает познакомиться мой товарищ, он из Москвы и очень хотел бы…
Тут вперед вышел Лев, учтиво улыбнулся и как-то быстро и весело заговорил с попом.
Фима не слышала, о чем: она сразу отпрянула. Хотела найти Локтю, но так и не нашла – затерялась в толпе; сбежала по трапу и остановилась у горы порожних ящиков из-под консервов.

Лев с попом, оба высокие и заметные, прошли вперед. За ними, точно лишний и ненужный, проследовал Аверя. По случаю прогулки он принарядился: на серую рубаху надел отглаженный, только в двух местах штопанный чешский пиджачок, свои неизменные полуботинки до блеска начистил. И вся эта парадность так не вязалась с опущенной головой, с неуверенной, вялой, совсем не аверинской, искусственно замедленной походкой, – он не решался обогнать их, но и не был уверен, что их можно оставить вдвоем, потихоньку отстать и уйти куда-нибудь.
Когда приезжие прошли вперед, Фима вышла из-за укрытия. Ее мучил вопрос, о чем говорит Лев с попом. Она тут же вспомнила, что Лев не раз в ее присутствии заговаривал о религии, о церквах. Зачем ему понадобился поп?
Приехать из такого города, как Москва, в котором она мечтала побывать хоть часок, и в их захолустье интересоваться самым неинтересным, что только может быть на свете, от чего не первый уже год спасается она бегством и никак не может спастись? Это было выше ее понимания.
Попутно она вспомнила другого попа – отца Игнатия. Тот был полной противоположностью этому. Этот был франтоват и величествен; тот, решивший столкнуть этого, в быту мало чем отличался от простого рыбака («Работал под рыбака», – как сказал однажды Дмитрий Алексеевич), ходил по улицам во внеслужебное время в тапках на босу ногу; старенькая ряса скорей напоминала халат рабочего на рыбоприемном пункте, да и лицо у него было не надменно-холеное, значительное, а простецкое: нос картошкой, щеки подушечками – они немного перекосились и нарушили симметрию – и глаза глядели доверительно, даже грустно… И вот он, такой простоватый и неблестящий, такой будничный поп, переборол, пересилил, перехитрил этого, который так величественно шел сейчас, и благосклонно слушал Льва, и сам говорил что-то мягко и вкрадчиво, как и пристало служителю культа, и лицо у него было упитанное, почти без морщинок, хотя в заплетенных в косицу волосах было немало седины.
– Ах, вот ты где, а я тебя ищу! – Локтя схватил ее за руку. – В кино пойдем, да?
Он сильно потянул ее за руку, лопоча о каких-то тральщиках и ракетоносцах, и, конечно, наткнулся на Аверю.
Тот заметил Фиму и протянул ей руку:
– Все злишься?
Фима давно простила ему многое, но, как только задал он этот вопрос, нахмурилась, надулась, точно и вправду еще сердилась.
– Не надо, – сказал он, – мало ли что могу я брякнуть…
Фима помолчала и пошла вперед, стараясь не смотреть на него. Ей всегда хотелось дружить с ним, бегать купаться на Дунай и играть в нырки, хотя это было и страшновато. И никогда не ссориться. И сейчас вот Локтя помог встретиться им. Точно и не было ссоры. Странно, но именно сейчас их дружба казалась ей, как никогда, крепкой и доброй…
На старом тополе Фима увидела вдруг рекламный плакат. На фоне бушующего моря написано зигзагами молний: «Капитан сходит последним». А рядом – силуэт военного корабля и темный профиль моряка.
Про эту картину, верно, говорила Маряна.
– Сходим, – сказала Фима, не глядя на Аверю.
– Рад бы, но… – Тут Аверя похлопал себя по карманам и пропел: – «Штаны без звона у меня».
– А у меня вот. – Фима показала полтинник. – Тоже не мои, Маряна дала.
– Так нам хватит, возьмем самые дешевые! – обрадовался Аверя.
– А этот человек? – Она кивнула на неровно, волнами стриженную голову Локти. – Обещала…
– Подумаешь! Поручи это мне.
Аверя тут же взял монету, отвел малыша в сторону и заговорил о чем-то. Потом подошел к киоску, где продавали мороженое, пристроился к очереди. Мороженое в Шаранове продавали редко, и, по отзывам тех, кто ел его в Одессе, в Киеве и особенно в Москве, было оно отвратительное, с кристалликами льда, пахнущее кислым молоком.
Ни Фима, ни Локтя проверить этого не могли, и оно им казалось великолепным.
Аверя примазался к знакомому рыбаку у окошечка и получил вафельный стаканчик. Торжественно вручил его Локте, снова что-то тихо сказал ему, и тот, улыбаясь во все лицо, отошел и принялся деятельно слизывать мороженое, криво наложенное в стаканчик. Так же без очереди Аверя купил билеты в кино, и они пошли в зал. Здание кинотеатра было новое, большое – одно из красивейших зданий в Шаранове – и было построено все из того же ила.
Кинотеатр работал без контролера. Они опустили в стеклянный ящичек билеты, разыскали в полутьме свои места, и скоро началась картина. На вспыхнувшем экране появился эсминец. Матросы отрабатывали учебные задачи, стреляли по щитам в море, отбивали учебные воздушные налеты. Один усатый весельчак ловко накладывал пластырь в трюме судна на «пробоину» от «торпедировавшей» его «вражеской» подводной лодки. На усатого со всех сторон лилось, а он, по пояс в воде, не растерялся, отдавал команды и подтрунивал над перепуганным безусым новичком.
А потом была настоящая война, и бомбы, пачками летящие на наши города из бомболюков немецких «юнкерсов», и осада Одессы, и боевые выходы в море, и потопление этим эсминцем двух вражьих подводных лодок и нескольких транспортов с войсками…
С экрана в зал плыл дым, летели крики умирающих и стоны раненых; в лица Фимы и Авери долетали соленые брызги от взрывов снарядов…
Но счастье изменило эсминцу: нашла его в открытом море торпеда. Эсминец стал заваливаться набок, тонуть, окутанный дымом и пламенем. Самые нервные сразу же попрыгали за борт; более выдержанные стали выполнять приказы командира и спускать шлюпки и спасательные плотики…
Капитан ходил по судну, отдавал приказы.
Усатого весельчака он чуть не пристрелил из пистолета, потому что тот стал вырывать спасжилет из рук контуженного матроса. Старший помощник, легко раненный осколком дерева в руку, потерял речь и, словно парализованный, смотрел на все вокруг.
Капитан распорядился, чтобы с партией раненых помощника опустили на одну из последних шлюпок. В артпогребе взорвались снаряды, и на тонущем судне началась паника. Капитан приказал последним оставшимся на борту проверить все помещения: не остались ли где раненые. И выяснилось – остались. В одной из кают от взрыва заклинило дверь.
Эсминец все глубже оседал и погружался, объятый пламенем, а матросы взломали дверь и вынесли раненых на шлюпку. Потом капитан велел последней горстке самых храбрых и верных покинуть судно.
«А вы, товарищ командир? – крикнул в грохоте и пламени один из матросов. – Пять минут – и судно взорвется. Воронкой засосет – не выплывете…»
«Выполняйте приказ!» – крикнул капитан.
Шлюпка отплыла. Он остался на судне. Он еще раз обошел все, что можно было обойти, проверил каждую каюту, камбуз, мостик и уже с почти затонувшего судна сошел на последний спасательный плотик…
Сверху смотрели звезды, когда Фима с Аверей возвращались из кино. Фонарей на ериках не было, им светили редкие огоньки окон. Чтобы не свалиться с кладей, шли, касаясь рукой заборчиков.
После этой картины ни о чем не хотелось говорить. Все казалось мелким и несерьезным. С надсадом скрежетали лягушки, ухала какая-то птица, и где-то на Дунае оглушительно трещал лодочный мотор…
– Слушай, – сказал Аверя, когда они подошли к ее дому, – дай, пожалуйста, для ребят одну икону. У вас ведь их так много. Никак не могут найти хорошую. Все печенки проел мне Лев. Просто помешался на них. Привел я его домой в тот день, как вернулись с рыбалки, принес порубанные Федотом… И что ты думаешь? Чуть не плакал над ними: «Такие вещи погубил!..» Складывал на траве по дощечкам и палочкам, как малый – кубики. Сложил две иконы, взял с собой: склеивать будет…
– Хорошо, я принесу.
– Да какую постарей, не очень заметную, чтоб родители не хватились.
– Хорошо. Ту, что в моей комнате. Георгий-победоносец на скаку пронзает копьем змия. Небольшая она.
– Давай. Только потише.
– Ничего, я одна. Груня – на Широком.
Фима исчезла в потемках и явилась не скоро – минут через десять: все приходилось делать в потемках. За стенкой похрапывали мать с бабкой. Когда она снимала со стены тяжелую доску, внутри тревожно заныло, засвербило. Но отступать было поздно. Прижав к груди икону, выскользнула из дому и передала через забор Авере. Тот приблизил к ней лицо, разглядывая изображение.

– Чушь какая-то, – сказал он. – Не знаю, понравится ли ему. Ребенок может так нарисовать. Но что старая – так это точно. Словом, ничего.
Фима стояла у заборчика и молчала.
– Ну, до завтрого… Ты как-нибудь сдвинь остальные иконы, чтоб не так было заметно, чтоб голого места не оставалось на стене… Ну, пока.
– Спокойной ночи.
Фима пошла к дому, а в глазах ее все еще клокотали волны, заваливался на нос эсминец и спрыгивал на последний плотик капитан – человек, который по морскому закону должен сходить со своего корабля последним.
Глава 8
ГЕОРГИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ
На всякий случай Аверя спрятал икону под пиджак и прижал локтем к боку. Хорошо бы отнести ее сейчас Льву. Да поздно. Наверно, уже спят. И тащиться к Дунаю в темноте не очень-то приятно: не раз за свою жизнь падал Аверя в ерики, а сейчас он в лучшей одежде да еще с иконой.
Он пошел домой.
Засыпалось плохо. Все думал: понравится ль икона Льву. На взгляд Авери, она никудышная, но у этого странного парня свои вкусы. По его просьбе Аверя исходил с ним немало рыбацких домиков – домики тех, у кого были или должны быть, по Авериным предположениям, иконы. Происходило это чаще всего так. Они заходили в один из «Буфетов». Лев заказывал два стакана местного сухого вина. Они стояли, облокотившись об огромную бочку, и потихоньку попивали. Народу тут обычно битком. На днищах порожних бочек резали для закуски селедку, потягивали из стаканов и вели бесконечный пьяноватый разговор обо всем на свете. Но разговор все время соскальзывал на путину, на сейнеры и погоду.
Почти всех знал здесь Аверя. Завязывалась беседа. Лев тут же предлагал стакан вина и через час как самый лучший друг помогал какому-нибудь старику добраться до жилья и, приглашенный на чай или пообещав сфотографировать семью, входил в дом как гость.
Две иконы ему подарили, три – продали, но, отзываясь о них, Лев брезгливо морщился:
– Ерунда, конец восемнадцатого.
Аверя про себя вычислял: ого, конец восемнадцатого века – это, значит, тысяча семьсот какой-то год… Какая старь! Тогда, пожалуй, и Шаранова-то не было. А для него это плохо…
Или вот еще что странно: когда Льву попадались отлично и четко выписанные иконы, сверкавшие краской, – ну совсем из магазина! – он еще больше кривился, точно ел клюкву.
– Безвкусица какая! Кисть в руках не умел держать, богомаз проклятый! Беру только для обмена, а то бы и не повез: груз лишний…
Не успел Аверя утром и глаза открыть, как вспомнил об иконе, спрятанной под матрасом. Когда в комнате никого не было, вытащил ее, стал рассматривать и совсем разочаровался. То, что она была старая в смысле века написания, может устроить Льва. Но ведь краска-то на ней местами сильно пожухла, кое-где были темные пятна и копоть. Вряд ли ее очистишь когда-нибудь.
Едва дождавшись завтрака, Аверя поел, спрятал под пиджак икону и помчался к Дунаю.
Все были в сборе, пили чай, шутили о том-сем.
– Принес? – спросил Лев.
– Да вот припер кое-что, – на всякий случай небрежно сказал Аверя, вытащил из-под пиджака тяжелую доску и протянул Льву.
Лев глянул на нее, и руки у него задрожали. В первый миг он задохнулся и не мог ничего сказать. Потом взял икону прыгающими пальцами, подробно осмотрел всю, ощупал своими цепкими глазами тыльную сторону ее, сухую, массивную, потемневшую от времени, – слабо выгнутую доску с широкими клиньями, чтоб не рассохлась, не треснула, – и выдохнул:
– Ух! – Потом более членораздельно добавил: – Вот это да! И в Третьяковке такой нет!
– А что, там иконы есть? – удивился Аверя.
– Разумеется. Экспозиция начинается с отдела икон, несколько залов. И вообще я должен тебе сказать: всякое искусство начинается с икон, а я считаю так: и кончается. Ничего лучше не создали еще люди.
Аверя прямо-таки присел.
– А Шишкин? – сказал он. – А «Запорожцы» Репина?.. У него еще есть «Бурлаки». Мы в школе…
– Дорогой мой! – вскрикнул Лев. – Иконы – это все!
– Ну, ты уж чересчур так, – проговорил Аркадий, брившийся у круглого зеркальца на складном столике. – Ты просто немного больной человек…
– А Матисс – он тоже больной? Ты не знаешь, наверно, такого факта, а я знаю: до революции он приезжал в Москву и посетил галерею Третьякова. Он спокойно обходил зал за залом, у некоторых картин немного задерживался, но очень ненамного – все это он уже знал и видел, хотя ни разу не был в России. Но как только подвели его к иконам, остановился, замер, застыл! Вот… А ты?
– А кто такой Масисс? – робко подал голос Аверя.
– Матисс – надо говорить. Кто он? Величайший французский художник-декоративист, ярчайший и оригинальнейший. Он первый понял всю радость открытого цвета – красного, синего, зеленого… Надо знать таких, хамингваи вы, хамингваи!..
– А-а-а… – протянул Аверя, ровным счетом ничего не понимая.
– А иконы тут при чем? – Аркадий провел помазком по верхней, подпертой языком губе.
– Если б не они, может, не было бы и Матисса… Монументальность, обобщенность – ни одной мелкой, дробящей впечатление детали, лаконизм и простота…
– Модные словечки!
– И все это он взял у икон, и в особенности – у русских икон!.. Ах, какой ты мне сделал подарок, Аверя, век не забуду! Будешь в Москве, обязательно заезжай ко мне. Даже можешь остановиться у меня. Приму… Ах, какая штука! Пожалуй, лучшая из моего собрания, а у меня за двадцать пять перевалило, и всё только старые…
Авере прямо неловко было, что он доставил столько радости этому бурному человеку с горящими глазами.
– Может, у нее еще такие есть? Да, конечно, наверно есть… Ведь она сняла первую попавшуюся.
– Да, – подтвердил Аверя, чувствуя, к чему клонит Лев.
– Слушай, а если я подарю тебе ласты и трубку, ты не сможешь попробовать еще?
– Трудно, – вздохнул Аверя. – Не знаю еще, как с этой кончится. У нее старики лютые и верят в бога люто. Мой-то батя тоже немного верит, да как-то весело и не молится, а они лютые!..
– А может, обойдется? Я б, пожалуй, и с маской расстался. Тебе она нужней… Хочешь маску?
– Зачем вы это говорите? – У Авери заколотилось сердце: ах, как хотелось ему получить все это насовсем!
– На, забирай. Для хорошего человека ничего не жалко. – Лев протянул ему маску – продолговатое стекло, обтянутое резиной, – маску, какой не было ни у кого в Шаранове.
Она очутилась в Авериных руках. Он совсем не хотел брать ее, потому что знал, как трудно будет просить Фиму снять со стены еще одну икону, но маска каким-то образом очутилась в его руке. Он не брал ее – просто свел вместе пальцы – и вдруг почувствовал ее прохладную тяжесть.
– И ласты получишь. Притащи две, и постарее… У них ведь много… Обойдется.
Аверя весь пылал. Он становился единовластным владельцем такого богатства!
– Не удастся – что ж, придется вернуть, – сказал Лев.
Аверя все понимал.
Лев опять взял в руки икону, зачем-то подул на нее, нежно прикоснулся тыльной стороной ладони.
– Георгий… Как выразительно, сколько экспрессии в повороте тела, в руке! А какое благородство в тонах! Вроде приглушен главный цвет, но он орет, орет!
Аверя смотрел на него и растерянно улыбался.
– Попробую, – проговорил он.
– Слушай, – сказал вдруг Аркадий, – прошу тебя: оставь Аверю в покое. Неужели мало всего того, что он тебе сделал? Ты просто жаден, а жадность до добра не доводит – Голос Аркадия звучал жестко и холодно. – Думал, сам поймешь, и не хотел тебе это говорить, а приходится. Ты собираешь эти иконы только потому, что это модно, только потому, что у тенора вашего концертно-гастрольного объединения Гришаева их двадцать семь штук, а у куплетиста Катькина – тридцать одна. Тебе приятно поразить ими гостей, подчеркнуть, что ты не отстаешь от времени и понимаешь толк в настоящем искусстве, а на самом деле ты… – Аркадий начал сердиться.
Лев покраснел, надулся, и Аверя поспешил из палатки.
Маску и трубку на всякий случай он спрятал под полу пиджака. Аверя шел по улице Железнякова и думал, как бы лучше подъехать к Фиме, и ничего не мог придумать.
Он даже не слышал, как с мчавшегося сзади грузовика кто-то кричал ему. И уже когда грузовик почти поравнялся с ним, Аверя очнулся.
– Ну, поехали? – крикнул ему Саша, и пес Выстрел подтвердил лаем; что не прочь снова схватить его клыками, если будет глупить.
– Не, – закачал головой Аверя, – сегодня мне недосуг.
– А то садись, вне конкуренции будешь… Поработать с собачкой надо.
«Видно, на границе ей маловато работы, – подумал Аверя, – тренируют, чтобы по следу идти не разучилась».
– Ну смотри. – Саша кивнул ему с машины, а Выстрел отрывисто тявкнул на прощание.
Аверина голова была занята другим. Даже Алка, которую он повстречал на Центральной улице у детской библиотеки, мало заинтересовала его. А вообще-то он любил говорить с этой звонкой красивой девочкой. Купаться с ней не пойдешь – с тоски подохнешь, в нырки играть она не умеет: увидит плывущего по Дунаю ужа и орет как резаная.
Зато беседовать с ней бывает приятно. Особенно слушать ее. Чего только не знает она! И когда в обувной магазин привезут синтетические сандалеты по четыре рубля, и у кого сейчас на руках библиотечная книга про диверсантов «Это было на Дунае», и почему отец Коськи Заречного ушел из семьи и поселился в доме номер семнадцать, где надпись «Злая собака» и в подтверждение нарисована страшная пасть с торчащими кривыми клыками, и…
Все знала она, буквально все, что творилось в Шаранове.
– Ты куда так торопишься, Аверчик? – остановила она его. – Давай походим.
– Зачем? – спросил Аверя.
– Поговорить хочется. Давно не видала тебя.
– Как-нибудь в другой раз.
– Слушай, а ты знаешь, что…
Целый час пробродил он с Алкой, и у нее ни на минуту не закрывался рот. Потом, когда все главные новости были выговорены и ничего интересного нельзя было ждать, Аверя отделался от Алки, сославшись на то, что отец велел прийти сегодня пораньше. А сам полетел к Фиме.
Как вот только лучше подъехать к ней, как объяснить, чтоб правильно поняла: совсем не из корысти хочет он раздобыть эти иконы – все ребята будут нырять и плавать с этими ластами и маской. Можно даже через Маряну организовать секцию подводных охотников…
Спрятав под лопухом своего огородика то, что дал ему Лев, Аверя зашагал к домику Фимы.
Он шел по кладям, подыскивая слова помягче и поубедительнее, и вдруг услышал крик.
Кричала Фимина мать. Крик был хриплый, надрывный и какой-то слепой. Какой-то яростный и дикий был этот крик. И вслед за ним – плач. Ее, Фимин, плач.
– Убить тебя после этого мало! Убить!
Следовали громкие удары кулака, а может, и палки обо что-то мягкое, живое, и слышался плач. Он то прерывался, то возникал. Это был плач взахлеб, горький и тяжелый. Фима что-то кричала сквозь слезы, что-то твердила. Но удары заглушали и прерывали эти слова и плач.
Аверя ринулся обратно. Он бежал по кладям к Дунаю, бежал и только сейчас начинал понимать, что наделал. Он бежал к мосту через Дунаец, бежал к воротам рыбозавода.
Старичок вахтер, сидевший на ящике из-под рыбы, знал Аверю и пропустил. Аверя пробежал вдоль коптильни, мимо грязноватой горы крупной соли. Пересек путь автокара, перевозившего из цеха в цех рыбу, и подбежал к причалу, что у посолочного цеха.
Здесь под навесом орудовали три работницы – принимали с фелюг и взвешивали рыбу. Маряна в жестком фартуке на черном халатике и резиновых сапогах поливала из шланга огромных, только что выпотрошенных белуг, лежавших на тележке.
Тугая струя шланга хлестала по спинам и мордам, раздвигала створки вспоротых животов и вымывала кровь.
Аверя схватил Маряну за рукав и громко зашептал:
– Маряша, идем… Фимку убивают…
Маряна направила струю шланга в пол, и струя остервенело забила по резиновым сапогам подруг.
– Мамка ее… Совсем озверела… Кабы успеть…
Маряна сняла фартук, развязала сзади тесемки халата.
– Девки, – сказала она, – мне тут отлучиться надо на часок. Если будут спрашивать, наплетите чего-нибудь.
– Опять твои пионеры? – Толсторукая рыжая Кланя покосилась на Аверю и затараторила: – Ох, Маряша, дивлюсь я тебе. Или делов других нету? Таких парней отшиваешь! Ну чем плох Сашка? А этот инженер из лаборатории… Остаться тебе вековухой…
– Слыхали, что просила?
Из дежурки посолцеха вышел толстый мастер Дубов:
– Маряна, ты нам нужна… На подходе «Байкал». На нем две белуги икряные, килограмм по полтораста, надо обработать.
– Иван Сидорович, – сказала Маряна, – через час приду… Вон Маруська не хуже меня примет. Она…
– Я не хочу, чтоб Маруська. Опять не как зернистая пойдет, а как паюсная…
– Иван Сидорович, не заставляйте меня…
– Если уйдешь…
Маряна швырнула халат на тачку, закинула руки, поправляя волосы, и туго обтягивающее ее штопаное платьишко угрожающе затрещало.
– Уже ухожу.
И пошла через двор завода, пошла быстро и решительно, а за ней, едва поспевая, припустился Аверя. Он бежал рядом и, задыхаясь, рассказывал все, что слышал в Фимином дворе.
– Ну что они хотят от нее? – словно сама у себя спрашивала Маряна. – Думала, оставили в покое, так нет…
Платочек на ее волосах рвался и хлопал концом, платье отскакивало от коленей – так быстро она шла.
Потом шаги ее замедлились. Вот и ограда Фиминого дома. Вот сам дом.
Маряна остановилась.
Из-за ограды доносился плач. Он уже не был прерывистым. Теперь он был ровным и горьким.
– И за что она ее так? – шепотом спросила у Авери Маряна.
Аверя уткнул в доски кладей глаза.
– Не знаю, – едва выдавил он.
Солнце уже клонилось к закату, было тихо, где-то в соседнем ерике под днищем плывущей лодки хлюпала вода, а они, Маряна и Аверя, стояли у ограды, точно не знали, что делать. Кроме плача, со стороны домика доносились два женских голоса: крепкий, зычный, непримиримый и надтреснутый, скрипуче-старческий.
– Пойдем отсюда, – неожиданно сказала Маряна и повернула назад.
Он схватил ее за руку и не пустил:
– Зачем же я бегал за тобой? Ты должна зайти к ним и поговорить… Она ведь из твоего отряда-то, Фимка…
– Я не знаю, о чем и как с ними говорить, – тихо сказала Маряна. – Да и не послушают они меня… Напорчу только, – и медленно пошла прочь от домика.
Аверя не стронулся с места. Он остался стоять, где был.
– Маряна, – громко зашептал он, – вернись… Ведь если не ты, так кто ж другой?
Она уходила все дальше.
– Струсила! Забоялась и струсила! – закричал он вслед. – А мы-то, мы-то, дураки, мы считали тебя…
Маряна, наверно, ничего уже не слыхала, потому что была далеко.
Он стоял, и ему было стыдно. Стыд жег его. Раскаленным докрасна гвоздем входил в его сердце. Ведь он не сказал Маряне, в чем дело, не признался… Какое имел он право кричать ей такое!
Аверя постоял еще немного у ограды, свесив голову, и поплелся домой. Но не успел он сделать и десяти шагов, как все понял и сообразил.
Он знал, что должен делать, чтоб выручить Фиму. Знал. Он во всем виноват, он и расхлебает это дело. Не ожидал же он, что так все обернется…
Сбегав домой, Аверя вынес ласты, подобрал в ограде под лопухом маску с трубкой и быстрым шагом пошел, почти побежал к Дунаю.
Вот и зеленая палатка и красная, девичья, рядом с ней.
– Можно? – Он остановился у завешенной двери.
– Заходи, – разрешил заспанный голос Аркадия. – Ты что это все приволок назад?
– Где Лев? – спросил Аверя и сбивчиво продолжал: – Больше не смогу… Фимку избили за эту… Отдайте мне ее.
Лицо у Аркадия стало озабоченным, по лбу побежали морщинки:
– Сколько раз говорил ему: так где там! Ушел он куда-то, кажется, кто-то обещал ему еще несколько икон. Попозже зайди, а это можешь оставить.
– Арк… Дядя Аркадий, – горячо попросил вдруг Аверя, – выдайте мне, пожалуйста, ту, что я принес… Ведь Фимку прибили из-за нее…
– Ах ты, какое дело! – забормотал Аркадий и в досаде замахал руками. – Ну на кой черт совался ты в эту историю, клянчил у Фимки?! Плюнул бы на все это…
– А я не знал. Откуда я знал, что так…








