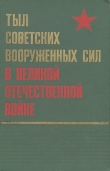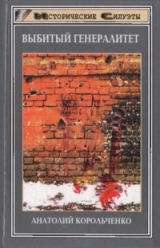
Текст книги "Выбитый генералитет"
Автор книги: Анатолий Корольченко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
И. П. Уборевич
1896–1937
Маршал Г. К. Жуков, вспоминая давнюю службу в Белоруссии, писал о своем командующем: «Поначалу мои отношения с Уборевичем сложились неудачно. Примерно через полгода после того, как я принял дивизию, он влепил мне, по чьему-то несправедливому докладу выговор… Притом, заочный. Это был первый выговор за всю службу. Я возмутился и дал телеграмму: «Вы крайне несправедливый командующий войсками округа, я не хочу служить с вами и прошу откомандировать меня в любой другой округ. Жуков». Прошло два дня. Звонит Уборевич…
– Я проверил материалы, по которым вам вынесен выговор, и вижу, что он вынесен неправильно. Продолжайте служить. Будем считать вопрос исчерпанным…
Я чувствовал, что Уборевич работает надо мной. Он присматривался ко мне, давал разные задания… Поручил на сборе в штабе округа сделать доклад о действиях французской конницы во время сражения на реке По в первую мировую войну. Доклад был для меня делом трудным… Но Уборевич смог помочь мне в этот момент… и впоследствии оценил этот доклад как хороший. Повторяю, я чувствовал, как он терпеливо работает надо мной…
У Тухачевского был опыт фронтовых операций, а Уборевич командовал в гражданскую войну армией, выше этого тогда не поднимался. Тухачевский был более широко известной фигурой, но я бы не отдал ему предпочтения перед Уборевичем… Уборевич больше занимался вопросами оперативного искусства и тактикой. Он был большим знатоком и того и другого и непревзойденным воспитателем войск. В это смысле он, на мой взгляд, был на три головы выше Тухачевского.
С Уборевичем я проработал вместе четыре года… Он был бесподобным воспитателем, внимательно наблюдавшим за людьми и знавший их, был требовательным, строгим, великолепно умел разъяснять тебе твои ошибки. Его строгости боялись, хотя он не был ни резок, ни груб».
Подтверждением прекрасной характеристики, данной выдающимся полководцем XX века, служит тот факт, что у него в подчинении находились такие командиры дивизий, как И. С. Конев, Г. К. Жуков, В. А. Соколовский, начальниками штабов корпусов были А. А. Новиков, В. Я. Колпакчи, в штабе корпуса служил М. Х. Баграмян. Оперативный отдел штаба округа возглавлял М. В. Захаров, в отделе служили Р. Я. Малиновский, В. В. Курасов, А. П. Покровский и другие. Шестеро из них стали маршалами Советского Союза и считали Уборевича своим учителем.
А кто был он, этот учитель, выпестовавший столько талантливых военачальников, знаменитых полководцев?
В автобиографии, еще в 1924 году, Иероним Петрович писал: «Родился в конце декабря 1896 года в деревне Антандрия Ковенской губернии. Родители – литовцы, крестьяне, бывшие крепостные. Земли было около 3/4 десятины на душу. Все годы с 1896 по 1909 провел в деревне, принимал посильное участие в хозяйстве – пастухом, а с 10 лет во всей работе – пашня, бороньба. Зимой учился в ближайшей сельской школе в местечке Дусяты. Говорят, что показал большие способности, и учитель занимался со мной отдельно, подготовил в 3-й класс экстерном в реальное училище в Двинск, куда я выдержал экзамен. Мальчиком в Дусятах участвовал в организации «сицилистов», не зная точно целей и задач, распространял прокламации, переписывал их от руки для размножения. В 1909–1914 годах учился в реальном училище в Двинске. Так как родители ничем не могли помочь, то приходилось самому зарабатывать уроками, да иногда и отцу помогать. Жил в пригороде, у дальнего родственника – кочегара. Летом уезжал в деревню и работал по хозяйству. Хотя жил в среде рабочих, но ни на какую политическую группировку не метнулся. Участвовал только в так называемых массовках. Годы прошли совершенно политически бесцветно. В 1914 году пытался начать учебу в институте, но средств не было, пришлось заняться уроками, а потом и совсем в 1915 году вернуться в деревню, на сельхозработы. В 1915 году летом в Литве в связи с бесчинствами казаков и усиленными мобилизациями участвовал в чем-то вроде небольшого бунта против полиции. Был предан суду ковенским губернатором, но скрылся в Питер, где был со сверстниками взят в армию…»
Призванный в армию, Уборевич был направлен в Петроград, в Константиновское артиллерийское училище, где прошел ускоренный курс, и в 1916 году был направлен на фронт. Имея звание подпоручика царской армии, перешел на сторону большевиков в Бессарабии, был назначен командиром революционного полка, усиленно вел бои против румынских и австрийских оккупантов.
Осенью 1918 года Уборевича направили на Северный фронт. Здесь, последовательно командуя тяжелой гаубичной батареей, бригадой, 18-й стрелковой дивизией, он руководил боевыми действиями красных частей, преградивших путь англо-американцам к Вологде и Москве. За успешное руководство войсками в боях против интервентов был награжден орденом Красного Знамени.
Осенью 1919 года по распоряжению Реввоенсовета Республики Уборевич направляется на Южный фронт, где вступает во временное командование 14-й армией. Ему тогда исполнилось всего 23 года.
Рассказывали, как байку, что назначенный членом военного совета армии Серго Орджоникидзе, прибыв в штаб, направился в кабинет командующего.
– Командарм здесь? – спросил он моложавого вида очкастого человека, видя в нем штабного.
– Здесь, – ответил тот.
– Ступай и доложи, что приехал Орджоникидзе.
Так произошло их знакомство, переросшее в большую дружбу. Позже Серго Орджоникидзе, выступая перед военной аудиторией, говорил:
– Командарма Уборевича я поставил бы всем в пример. Он был тогда очень молод, энергичен, грамотен в военном деле, решителен. Что сделало его таким? Ответственность перед людьми, кристальная честность, истинная любовь к народу. Его посылали всегда туда, где трудно. С Уборевичем было легко и приятно работать. Уборевича все любили за доступность, хладнокровие в самые опасные моменты и, конечно, за заботу о бойцах.
Под руководством молодого командира части и соединения 14-й армии сумели остановить рвущихся к Москве деникинцев. Они уже заняли Курск, Воронеж, до российской столицы рукой подать.
Сдерживая врага, войска 14-й и соседних армий Южного фронта сумели нанести ему фланговые удары своими подвижными соединениями, а потом и обратить в бегство. Были захвачены стратегически важные пункты: Кромы, Белгород, Харьков, Полтава, Екатеринослав, Николаев, Херсон, Одесса, Тирасполь. Красная Армия захватила огромные трофеи, столь необходимые ей: одних орудий более 350, самолетов – 15, бронепоездов – 23, миллионы ружейных патронов и снарядов, десятки тысяч винтовок.
Затем новое назначение: командующим 9-й (Кубанской) армией Кавказского фронта. Штаб армии находился в Новочеркасске.
О наступлении войск армии один из его участников вспоминал: «По пути от Новочеркасска ударная группа очистила от деникинцев десятки хуторов, станицы Багаевскую, Манычскую, Кагальниц-кую, Гуляй-Борисовку и продолжала преследовать донскую армию белых, сильные удары нанесла 3-му и 1-му Донским корпусам в районах Кагальницкой и Мечетинской. 6 марта сводный конный корпус Д. П. Жлобы и приданная ему 33-я стрелковая дивизия М. К. Левандовского штурмом взяли Новопашковскую. 7 марта был тяжелый бой у Екатериновской, где стремительное движение ударной группы пыталась задержать свежая конница генерала Секретова. Но из этого ничего не вышло. Части Жлобы и Левандовского ворвались в Екатериновскую и погнали беляков в направлении станицы Павловской. Окружив и захватив в плен три полка 4-го Донского конного корпуса, вышли во фланг скопившимся под Тихорецкой войскам деникинцев».
– Продолжать наступать дальше! – потребовал Уборевич.
Вскоре 9-я армия штурмом взяла Екатеринодар, а 27 марта 1920 года и Новороссийск.
За успешные боевые действия по очищению Северного Кавказа от деникинских войск Уборевич был награжден почетным золотым оружием.
Вскоре он снова назначается командующим 14-й армией и руководит боевыми действиями против белополяков. А через два месяца возглавляет 13-ю армию и сдерживает натиск врангелевцев в Северной Таврии и Донбассе. Награждается вторым орденом Красного Знамени.
В 1921 году Уборевич организует разгром махновцев, участвует в подавлении антоновщины в Тамбовской губернии, ликвидирует банды Булак-Балаховича в Белоруссии.
А потом были Сибирь и Дальний Восток. В августе 1921 года он назначается командующим 5-й армией и Восточно-Сибирским военным округом. Ему приказано готовить войска к освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. В конце сентября он прибывает в Хабаровск. Вскоре – он военный министр Дальневосточной республики и, сменив Блюхера, назначается главнокомандующим Народно-революционной армии.
Помню, до войны очень популярной была песня «По долинам, по загорьям». И был в ней куплет:
Будут помниться, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.
И мало кому было известно, что эту былинную операцию разработал и блестяще осуществил молодой командарм и военный министр Иероним Петрович Уборевич.
Спасск – ворота в Приморье. Японские интервенты превратили его в мощный управляемый район. Основу его обороны составляли семь полевых фортов, соединенных между собой окопами и прикрытых пятью рядами проволочных заграждений. По тем временам это было серьезное укрепление.
На рассвете 8 октября 1921 года войска Народно-революционной армии двумя колоннами начали штурм спасских укреплений. В обход укреплений была направлена кавалерийская бригада с задачей прорваться в тыл противника.
Белогвардейцы оборонялись с отчаянием обреченных, но ничто не могло спасти их. 8–9 октября части НРА при содействии партизан захватили ряд фортов и другие укрепленные пункты. Оказавшись под угрозой окружения, белогвардейский гарнизон Спасска был вынужден оставить город. В полдень 9 октября Спасск стал советским.
Пребывание Уборевича на Дальнем Востоке способствовало укреплению этого удаленного форпоста Советской республики, был открыт выход в Тихий океан.
По возвращении с Дальнего Востока, он занимал ответственные должности в Москве и Киеве, был командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.
В 1927–1928 годах Уборевич проходит курс в высшей военной академии германского генерального штаба.
Еще ранее по представлению Штаба РККА приказом Реввоенсовета Республики Уборевич был причислен к Генеральному штабу. Высшая аттестационная комиссия признала его достойным командовать войсками фронта. Он пишет военно-теоретические труды, обогащая советскую военную науку и готовя Красную Армию к недалекой войне.
Уборевича арестовали 29 мая 1937 года. Его жена Нина Владимировна находилась с дочерью в Москве, когда ей сообщили о приезде из Смоленска Иеронима Петровича. В Смоленске размещался штаб Белорусского военного округа.
Бросив все дела, она поспешила на вокзал. Еще издали она узнала вагон. Странное дело, во всех дверях стояли работники НКВД. Предчувствуя недоброе, она оттолкнула одного и вбежала в вагон. И увидела мужа. Он шел по коридору в штатском костюме, очень бледный, впереди и сзади – военные.
– Иеронимус! – крикнула она. – Что случилось?
– Не волнуйся, Нинок, все уладится. – Он еще хотел что-то сказать, но их затолкали в разные купе…
Ее продержали около четырех часов. Когда выпустили, она поехала в управление НКВД.
– Что у вас творится? – не веря случившемуся, спросила она начальника. – Командарм Уборевич арестован в своем вагоне!
– Успокойтесь, успокойтесь! – ответил тот. – Это, конечно, недоразумение.
А ночью на квартиру пришли с обыском.
Физически не очень крепкий, Иероним Петрович на допросах держал себя стойко, с достоинством, отвергая все измышления и наговоры. Когда о том доложили наркому Ежову, тот распорядился применить к нему физическое воздействие. И палачи постарались. Член Специального военного присутствия, командарм 2-го ранга Алкснис рассказывал, что на суде он едва узнал Иеронима Петровича – такими страшными были его лицо и согбенная фигура.
Уборевич не дожил до войны, к которой он с таким усердием готовил войска. Хребет фашизму сломали без него. И большая заслуга в том талантливых учеников, военачальников, продолживших его дело. А потому немалый вклад в Великой Победе принадлежит и ему, командарму Уборевичу.
Р. П. Эйдеман
1895–1937
С именем Роберта Петровича Эйдемана – виднейшего командира Красной Армии, связано много важных событий в истории гражданской войны.
Р. П. Эйдеман родился 9 мая 1895 года в семье латышского народного учителя. Окончив начальную школу, поступает в реальное училище, а по окончании его в 1914 году в Петроградский лесной институт. Здесь он начинает революционную деятельность, активно участвует в студенческих кружках.
В 1916 году Роберта Эйдемана призывают в армию и направляют в Киевское военное училище, по окончании которого он получает назначение в Сибирский пехотный полк. Вскоре прапорщику доверяют командование стрелковым батальоном запасного полка в Канске.
После Февральской революции 1917 года Эйдемана избирают заместителем председателя Исполнительного комитета Сибири. С мая 1918 года – он командир красногвардейских отрядов, которые вели боевые действия в районе Омска. В том же году командовал дивизиями на Восточном, а затем на Южном фронтах. Под его водительством 13-я армия громила войска Врангеля в Северной Таврии и Крыму. После окончания гражданской войны Эйдеман был помощником М. В. Фрунзе, когда тот командовал войсками Украины и Крыма.
После смерти Фрунзе, возглавлявшего тогда и военную академию, на должность начальника и комиссара Военной академии им. М. В. Фрунзе был назначен Эйдеман. В этой должности он пребывал до 1932 года. За этот семилетний период академию окончили сотни командиров Красной Армии. Многие из них стали потом видными военачальниками. Это И. В. Болдин, И. С. Конев, Г. К. Маландин, П. С. Рыбалко, P. M. Штерн, А. И. Антонов, Е. И. Ковтюх, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, В. Д. Цветаев, К. А. Мерецков, В. Д. Соколовский, B. C. Попов, Л. А. Говоров, А. В. Горбатов, Г. К. Жуков, М. А. Пуркаев, К. К. Рокоссовский и другие.
Являясь признанным военным теоретиком, Эйдеман был ответственным редактором журнала «Война и Революция». Он принимал активное участие в разработке вопросов военной теории и истории гражданской войны.
С 1932 года был председателем Центрального совета Осоавиахима СССР.
Роберт Петрович был поэтом. Председатель латвийской секции Союза писателей СССР. На Первом Всесоюзном съезде писателей его избирали членом Правления Союза.
Рассказ «О смерти», который он написал в 1930 году, говорит о личных переживаниях автора и его героическом прошлом.
О смерти
В последнее время я начал все чаще думать о смерти. Может быть, потому, что время от времени меня рассматривают врачи. Я очень благодарен за такое внимание отзывчивому и милому Наговицыну. Врачи измеряют мое сердце, считают пульс, щупают печень и кишечник.
Да, кишечник, говорят, у меня плох. Это, вероятно, потому, что я много воевал и, воюя, не слишком вежливо обходился со своим желудком. Мне, оказывается, уже в те дни была нужна диета. Благодарю за совет!
Да, и сердце у меня расширено. Это потому, что в великие годы, когда у нас в каждом шве таились тифозные вши, кровь мою сжигал тиф. Это потому, что целыми днями и ночами я сидел верхом на лошади, случалось, спал на соломе, а то и вовсе не спал, бессовестно утомляя свое сердце, и, перегруженный всякими делами, жил вообще вне всяких норм.
Врачи правы. По ночам я иногда чувствую, слышу свое сердце. Работает оно глухо, неровно. Что-то в нем заскакивает, как в усталых, старых часах, готовых остановиться. Сердце сладко замирает, но в мозгу пульсирует, – килдег кровь. Конец! Конец! Я сажусь, но боюсь вскрикнуть, чтобы не разбудить своего маленького сына. Так сижу я в кровати, седеющий, жалкий, и прислушиваюсь, не слышно ли сквозь удары моего сердца тихих, крадущихся шагов смерти.
Я вижу – вам смешно. Вы хотите сказать: какой трус этот человек, которого мы все считали героем! Вы начинаете сомневаться, можно ли верить тому, что человек этот был смелым в бою, и начинаете подозревать, не потерял ли он свои конечности под трамваем или в другой уличной катастрофе.
Вы правы! Смейтесь! С тех пор, как я стал спать в кровати, я боюсь смерти. Кровать напоминает мне гроб. Поэтому я иногда стелю на пол пальто и ложусь на него. Тогда я сплю спокойно, как спал все те годы, когда борцы за революцию еще не смели мечтать о кровати. Мне не жаль расстаться с гробом, именуемым кроватью. Я еще не разучился спать на полу, постелив пальто и подложив под голову локоть.
Умереть в кровати я не хочу. Смерть в кровати слишком торжественна. Вся церемония похорон мне противна. Противен путь в крематорий. Вижу себя в гробу. Моя единственная рука, испещренная, как географическая карта, синими, узловатыми жилами, бессильная и увядшая, лежит на вздувшемся животе, – ему, во всяком случае, следует вздуться от радости, что наступил покой – этому животу, больному, уставшему переваривать всякие непереваримые вещи и терпеть придирки врачей. Мой курносый, простодушный нос заострился. Он сильно вытянулся, точно хочет вдохнуть все запахи цветов, в которых я лежу в первый и в последний раз. Глаза у меня полузакрыты.
Волосы на мертвой голове мертвые, тусклые. Я не сомневаюсь, что меня, как старого партизана, проводят с музыкой. Об этом позаботятся друзья. Они торжественно будут стоять вокруг моего гроба, тихо перешептываясь, точно боясь меня разбудить.
Черт побери эту торжественную церемонию.
Поэтому я говорю: я хочу умереть так, как умер мой друг, незабвенный донецкий шахтер Нирненко, который повел за собой в революцию родную деревню Титовку и сложил под Варшавой свою горячую, светлую голову. Я хочу умереть так, как умер другой шахтер, славный командир сто тридцать шестого полка, Дзюба, или так, как умер храбрый Апатов – у него были длинные, как у священника, волосы, блестящие, черные, как та смола, которой он, мариупольский рыбак, когда-то смолил лодку. Глаза у него были голубые, той теплой голубизны, какая бывает у моря летом. Я хочу умереть в бою.
Хорошо умереть так, как летом 1918 года умер путиловский рабочий Вавилов, командир броневика при штабе моей партизанской армии. В то лето в сибирской степи все хорошо росло. Рощи пышно зеленели огромными зелеными купами. Море тяжелых колосьев колыхалось волнами на нивах вдоль железной дороги, где мы воевали. Нам было жаль отдать белым эту цветущую землю. Мы дрались, как безумные. Мы дрались за лучшую, более легкую жизнь для того крестьянина, который, поглаживая колосья, равнодушно, пожалуй, скорее враждебно, следил за огромными одуванчиками-шрапнелями, летавшими вдоль железной дороги. Охрипшие пулеметы лаяли тоже только у железной дороги. В степи же стояла тупая, равнодушная тишина. Мы кричали в степь: «Приходите!» Нам отвечало из зелени рощ лишь равнодушное эхо.
Вавилов умер у станции Вагай. Вероятно, эту станцию не переименуют в память о нем, но я, глядя на карту Сибири, называю ее «Вавиловкой».
Белые зашли к нам в тыл. Станция осталась бы без охраны, если бы туда не подоспел Вавилов со своим броневиком. Целый час курсировал броневик у станции, выслеживая белых. Целый час пулеметный вихрь рвал слабеющие цепи белых. Мы подходили к станции, когда бой смолк, непонятный для пас в то мгновение, но шум его придавал нам особую бодрость, звал нас вперед. Мы бежали и прислушивались: бой все длился.
Что за бой? Кто там дерется? Почему бой внезапно смолк?
Наши разведчики почти без выстрела овладели станцией. Белые спешно отступили в степь. Перед станцией лежали около полусотни трупов. Там же, перед станцией, мы увидели черный, закоптелый броневик с двумя обгоревшими трупами в нем.
Что случилось? Почему из броневика вырвалось пламя? Железнодорожники видели, как в пламени и дыму, сея вокруг себя ужас и панику, носился броневик Вавилова.
Так умер Вавилов. Он умер неплохо. Умирая, он, конечно, не думал о смерти. Он не думал о смерти, как не думал тогда о ней и я, не думали сотни людей, смотревших смерти в глаза. Мы умирали спокойно, зная, что умираем во имя лучшего будущего.
Черт побери, мы умирали за большинство человечества!
О чем я говорил? Да, о Сибирских просторах и о смерти металлиста Вавилова. Можно ли сосчитать всех тех, кто на этих просторах сложил свою голову за первые Советы и за мировую революцию?
В этих просторах прячется в зелени деревьев маленькая станция Подъем. Она называется так, вероятно, потому, что от Тюмени путь к Уралу идет в гору.
На станции, конечно, есть начальник. У него, конечно, красная фуражка, надев которую он приветствует поезда. Проводив поезд, он снимает свою красную фуражку и садится к телеграфному аппарату. На станцию редко заглядывают пассажиры. Еще реже останавливаются поезда. В зимние вечера, гордо сверкая огнями, по тихой, заснувшей степи бегут мимо экспрессы. Чего им здесь останавливаться – здесь, в снегу и во тьме, если в двадцати километрах отсюда их ждут впереди тюменские огни, депо с веселым шумом, перрон, залитый электрическим светом?
Пусть уж извинит меня начальник станции Подъем за мою навязчивость: я все же решаюсь вмешаться в его личную жизнь. Конечно, у него есть жена. Жить холостому, одинокому человеку в такой глуши невозможно. И если у него действительно есть жена – пусть он еще раз извинит меня, я не сомневаюсь, что они оба ни раз мечтали о жизни на другой, более крупной, светлой станции, у которой останавливаются экспрессы.
Милый начальник станции, я хочу примирить тебя с твоей судьбой. Пройдет несколько лет, и в пробегающих мимо поездах не найдется такого человека, который не захочет даже ночью встать с постели, чтобы взглянуть хоть в окно на тебя, на станцию с деревьями. Летом из поезда будут сыпаться загорелые экскурсанты, пионеры будут звонко кричать на перроне под тихими деревьями. У меня нет таких сильных и хороших слов, чтобы суметь рассказать, почему заслужила такую честь эта тихая станция у холма. Такие слова найдут поэты революции. Я знаю, что найдут они такие слова. Они найдут слова, которые ночью поднимут с постели самого равнодушного пассажира и заставят его подойти к окну вагона.
Летом 1918 года у этой станции погиб отряд латышских стрелков. Одиннадцать человек, все прошедшие сквозь огонь мировой войны, все большевики – они умерли у этой станции.
Одиннадцать человек. Одиннадцать павших. Стыдись, Гайгал! Стоит ли говорить об одиннадцати, когда за революцию пали тысячи?
Я не могу забыть этих одиннадцать человек… Может быть, я полюбил их слишком сильно. Я полюбил их, как славных парней и храбрых воинов.
Эту команду я привез с собою из Москвы. В Москву я уехал в начале 1918 года как делегат съезда Советов Сибири голосовать за мир. В Москве я задержался. Мне, делегату съезда Советов Сибири и старому фронтовику, пришлось ходить по заводам, выступать с речами, воевать с социал-предателями – они тогда по-другому назывались, – которые в те дни очень бахвалились и штурмовали Московский Совет. Не раз приходилось мне торжественно обещать московским рабочим хлеб Красной Сибири. Вы можете себе представить мое возмущение и гнев, когда я узнал, что этому хлебу угрожают белогвардейские банды и белочехи. Разве я, Янис Гайгал, на массовых собраниях не обещал сибирского хлеба, ударяя себя звонко кулаком в грудь? Мог ли я допустить, чтобы все эти мои обещания, данные именем революции, оказались ложью? Мог ли я дольше оставаться в Москве, когда там каждый москвич, встретив на улице меня, большого крикуна на всех митингах, был бы вправе плюнуть мне в лицо, а при упоминании обо мне даже круглая белая борода Минора задрожала бы в смехе. Та самая круглая белая голова, которую я при помощи моей звонкой глотки так много мыл всякими плохими словами, каких я не сказал бы в другое время такому старому человеку.
– Папаня, идите лучше спать! Мы дали мир. Дадим мы и хлеб! И вы, папаня, сможете спокойно сидеть дома и кусать хороший сибирский хлеб уцелевшими зубами, которыми вы теперь хотите кусать советскую власть.
В те времена у меня была такая глотка, что я в один день мог сказать пять, шесть речей. Даже сам товарищ Ленин, который присутствовал на одном митинге, был очень доволен моей речью, отметил мою фамилию в записной книжке и пригласил зайти к нему.
– Я тебя обязательно познакомлю с Демьяном. Твоя речь была остроумной, я от души смеялся!
Приблизительно так он сказал.
Но зайти мне к нему не пришлось. На следующий день я узнал о первых боях под Омском. Я был так поражен и огорчен, что мне снова пришлось действовать и пустить в дело свою глотку.
В Москву тогда прибыли латышские полки. Их еще не посылали на фронт. Но я сагитировал одиннадцать добровольцев с четырьмя пулеметами. В тот же день я сагитировал еще одну батарею, вернувшуюся с фронта после демобилизации.
Так я стал главнокомандующим. Как главнокомандующий армией, я сформировал поезд. Батарея и добровольцы уселись до того, как об этом стало известно начальству. Сознаюсь теперь в этом своем грехе. Надо думать, что никакой трибунал не будет больше судить меня за это. Ведь тогда сердце мое так болело, что задерживаться в Москве, ходить по разным учреждениям в поисках разрешения я не мог.
Теперь, конечно, каждому ясно, почему я в то лето сразу стал главнокомандующим первой Сибирской армии, фронт которой простирался между Ишимом и Тюменью. Славные, горячие были там бои! У Омутинска, Богапдипа и других станций!
Этот участок железной дороги между Ишимом и Тюменью я и сейчас еще так хорошо знаю, точно долгие годы ездил там кондуктором.
Положение первой армии было нелегким. Ее теснили белые с двух сторон – от Омска и от Кургана. Железная дорога Омск – Челябинск была уже в их руках, и оттуда шли нам в тыл части белых, но мы дрались лицом на восток – в сторону Омска и Ишима.
И вот наступил день, когда мне пришлось бросить на станцию Подъем свой последний резерв – одиннадцать стрелков с четырьмя пулеметами. Белые угрожали тылу станции Подъем и тем самым и Тюмени. На фронте все силы были втянуты в бой. Ночью белые разведчики в ближайшем от фронта тылу взорвали мост. Наш единственный бронепоезд в то утро метался, как бешеный зверь, между фронтом и этим мостом. На починку моста, но мнению инженеров, нужна была целая неделя. Призвав на помощь своей глотке наган, я добился торжественного обещания инженеров починить мост к вечеру того же дня. Итак, бронепоезд пока не мог защитить станцию Подъем. Поэтому я послал туда все, что мог в тот тяжелый момент, – одиннадцать стрелков с четырьмя пулеметами. Их задачей было держаться, пока не починят мост и не освободится путь для бронепоезда.
Я при помощи своей громкой глотки старался организовать в Тюмени коммунистов, рабочих кожевенной фабрики и железнодорожников. Красному фронту нужно было пополнение.
Стрелки в то утро уехали с песнями.
– Сегодня мы наперчим свинцом обед белых!
В утро они были веселы, как всегда.
В обед прервалась телефонная связь между Тюменью и Подъемом. Около станции Подъем свирепствовала пулеметная буря, свирепствовала почти до вечера. Стихла только тогда, когда наш бронепоезд подходил к семафору станции Подъем, стоявшему весь тот день с поднятой кверху рукой.
Они хорошо дрались, эти веселые парни, и, когда были выпущены последние пули, а остатки белых снова кинулись им навстречу с воинственными криками, пулеметчики бросили в них гранаты. Взрыв разметал наших охрипших от крика пулеметчиков, стрелков и немало белых.
Тюмень была спасена. Мы могли ее спокойно эвакуировать. План белых окружить нас провалился.
Полковник Сыровой с остатками своих частей отступил от станции Подъем в степь. Вместо двухсот человек он отступил с несколькими десятками потерявших мужество людей, открывая нам путь на Урал и в Советскую землю.
Когда я думаю о смерти этих одиннадцати, или о смерти Вавилова, Нирненко и многих других красных фронтовиков, мысли мои легкие и ясные. Смерть уже не смерть, ее шаги звучат для меня как радостный марш войны и победы.
Мои больные мысли о смерти и уничтожении человека, проходя сквозь эти воспоминания, выходят на берег ясные и светлые. Так и наши рубашки, посеревшие от долгой носки, тоже светлели, когда мы их стирали в речной воде, взбаламученной войной.
Я знаю, все мои мысли о разных глупых вопросах, о смерти возникают оттого, что я вынужден сидеть в стороне от жизни. Если бы я не лишился у Перекопа левой ноги и правой руки, – тогда мне против своего обыкновения пришлось долго пролежать в осенней степи, – я, без сомнения, еще сегодня крутился бы в таком радостном вихре жизни, что мне некогда было бы заниматься ненужными рассуждениями. Но когда человек сидит в стороне, ему в голову лезут всякие мысли, и дельные, и пустяковые. Впрочем, нельзя сказать, что я сижу без всякой работы. Гунар Гайгал ходит в школу, по вечерам я ему помогаю готовить уроки. Кроме того, отовсюду, где я когда-то воевал, мне пишут партизаны о всех своих радостях и горестях, во имя которых мне приходится ковылять по разным учреждениям. За эти годы я научился открывать костылем двери лучше, чем другие открывают рукой. Но о своей жизни инвалида я расскажу в другой раз.
Все же – не хочу я умереть в кровати.
Я хочу еще участвовать в тех боях, которые, без сомнения, еще предстоят нам, пока красное знамя расцветет победою над всем миром. Пехотинцем я не смогу быть, верхом ездить тоже не смогу. Конечно, для войны мало одной руки, но глотка у меня все еще звонкая. Эта глотка еще пригодится!
Замечательно наше время, мой друг! Я сижу в стороне, но часто, глядя, как растут стены новых домов и фабрик, чувствую, как кровь у меня радостно закипает в жилах, так же, как в годы войны. Знал бы ты, как мне хочется дожить до социализма!
Возможно, что именно поэтому я начал бояться смерти.
Как коротка, слишком коротка была до сих пор человеческая жизнь! С криком приходил человек в этот мир, чтобы уже с молоком матери всосать болезни и смерть. Одни умирали с голоду, другие от беспутства, и в конце все так или иначе страдали от неорганизованной, несправедливой жизни. При социализме человек будет жить долго, счастливо, и, когда, наконец, его сердце устанет от долгих, мудрых и светлых лет, он расстанется с жизнью с таким же удовлетворением, с каким мы в годы войны, поев досыта, отодвигали в сторону пустые котелки.
При мыслях обо всем этом мне всегда становится тепло и хорошо.
Эх, Янис Гайгал, не зря ты воевал! А твоя звонкая глотка еще пригодится!