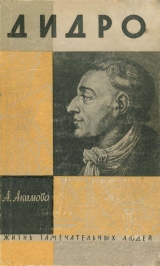
Текст книги "Дидро"
Автор книги: Алиса Акимова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Мало того, в «Парадоксе об актере» Дидро вспоминает, как он сам некогда колебался между Сорбонной и Комедией. Зимой, в самые жестокие морозы, он в пустынных аллеях Люксембургского парка разучивал роли из Мольера и Корнеля.
На что он рассчитывал? На рукоплескания? Может быть. На связи с актрисами, которые казались ему очень привлекательными? Несомненно. Рассказывая об этом, Дидро нарочно подчеркивает, что никакие высокие соображения им не руководили.
Поводом к написанию «Парадокса об актере» послужила малозначительная брошюра о великом английском актере Гаррике. Маленький повод вызвал большие последствия. Очень полегло утверждению равноправия актера с мастерами других искусств и то, что говорится в «Парадоксе» о самом Гаррике, лучшем исполнителе Шекспира, великом актере-реалисте и о многих великих французских актерах. Кстати, среди замечательных откровений «Парадокса» содержатся и очень интересные наблюдения над различиями национальных стилей актерской игры – французского и английского.
Еще одно не менее важное обстоятельство. Большая часть французских актеров и актрис, о которых Дидро говорит с восторгом и уважением, – и Клерон, и Барон, и Моле разрушали сценическую традицию классицизма, утверждая правду, естественность, простоту, заменяя декламацию и позу простой человеческой речью и простыми жестами, то есть они-то и проводили реалистическое преобразование театра, к которому он призывал.
Спрашивается, почему же на сцене этого театра «Отец семейства», как говорится в самом «Парадоксе об актере», был первоначально холодно принят и только после возобновления в 1769 году стал собирать полный зал еще до половины пятого (тогда спектакли начинались в это время) и актеры стали объявлять эту пьесу всякий раз, как нуждались в лишней тысяче экю? Сам Дидро в «Парадоксе» объясняет это недостаточной талантливостью своей пьесы. «Хотя кто-то и говорил, что нравы наши были слишком далеки от природы, чтобы примениться к жанру столь безыскусному, слишком растленны, чтобы воспринять жанр столь добродетельный… опыт доказал, что это неверно, ибо мы не стали лучше», – настаивает «Первый», опровергая замечание «Второго»: «Это не лишено правдоподобия».
Но разгадка не только в недостаточных достоинствах «Отца семейства». В этом Дидро был прав и даже сделал отсюда практический вывод: решив, что в этом жанре он работает много хуже, чем в других, философ много лет вообще не брался за сочинение для сцены Впрочем, когда взялся, то в комедии «Добр ли он, зол ли он?» превзошел самого себя.
Скорее разгадка была в том, что за девять лет, отделявших премьеру «Отец семейства» во Французской комедии от ее возобновления, если не вся труппа, то отдельные актеры сильно продвинулись на пути к реализму К тому же продвижение это было постепенным и легче достигалось на более привычном репертуаре, подготовившем их и к исполнению «серьезной драмы» Дидро.
Вот и вся история.
IV Коронованным подписчикам или искусству, нации, человечеству?
Первым стал посылать герцогине Саксен-Гота корреспонденции о литературных и художественных новостях Парижа, придав им форму рукописного журнала, еще аббат Рейналь. Это было в 1747 году.
В 1753-м его место занял Фредерик, или Фридрих, Мельхиор Гримм. Гримм, кроме того, что был литератором и философом, был еще и дипломатом, причем не только по профессии, но и по натуре. Недаром Гримма шутя называли посланником «Энциклопедии» при немецких дворах. Впрочем, не только немецких. Если же говорить не шутя, а серьезно, он был сперва секретарем саксонского посланника при общегеманском сейме, затем сопровождал герцога Саксен-Гота в Париж и там обосновался. Это произошло в 1748-м. Тогда же он вошел в кружок энциклопедистов, близко сошелся с Руссо, Вольтером, Гольбахом, Гельвецием и особенно с Дидро, став его лучшим другом.
В 1752-м Гриэтм опубликовал «Письма об «Омфале» – лирической трагедии – критический этюд о французской опере и музыке вообще – и памфлет на итальянскую оперу – «Маленький пророк из Бемшиброда». Эти литературные выступления принесли ему известность в парижских салонах и позволили стать постоянным корреспондентом не только герцогини Саксен-Гота, заняв место Рейналя, но и еще нескольких европейских монархов.
Эти услуги коронованным особам – он регулярно извещал их обо всех новостях литературной и художественной жизни Парижа, – вероятно, помогли продвижению его на дипломатической лестнице. К 1759 году Гримм дослужился до поста парижского посланника Франкфурта, затем был парижским резидентом того же герцогства Саксен-Гота.
В свите ландс-графини Гессен-Дармштадтской, ездившей на бракосочетание дочери с наследником Павлом Петровичем, он впервые попал в Санкт-Петербург, а окончил свою жизнь посланником Екатерины II при одном из дворов Европы.
Полное название рукописного журнала Гримма было «Литературная, философская и критическая корреспонденция», но для краткости его обычно называют просто «Корреспонденция». Постепенно тираж этого издания увеличился до пятнадцати экземпляров В числе подписчиков были Екатерина II, шведский король, польский король Станислав Август, другие монархи Европы помельче и несколько самых крупных сановников.
Салоны – периодические выставки произведений живописи, скульптуры, гравюры начались в Париже еще в середине XVII века. Почин принадлежал Королевской академии художеств. Правда, тогда они еще не назывались салонами. Большая выставка работ членов академии была устроена в 1673 году под открытым небом, во дворе Пале-Рояля.
О закрытом помещении для выставок позаботился архитектор Мансар, вступив в должность интенданта королевских строений.
Выставка 1699 года после перерыва в пятнадцать лет была открыта уже в Большой галерее Лувра и насчитывала до трехсот картин и скульптур. Король милостиво разрешил обставить галерею мебелью, коврами и гобеленами из дворцовых хранилищ. Каталог выставки составил знаменитый сказочник Шарль Перро. На особом возвышении был выставлен окруженный пышной декорацией портрет короля Людовика XIV работы Риго. Тогда ассигнования на картины еще не были урезаны.
Позже выставки перевели в Большой салон Лувра, откуда и пошло название Салоны. При Людовике XV состоялось двадцать пять Салонов, с 1725-го по 1773-й, то есть до самой кончины короля. Продолжались Салоны и при его преемнике, Людовике XVI, и в первые годы революции. С 1751 до 1795 года они устраивались со строгой периодичностью, раз в два года.
Выставлялись «академики» и причисленные – два разряда художников Королевской академии. Как правило, к очередному Салону выпускался каталог (livret) с перечнем всех выставленных произведений. Развеска картин и гравюр и расстановка скульптур поручались кому-нибудь из художников. Он назывался tapissier, примерно это слово означает «организатор». В течение пятнадцати лет tapissier Салонов был Шарден.
Как развешивались картины, можно себе представить по акварели де Сент-Обена, изображающей Салон 1767 года, и по гравюре Борне – «Салон 1785 года». Теснота, надо сказать, на выставках была большая: картины заполняли сплошь все стены до самого потолка, между рамами почти не оставалось промежутков.
Уже это свидетельствует о том, что претендентов на участие в Салонах было много. С 1748 года было введено жюри. Оно рассматривало и отбирало произведения для выставки. Мосье Ленорман-Детурнем, директор королевских строений, в чью компетенцию входили также художественные дела двора – раздача заказов художникам и другие формы королевского меценатства, мотивировал это тем, что «выставки приобретают блеск не благодаря большому количеству картин, но благодаря их правильному выбору».
Но что понимать под правильным выбором?! В жюри входили благонамеренные с точки зрения двора академики. Это определяло их эстетические суждения, кроме того, они не забывали и о нравственности и о религии. Когда парижский архиепископ выразил недовольство картиной Бодуэна «Священник благословляет молодых девушек», этого оказалось достаточно, чтобы жюри отвергло картину. Картина Дебюкюра «Благотворительность короля Людовика XV» тоже вызвала сомнение. Впоследствии будет забракована скульптура Гудона.
Что остается отвергаемым королевским жюри художникам, как не открыть свой Салон молодежи?! Впоследствии откроются и Салон отверженных и Салон независимых. Выставки Салона молодежи устраиваются под открытым небом. В них участвуют преимущественно художники, не принятые в академию, и любители, рисовальщики-ремесленники. Но в Салоне молодежи выставляются и такие мастера, как Буше, Ван-Лоо, Наттье, даже Шарден.
И тем не менее с конца пятидесятых годов XVIII столетия до начала восьмидесятых Салоны собирали все самое значительное, что создавали тогда французская живопись, гравюра, скульптура.
Вернисажи Салонов обставлялись пышно и торжественно, собирали многочисленную публику. Мерсье в «Картинах Парижа» не преминул, разумеется, описать один из таких вернисажей: «Поток посетителей не прекращается с утра до вечера. Бывают часы, когда в нем задыхаешься. Это настоящее смятение… Зрители столь же пестры, как то, что изображено на картинах, где смешалось все – и духовное и светское, патетическое и гротескное. Какой-то зевака принимает персонажа басни за святого, Тюфона за Гаргантюа, Каррока за святого Петра, Ноев ковчег за телегу Оксерра…»
И в самом деле, к тому времени, как XVIII век перевалил за первую свою половину, в прекрасных искусствах Франции словно бы все смешалось. От последней монументальной фигуры французской живописи Никола Пуссена прошло сто лет. Холодный и казенный академизм делил власть с вычурным в игривым рококо. Церемонный парадный официальный портрет соседствовал с галантной пасторалью эпигонда Ватто с его пастушечьими сюжетами. Чопорная риторика Вьена уживалась с откровенной эротикой Буше и Фрагонара. Рассудочность – с манерностью.
Академическая живопись была явно вне реального мира, она заменяла его условным миром канонических застывших форм. Рококо претендовало на изображение реальной жизни. Но что содержали картины его художников, кроме искусственного подъема чувств, что было в них от жизни, кроме имитации и стилизации?! И пейзаж и интерьер превращались у них в декорацию. Академизм давал образы – аллегории «героики», «красоты», «грации», трафаретный «набор» античных сюжетов и персонажей. Рококо те же мифологические сюжеты превращал в фривольные анекдоты.
Сотрудничество Дени Дидро в «Литературной, философской и критической корреспонденции» началось в 1757-м заметкой об «Ифигении из Тавриды» де Латуша и кончилось в 1782-м несколькими строчками об «Истории королевства Сиам» де Тюльпена. В пятнадцатилетием промежутке между ними философ поставлял своему другу критические и теоретические статьи о литературе, философии, истории, политике, архитектуре, театре, в том числе и набросок «Парадокса об актере». А главное – «Салоны», обзоры периодических выставок живописи, скульптуры и гравюры.
Дидро поместил в «Корреспонденции» девять «Салонов», начав в 1759-м и закончив в 1781-м, а Салонов за эту четверть века, если считать до самой его смерти, было тринадцать. Он пропустил Салон 1773 года во весьма уважительной причине – уезжал в Голландию в Россию – и но менее уважительным причинам Салоны 1777-го и 1779-го. Написать обзор последней при его жизни выставки 1783 года Дидро помешала тяжкая болезнь, от нее он и умер.
Первоначальное предположение, что Дидро был автором «Салонов», печатавшихся в Гриммовой «Корреспонденции» 1753, 1755 и 1757 годов, опровергнуто и самим Гриммом и Нэжоном.
«Салоны» носили форму писем Гримму. Они и возникли по инициативе Гримма. Это он предложил Дидро писать их и регулярно о них напоминал. Как свидетельствуют современники, хорошо знавшие обоих, не Дидро имел влияние на Гримма и этим влиянием пользовался, но Гримм имел влияние на Дидро и распоряжался философом по своему усмотрению. Эпиграфом к этим обзорам Дидро, занимающим такое большое и почетное место среди его сочинений, казалось бы, можно было бы поставить начальные слова «Салона 1765 года»: «Если у меня есть какие-либо здравые мысли о живописи и скульптуре, то ими я обязан вам, мой друг; я без вас шел бы с праздной толпой посетителей Салона…»
Следовательно, у нас нет оснований обижаться на Гримма. «Без «белокурого тирана» Дидро, занятый многим иным, может быть, и не стал бы художественным критиком. Гримм познакомил своего «автора», как бы мы выразились, со многими художниками.
Это не значит, что Дидро не страдал от требовательности Гримма. Он жаловался Софи: «Я получил от Гримма тираническую записку, она ранила мою нежную душу. Я обязался дать ему несколько строк о картинах, выставленных в «Салоне». Он мне написал, чтобы это было не позже чем завтра. С ним бесполезно спорить. Я буду отмщен за эту жестокость. Работал вчера всю ночь и сегодня весь день. Проведу за работой снова всю ночь и завтра весь день, и он получит исписанный том. Мосье посланник должен был бы обращаться со мной менее жестоко. Он требует от меня суждений о картинах, я должен их видеть, я возвращаюсь домой, пишу целый том… О мой друг, «Салоны» – это страшная повинность».
Но повинность эту Дидро нес не перед одним издателем «Корреспонденций». «Салоны», писавшиеся якобы для Гримма и его высокопоставленных подписчиков, на самом деле адресовались художникам, скульпторам, граверам, не только тем пятидесяти с лишним мастерам, произведения которых разобраны в «Салонах», а и всем остальным. И, конечно же, это было для Дидро несравненно важнее, чем одобрение или неодобрение короля шведского, герцогини Саксен-Гота, Станислава Августа или даже Екатерины II.
Впрочем, любезный Дидро заверял в 1761 году мадам Эпинэ: «Служа нашему другу, я надеюсь также развлечь и вас. Говорят, шведская королева любит, чтобы ей называли неверующих. Вот маленький каталог. Читайте и поучайтесь!»
Нэжон утверждал, что Гримм наносил существенный урон «Салонам» Дидро, редактируя их применительно к вкусам своих коронованных подписчиков. Но даже, если это и так, общее направление обзоров сохранялось.
«Салоны» Дидро, его «Опыт о живописи» и разрозненные, но очень глубокие мысли об искусстве доходили и до ценителей живописи, скульптуры, гравюры, формировали общественный вкус. «Повинность» была для Дидро и огромной радостью. «Салон 1763 года» начинается так «Да будет благословенна во веки веков память о том, кто основал эту публичную выставку, возбудил соревнование среди художников и дал всем слоям общества, и прежде всего людям, обладающим хорошим вкусом, полезное упражнение и приятный отдых, кто отдалил от нас упадок живописи и, быть может, больше чем на сотню лет сделал нацию более чем другие сведущей и более требовательной в этой области искусства».
Не менее благословенна должна быть память Дидро, чьи «Салоны» не только критика, но явление самого искусства, неотъемлемая и очень важная часть художественной жизни Франции двух с лишним десятилетий. Более того, как изящно выразился наш старый знакомый, новейший французский биограф Дидро Андрэ Бии: «Салоны» были… выражением личности, характера, настроения и зеркалом эпохи, явившись ее редкой и блистательной фотографией, какой не повторила и даже не попробовала повторить журналистика ни XIX, ни XX столетия. Этот беспорядок аксиом, анекдотов, отрывочных а. так, диссертаций, то специальных, то философских, сатир, апострофов, суждений, истинно концертных по силе, по смелости, переходящих от слепого восхваления к суровости, производят, как «Племянник Рамо», как самые знаменитые произведения, вышедшие из-под этого пера, впечатление гениальности». Можно, разумеется, не согласиться с эпитетом «слепое», приложенным Бии к восхвалениям Дидро, прекрасно знавшего, кого и за что он хвалит. Но было бы странно, если бы с Андрэ Бии мы решительно обо всем были одного мнения.
Прав он, бесспорно, в том, что «Салоны» включали в себя решительно все, являясь как бы квинтэссенцией манеры Дидро.
В каждом из «Салонов» автор очень строго следовал за каталогом выставки, не пропуская не только произведений значительных самих по себе, но и таких, которые, будучи малозначительными, давали ему повод для общих суждений.
Дидро соблюдал в «Салонах» точность как бы строго протокольную. Но при том его литературная манера была так свободна и разнообразна, эпистолярный стиль так естественно сочетался со строгостью трактата, чисто профессиональные замечания о рисунке, колорите, свете с общими рассуждениями, интимными отступлениями, диалоги с беглыми заметками, словно бы взятыми из дневника или записной книжки, что это-то и давало ему возможность охватить такое обилие фактов художественной жизни, исторических явлений и явлений современности, проблем эстетики, философии, политики.
Дидро жаловался, что «так плоско ремесло критика! Как трудно создать самому даже посредственную вещь и так легко почувствовать посредственность чужую!!!» Но в применении к себе он не имел никаких оснований жаловаться. Разбирал ли он ту или иную картину или скульптуру, восхвалял ли ее автора или критиковал его, спорил ли с самим собой или с другими, – в «Салонах» немало диалогов, иногда вымышленных, а иногда, как разговор с Нэжоном, записей подлинных бесед, – во все это он вкладывает жар борца, убежденность философа, понимание художника.
Такой художественной критики до Дидро еще не было. Его «Салоны», трактат «Опыт о живописи», приложенный к «Салону 1763 года», «Разрозненные мысли о живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии» разительно отличаются от всего, что прежде писалось об изобразительном искусстве, будь то «Жизнеописания великих художников» Фелибьена, наставления художникам, вроде «Начальных элементов практической живописи» Роже де Пиля, «Рассуждения о живописи и скульптуре» столь любимого Дидро Ричардсона, «Анализ красоты» Уильяма Хогарта и даже «Размышления о скульптуре» друга Дидро – Фальконе. Я не говорю, разумеется, о древних и гениальных мастерах Возрождения.
Можно сказать, что в «Салонах» Дидро родилась художественная критика нового времени.
Что же это была за новорожденная, сразу вставшая на ноги да еще и многих сбившая с ног? Прежде всего Дидро как критика занимали не отвлеченные идеи и дидактические поучения, написанные маслом или гуашью, а истинная мораль произведения. Художник для него – «наставник рода человеческого», так же как поэт, композитор, драматург, актер. С этих позиций он и раздает свои оценки, никогда не умозрительные, а всегда конкретные и доказательные.
Положительные идеалы Дидро в изобразительных искусствах так же конкретны, как отрицательные, они носят фамилии художников, скульпторов, граверов. И в этих искусствах ему повезло больше, чем в драматургии, и даже, чем в театре. В любом из Салонов он находил не только старый порядок, воплощенный в холстах Карла Ван-Лоо, Буше, Вьена. На каждой выставке он находил и воплощение своих положительных идеалов или по меньшей мере приближение к ним.
И как же он был этим счастлив! Вручая Гримму рукопись первого «Салона» – 1759 года, Дидро с огорчением повторил то, что было написано в коротком введении: «Я люблю хвалить, я не хотел бы ничего иного, как быть счастливым и восторгаться». Но тут же вынужден был добавить, что в этом Салоне гораздо больше плохих картин.
Ему не доставило никакого удовольствия разбранить знаменитую картину одного из главных академистов, Карла Ван-Лоо «Язон и Медея». Но он вынужден был воскликнуть: «Прескверная вещь, друг мой! Это театральная декорация со всей ее фальшью, невыносимая пышность красок; сам Язон невыносимо глуп…»
Не меньше огорчили его и четыре равноценные, то есть одинаково плохие, картины Жозефа Мари Вьена, действительного члена академии, лауреата Большой премии 1745 года: «Иисус, преломляющий хлеб с учениками», «Петр, вопрошаемый после рыбной ловли Христом, любит ли он его», «Музыка», «Воскрешение Лазаря».
Ни в одном из этих плохих полотен Дидро не увидел ни малейшего достоинства, особенно сравнив «Воскрешение Лазаря» Вьена с «Воскрешением Лазаря» Рембрандта.
Не обрадовал Дидро в этом Салоне своей картиной «Рождество» и Буше, давший ему повод заметить: «У нас множество художников, среди них мало хороших и ни одного великого; они выбирают прекрасные сюжеты, но эти сюжеты им не под силу… В них нет ни ума, ни возвышенности, ни пыла, ни воображения. Почти все грешат против колорита. Живописи много, мысли мало».
Если следовать каталогу, то не после, а раньше Буше, Дидро добирается до первого своего идеала в живописи, Жана Батиста Симона Шардена. Этот тоже член академии и даже в течение двенадцати лет организатор Салонов, но он нисколько не похож на Карла Ван-Лоо, хотя у него и учился, и на первого художника короля Франсуа Буше с его пасторалями, декоративными панно, шпалерами, плафонами, портретами и одними и теми же завитками рококо! Этот сын гравера и резчика по дереву, сразу видать, вырос не в залах Версаля и гостиных вельмож. Он сочетает новые идеи со смелостью формы. В его картинах Дидро привлекает мир простых вещей, обыденные человеческие лица, будни жизни. Шарден сумел доказать, что кухонная утварь, льняные ткани не менее достойный предмет искусства, чем хрусталь, бархат, кружева, которые так любит изображать в своих пасторалях Буше. Дидро спрашивает: «Где видели вы пастухов, одетых с такой элегантностью и роскошью?» Шарден пошел, считает Дидро, даже дальше нидерландских мастеров: его богатейший колорит наделил прозаическую манеру сверканием цветов и почти осязаемой объемностью.
О, одной темой Дидро не подкупишь: так он любит искусство! Но он так изучил секреты мастерства, что одними ухищрениями его тоже не возьмешь. Такие художники, как Вьен, заставляют его воскликнуть: «Эти господа считают, что все дело в том, как расположить фигуры; они и не подозревают, что самое главное – это величие замысла». Что же касается Шардена, то Дидро в «Салоне 1763 года» писал, что, если бы учил своего ребенка живописи, ой, показывая ему на картины Шардена, говорил: «Скопируй это, скопируй то!»
В 1759 году были выставлены всего шесть небольших картин Шардена: «Возвращение с охоты», «Дичь», «Рисующий молодой человек, видный со спины», «Девушка за вышиванием» и две картины, изображающие плоды. В «Салоне» о них всего четырнадцать строчек, но каких!
«Все эти вещи натуральны и правдивы. Вам хочется пить, и вы берете эту бутылку, персики и виноград будят аппетит, рука сама тянется к ним. Шарден умен, он изучил теорию своего ремесла, он пишет в своей собственной манере, и наступит день, когда каждый пожелает приобрести его картины. Он пишет свои маленькие фигурки в такой свободной манере, как будто они высотой во много локтей. Его не ограничивают ни размеры картины, ни величина предметов».
Нас не должно удивить, что затем следует сравнение с Рафаэлем: «Уменьшайте, если хотите, любое из «Святых семейств» Рафаэля; вы не уничтожите его широкой манеры». Дидро писал словно бы только о картинах, скульптурах, гравюрах, один раз и вышивках, этих девяти Салонов, строго следуя каталогам. Но прочтите внимательно его обзоры, правда прибавив к ним «Опыт о живописи» и «Разрозненные мысли», и вы вперемежку с Шарденом, членами семьи Ван-Лоо, Фрагонаром, Буше, Фальконе, Верне, Вьеном и другими современниками и соотечественниками Дидро обнаружите там имена и названия произведений мастеров совсем иных эпох, а то и государств.' Не только Пуссена, но и Ван-Дейка, Джорджоне, Веронезе, Микеланджело, Джулио Романо, Доу, Корреджо, Рубенса, Гольбейна и многих других. Что же касается Рафаэля, Дидро упоминает его тридцать один раз, десять раз – Рембрандта.
И это не говоря уже о том, что он не забывает Аристотеля, Платона, Плутарха, Гомера, Горация, и вовсе не потому, что они изображены на картинах или в скульптурах Салона. О героях картин и статуй он тоже находит что сказать. Нет, все эти великие художники, философы, поэты, историки нужны ему как мерило для искусства современников.
Начиная «Салон 1761 года» Дидро пишет другу, господину Гримму, что он без выбора и отделки набросал здесь мысли, какие пришли ему в голову. Среди них будут и верные и ложные. Но, во всяком случае, он сбережет Гримму несколько мгновений, которые тот проведет среди своих уток и индюшек.
Затем идут краткие разборы картин тех художников, которые привлекли его внимание уже в предыдущем Салоне. К Карлу Ван-Лоо он на этот раз снисходительнее, называет его «большим художником, хотя и не гением». О пасторалях и пейзажах Буше говорится: «Какие краски! Какое разнообразие! Какое богатство вещей и сюжетов!» Но заключение в устах Дидро убийственно: «У этого художника есть все, кроме правды».
Достается на этот раз и первому его идеалу – Шардену. Пусть, «как всегда, тончайшее подражание природе в манере, свойственной этому художнику; природа у него низка, обыденна, повседневна… но, увы, давно Шарден не заканчивает своих вещей. «Он не дает себе труда выписывать руки и ноги». И Дидро заканчивает столь же жестоким, сколь ироническим упреком, говоря о Шардене: «Он стал во главе небрежных живописцев». К своим Дидро еще требовательнее, чем к чужим. Мы еще увидим, как он ни малейшего промаха или отступления не простит Грёзу.
За Шарденом следует племянник Карла Ван-Лоо, Амедей. Этот заслуживает похвалы за то, что у него хорош колорит. А «цвет в картине подобен стилю в литературе».
Затем Верне, и, наконец, целых шесть страниц посвящены Жану Батисту Грёзу.
В этом нет ничего удивительного. Когда Грёз выставил в 1755-м своего «Отца, объясняющего библию детям», весь Париж был потрясен. Честность, выраженная в фигурах, простота, естественность, добродетельные нравы, которые он утверждал картиной!
Дидро, только познакомившись с этим полотном, немедленно свел знакомство и с его автором, выразив Грёзу свое восхищение, преклонив перед ним колени.
Так поступал он всегда, когда произведение и автор ему нравились.
А Грёз был Дидро ближе и дороже всех художников Салонов. Этот шел дальше Шардена. Он привел в движение то, что у Шардена было еще статично, раскрывая не мир вещей, но живой мир человеческих отношений. На его полотнах третьесословный интерьер пополнился повествовательной фабулой, превратился в сцены действительной жизни. А как сильны были его морализующие идеи! Домовитость, семейные добродетели он противопоставил распущенности и аморальности аристократического уклада. В его картинах – добродетельные отцы семейств, сыновняя привязанность, супружеская верность, скромная красота жен я дочерей буржуа и поселян, прославленные грёзовские головки!
Вскоре после их знакомства Грёз отправился в Руан, где провел год. А вернувшись, он женился на мадемуазель Бабюти, той самой Габриель, дочери книгопродавца, которой Дидро увлекался в молодости.
Он вспоминает в «Салоне 1765 года»: «Этот художник, несомненно, влюблен в свою жену, и он имеет к тому все основания. Я и сам любил ее, когда был молод и когда она называлась мадемуазель Бабюти. Она держала маленькую книжную торговлю на набережной Августинцев, щеголиха, беленькая и стройная, как лилия, румяная, как роза. Я входил в лавчонку, живой, пламенный и безумный, каким был тогда, и говорил ей:
– Сударыня, «Сказки Лафонтена» и Петрония, пожалуйста!..»
В «Салоне 1761 года» Дидро называет Грёза «наш друг». В «Салоне 1763 года» Дидро именует его «мой художник». Пожалуй, ни о ком не пишет он столько, сколько о Грёзе. Ему по душе сам этот жанр – нравоучительная живопись. «И так уже кисть долгие годы была посвящена восхвалению разврата и порока. Разве не наполняет радостью то, что живопись, наконец, стала соревноваться с драматической поэзией в искусстве трогать нас, наставлять, призывать к добродетели. Смелей, мой друг Грёз, морализуй в живописи, у тебя это получается прекрасно! И, расставаясь с жизнью, ты с удовлетворением вспомнишь любую из своих композиций. Почему ты не слышал, как воскликнула с наивной живостью юная девушка, глядя на голову твоего «Паралитика»: «Ах, боже мой, до чего же он трогателен! Я заплачу, если буду на него смотреть». Как жаль, что эта девушка не моя дочь!»
Не одну нравоучительность ценит Дидро в своем художнике. «Грез первый из нас, кто осмелился ввести быт в искусство, запечатлеть на полотне ход событий, из которых можно составить роман», «Грёз посылает свой талант повсюду – в толщу народа, в церкви, на рынки, гуляния, в дома, на улицу».
Дидро более десяти лет был связан с Грёзом и личной дружбой. Но это не делало его снисходительным, либеральным критиком.
В «Салоне 1761 года» Дидро, назвав прекрасным портрет тестя художника, своего старого знакомца книгопродавца Бабюти, признается, что автопортрет мастера нравится ему гораздо – меньше. «Маленькая прачка» очаровательна. Но, изобразив мадам Грёз в виде весталки, ее муж посмеялся над зрителями. «Да это скорбящая мать, маловыразительная и чуть-чуть жеманная». «Эта вещь сделала бы честь Каунелю, но отнюдь не вам», – обращается он прямо к художнику. «Пастуха» можно принять за работу Буше», – упрек в его устах сокрушительный.
Зато в этом Салоне Дидро восхищен программными для Грёза и его самого нравоучительными жанровыми картинами художника: «Паралитик», «Погоревший фермер», «Деревенская невеста». Он описывает их так точно, что, и не видя этих картин, не составит большого труда себе их представить. Вот нотариус за маленьким столом, спиной к зрителю. На столе свадебный контракт и прочие бумаги. Нотариус в черном сюртуке, на нем цветные штаны и чулки, мантия и брыжи, на голове шляпа. Ни Грёз, ни Дидро не упустили ни одной детали. С виду нотариус – хитрец и сутяга, как и подобает крестьянину. «Прекрасная фигура!» – восклицает Дидро.
Рассматривая картину справа налево, мы увидим старшую дочь; она стоит, облокотясь на спинку отцовских кресел. Перед отцом – зять, в его левой руке – кошель с приданым. Обрученная нежно просунула свою руку под руку жениха, за другую руку ее держит мать, сидящая ниже. Не забыл Дидро в своем описании и младшую сестру, обнимающую невесту за плечи, и мальчика, поднимающегося на цыпочки, чтобы все видеть, и девочку, в переднике которой накрошен маленькими кусочками хлеб, и двух служанок в отдалении. Тщательно перечисляет он и все аксессуары обстановки деревенского интерьера: шкафчик для провизии, старый аркебуз, деревянную лестницу на второй этаж, наседку с цыплятами.
Невесту художник наделил очаровательным личиком, она чудесно одета, лучше нельзя было для нее придумать и позы. Мать – добрая крестьянка лет шестидесяти, ей грустно расставаться с дочерью, но партия хорошая: Жан славный малый, жена будет с ним счастлива.








