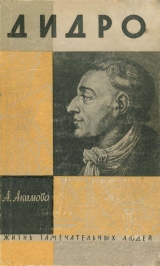
Текст книги "Дидро"
Автор книги: Алиса Акимова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Указаны были и актеры, которым надлежало заменить горничную Розалии – Жюстину, слугу Дорваля – Шарля и тем более слугу Лизимона – Андре. И не случайно Дидро утверждал, что слуги и другие эпизодические персонажи должны занимать в пьесах несравненно большее, чем прежде, место Это способствовало бы демократизации действующих лиц – «разве оттого, что они наши слуги, они перестают быть людьми?» – спрашивает Дорваль в «Беседе первой». Это приводило бы к полноте и естественности воспроизведения жизни, где случайности играют такую большую роль
Вернемся, однако, к актерам Пятнадцать лет, несмотря на все усилия автора, «Побочный сын» оставался пьесой только для чтения. Но и когда она, наконец, в 1771 году была впервые сыграна на сцене Французской комедии, один раз при жизни Дидро, никто из предложенных им актеров и актрис в ней не участвовал Не захотели. Единственным известным актером, занятым в спектакле, был Моле, блиставший в «мещанских драмах» По его настоянию «Побочный сын» и был поставлен. Остальная же труппа была так недовольна, что пьесу тут же сняли с репертуара. Так как это произошло уже после блистательного успеха «Отца семейства» на той же сцене, в 1769 году, основной причиной неприязни надо считать слабость пьесы.
Другой вопрос, что прежде актеры участвовали, и весьма энергично, в клеветнической кампании, поднятой аристократической партией против «Побочного сына». Пьесу не только ругали, но и объявили плагиатом с «Истинного друга» Гольдони. Дидро опровергал это лживое обвинение в трактате «О драматической поэзии», и сам Гольдони, хотя и не сразу, подтвердил его правоту.
И тем не менее пьеса, бесспорно, была уязвима. Как ни горько, надо признать, что она ненамного превосходила плохую работу Дидро на ткацком или каком-либо ином станке.
Знакомый нам наемный убийца Палиссо – увы, такие были и есть во все времена и у всех народов! – не так уже был не прав, когда в памфлете «Маленькие письма о больших философах» упрекал «Побочного сына» в драматургической рыхлости.
Даже знаменитый немецкий продолжатель Дидро, Лессинг, вынужден был признать, что его учитель подал Палиссо «много поводов для нападок на «Побочного сына». «Чрезвычайно однообразные характеры, романтичность самих этих характеров, сухой и надуманный диалог, педантичный звон новомодных философских сентенций – все это облегчало нападки порицателей. Особенно много смеялись над торжественной Терезией (или Констанцией..), так философски ловящей женихов и так мудро рассуждающей с человеком, которому она не нравится, о добродетельных детях, которых надеется иметь от него. Нельзя отрицать и того, что форма, приданная Дидро его диалогам, тон, каким он в них выражается, были немного суетны и напыщенны…»
Казалось бы, это трудно объяснить. Дидро даже философские трактаты писал в форме блестящих диалогов. Кто мог сомневаться в том, что он прирожденный драматург? А пьеса его была так назидательно скучна и суха. В чем тут разгадка? А вот в чем. Чего Дидро добивался? «Истина и добродетель – две невредимые статуи среди гибели и опустошения», – провозглашал он. Истину и добродетель он хотел воздвигнуть в своей пьесе. Но на самом деле истина в действительности того времени никак не совмещалась с добродетелью. Дидро хотел правдиво показать третьесословного героя и в то же время превознести его добродетели. А реальный буржуа и его реальная деятельность тогда, как и прежде и потом, никак не могли служить образцом добродетели. Отсюда и умозрительность пьесы и искусственность ее ситуаций и диалогов.
Критик того времени Лагарп остроумно заметил: «Драматург должен перевоплощаться в любого из своих персонажей, а Дидро, напротив, превратил всех действующих лиц в самого себя: все они обладают его умом и стилем. Мужчины, женщины, слуги – все у него философы».
Теоретически Дидро превосходно это понимал и того же, чего требовал от него Лагарп, спрашивал 4 других драматургов. Но в собственной пьесе действие и раскрытие характеров он заменил декларациями, живых людей – различными вариациями умозрительной добродетели
Пружиной действия Дидро захотел сделать обстоятельства, противопоставляя их заданным характерам и справедливо утверждая: «проявления зависят от обстоятельств», «чтобы показать сложность и изменчивость характеров, надо ставить героев в самые великие стеснения, в какие только можно». Основой сюжета «Побочного сына» должно было стать внебрачное рождение Дорваля. По авторскому замыслу, это обстоятельство объясняло и бегство его отца на Антильские острова и то, что Дорваль не знает о существовании у него сестры, в нее влюбляется и становится соперником своего друга Клервиля, жениха Розалии. И все остальное Но замысел не воплощен: в пьесе положение Дорваля как побочного ребенка не раскрывается. Это с огромной силой сделает Дидро четырьмя годами позже в «Монахине». Дорваль же богат, никем не отвергнут, не изгнан из общества, любим даже двумя женщинами. Эго те наличествующие в самой пьесе обстоятельства, которые, хотел этого или не хотел автор, опровергают мизантропический монолог Дорваля: «Когда я, покинутый почти с рождения где-то на грани между одиночеством и обществом, открыл глаза, чтобы разыскать узы, которые могли бы связать меня с людьми, я едва нашел обрывки этих уз. Тридцать лет бродил я среди людей одинокий, неизвестный, заброшенный, не испытав ничьей любви, не встретив никого, кто искал бы моей любви. Мне ненавистно общение с людьми, и я чувствую, что покой я обрету лишь вдали от тех, кто мне дорог».
Констанция разрушает его мизантропию, заявляя: «Рождение, титулы, богатство, положение – ничто перед сладостным дыханием добродетели».
И Дорваль, движимый добродетелью, убеждает Розалию отказаться от любви к нему и анонимно отдает ей половину своего состояния.
Страсть побеждена добродетелью, к чему и стремился автор. Но жертва оказалась не столь велика, потому что появление отца, открывшего Дорвалю тайну его рождения и то, что он и Розалия – брат и сестра, все равно сделало их любовь невозможной.
А сила их чувств, их любовь друг к другу, опять-таки вопреки авторскому замыслу, уничтожены тем, что, как только тайна выяснилась, Розалия немедленно соглашается выйти замуж за Клервиля, а Дорваль – жениться на Констанции, и обе четы, благословляемые старцем, разделившим между ними свое честно нажитое состояние, объявляются счастливыми.
Однако слабость пьесы не помешала ее воздействию на умы. Казалось бы, недоразумение, положенное в основу сюжета, – брат, полюбивший сестру, не подозревая об их родственных отношениях, много раз встречалось и до Дидро. Новой была только мотивировка неузнавания – то, что Дорваль побочный сын. Но уже этого и того, что герои – буржуа, наделенные столькими добродетелями, оказалось достаточным, чтобы буржуазия, недовольная старым порядком, признала «Побочного сына» своей программной пьесой. Ведь у нее было еще и второе название – «Испытание добродетели», и местом действия был так подробно описанный Дидро в первой ремарке скромный буржуазный интерьер. Этого же было достаточно для того, чтобы вызвать ожесточеннейшие нападки сторонников классицизма в искусстве и старого порядка в политике.
Страсти побеждались и в трагедиях классицизма, но там это происходило во имя долга, то есть государственных, а точнее – родовых, интересов, а здесь, во имя добродетели, чужой аристократической среде, что было истиной, и якобы присущей среде буржуазной, что было иллюзией.
Сам Дидро считал сюжет «Побочного сына» если не уязвимым, то не обязательным; в одной из «Бесед» даже предлагаются два других варианта того же сюжета: один трагический, а другой комический.
Но зато обязательным для Дидро было многое другое, декларированное в «Беседах», хотя и слабо намеченное или просто отсутствующее в самой пьесе. Прежде всего общая мораль: побеждая заблуждения своего сердца, поступая согласно разуму, выполняя свои обязанности перед другими людьми, герои достигают гармонии, всеобщего счастья и сами вкушают услады собственной добродетели. Для Дидро и других просветителей, семейные отношения – а вся коллизия «Побочного сына» развивается в сфере семейных отношений – тождественны общественным, следовательно, на этих же началах должны развиваться и общественные отношения. Буржуазия здесь выступает как защитница всеобщих интересов, в чем была доля исторической истины, но далеко не вся истина. И как далек Дидро в «Побочном сыне» от своего учения о страстях!
И в то же время, добиваясь естественности, точного воспроизведения жизни, Дидро восстает против того, чтобы в пьесах все выражалось гладкими тирадами. «Что волнует нас в зрелище человека, охваченного какой-нибудь большой страстью? Его слова? Иногда. Но что нас трогает всегда – это выкрики, невнятные слова, разбитый голос, вырывающиеся по временам односложные восклицания, какие-то горловые хрипы, бормотание сквозь зубы». Он замечает: «Мы слишком много говорим в наших драмах, и поэтому актеры недостаточно в них играют», тут же упоминая об утраченном искусстве древних – пантомиме, изображавшей когда-то все общественные положения.
Это было настолько ново и непривычно, так противоречило всему принятому на театре, что Дидро высмеивали за провозглашаемую им «неартикулированную поэтику, пригодную для дикарей из Конго». Но в реалистическое театральное искусство это вошло неотъемлемой частью.
В самом же «Побочном сыне» нередко произносились те же тирады, и только в скобках стояли отвлеченные ремарки: вроде – «Дорваль отвечает ей лишь жестом сострадания». В театре классицизма, кстати сказать, были раз навсегда отработанные жесты, выражавшие все психологические состояния.
Порой, правда, обозначено в ремарках и то, что потом получило название физических действий: «В промежутках Жюстина то оставляет работу, то снова за нее принимается».
А кое-где встречается и та самая «неартикулированная поэтика», на которой так настаивал Дидро и за которую ему так попадало. Так, например, Дорваль прерывающимся голосом перечитывает некоторые слова из письма Розалии. Но, увы, эта обрывочная речь так не похожа на то, как действительно говорят люди в минуты больших потрясений. Она больше напоминает так называемую «рваную речь» мелодрамы, этой побочной дочери реализма.
Уже в «Беседе первой» Дидро ратует за реалистические, как он выражается, материальные, мотивировки, и в самом деле мотивировка, то есть объяснение, обоснование всего происходящего, краеугольный камень драмы, романа. Но соблюдены ли реалистические мотивировки в самой пьесе?
Только о Лизимоне известно, что он честный коммерсант, «состояния» остальных действующих лиц даже не названы. Это противоречит тому, что Дорваль, то есть сам Дидро, провозглашает в «Беседе третьей»: «До сих пор в комедии характеры были главным предметом, а общественные состояния – аксессуаром. Нужно, чтобы общественные состояния стали теперь главным предметом, а характеры – аксессуаром. Прежде из характера извлекали всю интригу. Искали обстоятельств, которые бы его обнаружили и связывали эти обстоятельства. Но именно общественные состояния героя, его обязанности, его преимущества, его затруднения должны служить основой драматургического произведения. Мне кажется, что этот источник более богат, обширен и полезен, чем источник характеров». Нужно знать, что Дидро под «характерами» имеет в виду отвлеченные, приданные автором герою психологические черты, а он добивался социальной обусловленности поведения, судьбы, внутреннего мира действующих лиц.
«Состояния» – термин у него постоянный и очень важный. «Состояния» – это писатель, философ, коммерсант, судья, адвокат, политик, гражданин, владетельный сеньер, интендант. По сути, все эти «состояния», включающие и профессии и сословия и служащие основой жанра, сводились к гражданину, противопоставленному владетельному сеньору. Дидро настаивал на том, что характеры не только определялись своим «состоянием», но и сознавали обязанности своего состояния. В этом и заключался гражданский пафос, которого Дидро требовал от драматургов. Правда, он пришел к этому не сразу.
«Состояния», согласно теории Дидро, переходят в «отношения» – имелось в виду положение в семье – отец семейства, супруг, братья, сестры. Положение в обществе приравнивалось к положению в семье. Гармонию легче доказать в рамках семьи, поэтому-то «отношения» и становятся прообразом «состояний», «семья» – прообразом вызревающего нового общества, противопоставленного старому порядку. Поэтому-то следующей пьесой Дидро будет «Отец семейства», и об этом говорится уже в третьей «Беседе о «Побочном сыне».
Хотя в «Отца семейства» в отличие от «Побочного сына» войдут и элементы комического, пьесе предназначено опровергнуть традицию, изображавшую отцов семейства всегда в виде комических персонажей. Этот отец семейства будет наделен всеми добродетелями, тем самым являясь прообразом отца общества, идеального правителя.
Противоречиями самого общества объясняется, что драматическая теория Дидро не только противоречила его практике, но и сама полна была противоречий. Так, он не только в «Побочном сыне» соблюдает три единства классицизма, но и защищает их в «Беседе первой». А годом позже он выступит против единств, как и против всех других ограничений нормативной поэтики классицизма. «Из ткани отдельных частных законов сделали общие правила. Таким образом, искусства перегружались правилами и авторы подчинялись им рабски, употребляя много труда, чтобы творить хуже».
Не следует упрекать Дидро в том, что он менял свои убеждения. Ведь он менял их, как су меняют на франк.
Развивая в «Беседе третьей» и особенно в рассуждении «О драматической поэзии» учение о жанрах, Дидро отрицает установленную в поэтике классицизма незыблемость границ между жанрами и предлагает их усовершенствовать. «Чтобы сделать патетическими образы людей высокого общественного положения, надо придать силу психологическим коллизиям», – пишет он Это, собственно, делал уже любимый Дидро Расин Недаром его упрекали в нарушении приличий между монархами и подданными.
Но много важнее, чем придать патетичность герою высокого общественного положения, было для Дидро защитить «права на патетичность героя, низкого по общественному состоянию». Гримм, разделяя эту заботу своего друга, писал: «Самая трудная задача в этом сюжете – сохранить за своим героем тон, нравы и, так сказать, низость его общественного состояния и, однако, сделать его трогательным и патетическим».
Очень важным требованием была и замена стиха в драме прозой: «Истина сюжета и сила интереса должна отбросить симметризованный язык».
Отсюда и предпочтение, которое Дидро отдавал «серьезному жанру», стоящему как бы между трагедией и комедией, и разработанная им поэтика «серьезного жанра», из которого вырастет бытовая реалистическая драма XIX столетия
Дидро говорит устами Дорваля: «Поэтику комического и трагического излагали уже сотни раз. У серьезного жанра есть своя поэтика. О ней тоже можно было много сказать, но я остановлюсь лишь на том, на что наталкивалась моя мысль, пока я работал над этой пьесой. Так как этот жанр лишен яркости красок крайних жанров, между которыми он находится, не следует пренебрегать ничем, что может придать ему силу. Сюжеты его должны быть значительны, а интрига должна быть проста, близка к нашему быту, к действительной жизни». «…Когда новый жанр будет установлен, не останется таких общественных состояний и значительных действий в жизни, которые нельзя было бы с той или иной стороны ввести в драматическую систему». Это можно отнести не столько к этому жанру, сколько к методу реализма.
Но, пожалуй, самая замечательная из сентенций Дорваля, так похожая на Дидро: «И особенно запомните, что нет никаких общих правил. Я не знаю ни одного из указанных мной правил, которые гениальный человек не мог бы нарушить с успехом».
Настолько же, насколько пьеса «Отец семейства» сильнее «Побочного сына», настолько в трактате «О драматической поэзии» Дидро последовательнее в своей реалистической программе, чем в «Беседах о «Побочном сыне». Ту же проблему характеров и общественных состояний он здесь решает с точки зрения объективного содержания драмы, то есть не того, чего хотел автор, а того, что получилось. Теперь Дидро требует не только, чтобы характер вступал в драматическую борьбу как персонаж своего общественного состояния, то есть как коммерсант или адвокат, чиновник, сеньор, но чтобы действительность, стоящая за характерами, не была скрыта от зрителя. В «Побочном сыне» она скрыта.
Замечательна его критика с этих позиций Мольерова «Мизантропа» «Сюжет комедии, – утверждает он, – неопределенен. Альцест ли прав, Филинт ли прав, остается непонятным. Все дело в том, что один защищает свое дело хорошо, другой плохо».
Противоречия, однако, не сняты. Дидро требует, чтобы автор не стоял за спиной персонажа. А как же тогда быть с морализмом, от которого Дидро еще не может отказаться?!
Но и при этом все больше и больше он добивается сложности характеров. «Драматурги желают, чтобы характеры были едиными. Эта фальшь, замаскированная короткой длительностью драмы, ибо сколько в жизни есть обстоятельств, когда человек отделяется от своего характера», а «короткая длительность действия маскирует абстрактное единство персонажа».
Дорваль в конце третьей «Беседы» точно устанавливает, когда должен быть написан «Отец семейства».
– Возвращайтесь в Париж… – говорит он автору. – Выпускайте седьмой том «Энциклопедии».. Приезжайте сюда на отдых, и либо «Отец семейства» совсем не будет написан, либо он будет готов до конца ваших каникул.
И в самом деле «Отец семейства» был написан год спустя после «Побочного сына» и в том же 1758 году издан, в 1760-м он был впервые поставлен на сцене Марсельского театра, а в 1761-м во Французской комедии.
Это была уже настоящая пьеса с крепко слаженной драматической интригой, напряженным действием, хотя и довольно традиционными эффектами, в виде ночного появления Сент-Альбена, принятого отцом сперва за неизвестного. На этот раз Дидро не так абстрагировал сюжет, взятый из жизни.
К тому же сюжет «Отца семейства» был заимствован из истории собственной его семьи. В нем нашли, хотя и преображенное, отражение перипетии его собственной женитьбы, и действующие лица – отец, сын, дочь, возлюбленная сына имели гораздо более близких автору прототипов – метра Дидье, Денизу, Анну Туанету, его самого. Правда, и отец и Анна Туанета чрезмерно идеализированы. Не было в новом сюжете и никаких Антильских островов, кораблекрушений, корсаров, и, напротив, была попытка точнее обозначить не только «отношения», но и «состояния» персонажей, охарактеризовать буржуазную среду
Но и «слезливости», выспренности – они-то и должны были передать патетичность – в диалогах пьесы было более чем достаточно. Вот образчик одного из диалогов, в основу которого положена знакомая нам жизненная ситуация, отец Дидро против его брака, и Анна Туанета отказывает ему поэтому в своей руке.
«Софи. Я подчиняюсь вашим родным. Да пошлет вам небо когда-нибудь жену, которая была бы достойна вас и любила бы вас так, как любит Софи.
Сент-Альбен. Я бы этого не желал.
Софи. Я должна.
Сент-Альбен. Горе, горе тому, кто вас знал и может быть счастлив без вас!
Софи. Вы будете счастливы. Вы насл'адитесь всеми радостями, возвещенными детям, которые чтут волю родителей. Я унесу с собой благословение вашего отца, а вы вспоминайте обо мне.
Сент-Альбен. Я умру от горя – и по вашей вине. (Печально смотрит на нее.) Софи…
Софи. Я чувствую, какое горе вам причинила.
Сент-Альбен (по-прежнему смотрит на нее). Софи…
Софи (госпоже Эбер, рыдая). О няня, какую боль мне причиняют его слезы! Сержи (Софи зовет его именем, которым Сент-Альбен себя называл, скрывая, кто он на самом деле. – А. А.), не угнетайте мою слабую душу… она и без того переполнена горем… (Закрывает лицо руками.) Прощайте, Сержи…»
Мы хорошо знаем, как это происходило на самом деле, и нам легко судить, что в этом диалоге от истины и что от заданной добродетели.
В пьесе не выявлено настоящее основание для конфликта. Истинная причина противодействия отца браку сына с бедной девушкой – власть денег – скрыта. Отец семейства выступает здесь как глашатай нового общества в предельно идеализированном виде, как воплощенная добродетель. Единственная мотивировка его поведения, данная автором, – «что скажут в свете» – мелка и не отражает реального положения вещей. О том, что злой дух семьи, брат покойной жены отца семейства, заменил злого духа частной собственности, уже говорилось. К этому надо добавить, что автор не– сумел сделать д’Овиле и глашатаем старого порядка, дав ему от старого порядка всего только чин командора и приставку «де».
И эта пьеса не смогла сочетать истину и добродетель. Потому что Дидро, воспевая собственное примирение с отцом, хотел воспеть и гармонию в обществе, не таком, какое было, но какое должно быть, и развивал ложную идею «врожденной доброты» буржуа. «Отец семейства» был основан на тем же химере XVIII столетия, очень быстро разбитой историей. Ведь во главе третьего сословия Франции стояла та же буржуазия, которая потом будет расстреливать парижские рабочие предместья. Но до взятия Бастилии оставалось тридцать лет, и пока буржуазия выступала еще под флагом защиты общих интересов третьего сословия, более того, человечества, что и отражено в «Отце семейства».
В пьесе было еще одно противоречие: массовое движение к революции, крестьянские восстания, бунты подмастерьев, податные бунты, влияние «Энциклопедии» Дидро снова пытался втиснуть в семейный «мещанский» сюжет.
Не случайно в 1811 году, когда вера в добрую природу человека была утрачена, публика освистала спектакль «Отец семейства» во Французской комедии. И эта пьеса Дидро не перешагнула по ту сторону «Декларации прав человека и гражданина», как перешагнула его драматическая теория.
Но до «Декларации» было еще далеко, и «Отец семейства» пользовался большим успехом и в чтении и на сцене, особенно после возобновления в 1769 году на сцене той же Французской комедии. Спектакль понравился даже мадам Дидро. Тогда же пьеса прекрасно прошла л в Берлинском театре, о чем автор узнал от Гримма. Но еще до того в короткий срок «Отец семейства» был переведен на английский, немецкий, голландский и русский языки и везде пользовался успехом. В России он в XVIII веке был переведен под названием «Чадолюбивый отец». Сразу после ее появления драму приветствовал со свойственной ему экспансивностью Вольтер: «О дорогой мой Дидро, я уступаю вам место от всего сердца и хотел бы увенчать вас лаврами». В письме к Дамилавиллю Вольтер писал: «Я рассматриваю успех «Отца семейства» как победу, одержанную добродетелью, и как публичное покаяние публики, терпевшей отвратительную сатиру, озаглавленную «Философы».

Титульный лист первого издания комедии «Побочный сын»
Вдохновленный успехом «Отца семейства», Вольтер даже хотел выдвинуть кандидатуру Дидро во Французскую академию, видя в этом средство борьбы против фанатиков и мошенников.
Борьба продолжалась Противники не были побеждены. Свистопляска, поднятая аристократической партией с помощью «наемных убийц», продажных литераторов вокруг «Отца семейства», была еще больше, чем вокруг «Побочного сына».
Не помогло и то, что Дидро вопреки своему обычаю предпослал изданию пьесы посвящение высокопоставленной особе.
Он попросил Гримма походатайствовать за него перед одной из титулованных приятельниц «посланника», принцессой де Носсо Сарбрюк, кстати, тоже немкой, урожденной графиней фон Эрбах, и посвятил ей «Отца семейства». Личное знакомство сына ножовщика и принцессы состоялось, правда, только в 1765 году Дидро не любил великосветского общества.
Принцесса осталась довольна посвящением. В письме к Гримму она благодарила его друга за то, что он поставил ее имя перед «Отцом семейства» и «отдал долг всем матерям, в частности, тем, которые принадлежат к числу суверенов мира». «Я тронута до слез человечностью и доброжелательностью, выраженными в посвящении м. Дидро… Я не могла бы получить его в обстоятельствах, более подходящих. Я нахожусь в деревне и делаю все для ее несчастных обитателей». Дидро в посвящении говорил о тех, у кого «едва хватает соломы для ложа и не всегда есть хлеб!». Благодарила она Дидро и непосредственно в письме к нему.
Но могло ли защитить пьесу это посвящение, если в нем, пусть и туманно, излагались те же излюбленные мысли насчет суверенов и принципов управления народами, насчет того, что природа не творит рабов и идея рабства родилась среди завоеваний, лучший правитель – отец своих подданных, общественные добродетели нуждаются в поддержке и так далее, и тому подобное?!
По-прежнему противники не стеснялись в выборе средств. И на этот раз Дидро обвинили в плагиате у Гольдони. На беду, у того нашлась пьеса под тем же названием, к тому же напечатанная прежде, чем Дидро напечатал свою. Сколько усилий должен был потратить Дидро, отбиваясь от этого обвинения!
Наконец клевету решительно разоблачил сам Гольдони В 1762 году, приехав в Париж, он посмотрел в театре дидеротовского «Отца семейства». Не обнаружив в нем никакого сходства с собственной пьесой, он тут же отправился к своему сопернику в сопровождении литератора, придумавшего плагиат. Целью визита было «рассеять негодование» Дидро, что, надо сказать, нелегко далось итальянцу. Не ограничившись этим, Гольдони еще и подробнейшим образом описал эту встречу, печатно засвидетельствовав, что о заимствовании не могло быть и речи.
Там же он свидетельствует и о своем преклонении перед поэтом-философом.
Однако сам Дидро очень быстро стал испытывать недовольство своей пьесой, упрекая ее в дидактичности, в отсутствии комического элемента. Он только не мог понять, чья это ошибка – жанра или его как автора.
Отсюда Дидро приходит к требованию темы героической и в то же время трагической судьбы великих вождей народа.
От «Побочного сына» и «Отца семейства» путь буржуазной драмы идет к республиканским гражданским трагедиям Сорена и М.-Ж. Шенье. Чем ближе к революции, тем больше буржуазия отрекается от своего классового эгоизма. Диалектика истории заново приводит к возрождению драматической системы классицизма.
В трактате «О драматической поэзии» Дидро предлагает этюд пьесы нового для него «гражданского жанра» «Судья». Коллизия этюда такова: «Нарушить достоинство и святость своей службы или пожертвовать самим собой, своим состоянием, своей женой и детьми». Положительный герой должен избрать святость службы.
Пьесу на этот сюжет и под этим названием напишет не сам Дидро, а Мерсье, благополучным концом снизив коллизию.
Но Дидро тоже еще вернется к этому сюжету, развив и углубив его в сюжете наброска, озаглавленного «Шериф» и взятого из подлинного исторического эпизода времен английского короля Якова II.
От «Побочного сына» и «Отца семейства» шла еще одна дорога буржуазной драмы – к первым двум комедиям трилогии Бомарше. Недаром предание говорит, что штурм Бастилии начался на следующий день после премьеры «Женитьбы Фигаро».
Дидро предвидел, что драматургия, как и литература и другие искусства, будет участвовать в революции.
На заданный им самим вопрос, когда нравы наиболее созревают для поэзии и природа подготавливает образы искусству, он ответил: «Когда бешенство гражданской войны или фанатизма вооружает людей кинжалами и кровь широкими потоками заливает землю, лавры Аполлона волнуются и расцветают».
И, вероятно, самое замечательное и непреходящее в его драматической теории – это учение о необычайном и обыденном.
Начав с апологии обыденного, Дидро поднимается в рассуждении «О драматической поэзии» до понимания того, что обыденное неизбежно переплетено с невероятным «Если бы природа никогда не комбинировала события необычайным способом, все, что поэт представлял бы по ту сторону простого и холодного однообразия обыкновенных вещей, было бы невероятным Но так не бывает на деле. Иногда случается естественному порядку вещей связывать вещи необыкновенные Задача в том, чтобы отделить чудесное от чудотворного» Необычайное или чудесное Дидро нисколько не похоже на чудотворное романтизма и классицизма, где чудеса возникают из фатального стечения событий и «слишком отличаются от тех, которые показывают нам опыт и история».
Теперь он в поэтике «редких случаев», противостоящих неподвижному течению обыденности, находит выражение процессам, скрытым за поверхностью явлений. И над такой историей он поднимает поэтическое воображение, основанное на познании закономерного. «Если в истории дано только «фатальное стечение фактов», драматург должен стремиться к тому, чтобы в его изложении действительного существовала видимая и ощутимая связь, которую природа часто скрывает от нас»
«Поэт, – говорит он, – часто менее истинен и более правдоподобен, чем история». Поэтому-то он советует драматургам активизировать историю, усиливать исторические характеры.
Он борется против старой абсолютистской истории так же, как против старого абсолютистского общества, и мыслит широкими историческими категориями.
Казалось бы, это осталось только в драматической теории Дидро так же, как его призывы к возрождению античных зрелищ, замены интерьера амфитеатром. Казалось бы, драматургическое наследство Дидро исчерпано только двумя его моралистическими «серьезными драмами», где добродетель преградила дорогу истине. Во всяком случае, так по сей день утверждает буржуазная наука, канонизирующая «Побочного сына» и «Отца семейства», оставляя в тени и реалистическую теорию драмы Дидро, поднятую советскими исследователями, и его архив, где хранятся не только наброски и планы недописанных пьес, но и пьесы, законченные и несравненно более значительные, чем обе «мещанские драмы». И это заметили тоже только советские дидеротисты. А то, что эти пьесы при жизни автора не были ни поставлены, ни напечатаны, так и «Племянник Рамо», и «Жак-фаталист», и «Монахиня», и «Прогулка скептика» и многие другие великие произведения Дидро увидели свет только после смерти автора. Велико ли было бы его наследство, если бы оно включало только то, что мог и хотел опубликовать сам Дидро?!
В 1759 году Дидро набросал уже упоминавшуюся сюжетную схему драмы «Шериф» – развитие наброска «Судья». Об этом стало известно из сообщения Гримма в «Корреспонденции». Гримм называет этот набросок «проектом трагедии, где дочь проституирует, чтобы спасти отца, которого она находит повешенным, выйдя из рук злодея, у которого купила жизнь отца ценой своей чести. Речь шла о том, чтобы вызвать отвращение к нелепости и жестокости религиозных преследований».








