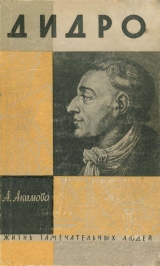
Текст книги "Дидро"
Автор книги: Алиса Акимова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Но, подытоживая знания, достигнутые к середине XVIII века, написанное Даламбером было только взглядом назад и не вело вперед, не предвосхищало содержания последующих томов «Энциклопедии» и тем менее последующего развития материализма. Дидро и другие материалисты очень быстро пошли дальше.
Между тем труды Даламбера по математике и астрономии выдержали проверку временем и сохранили непосредственное значение для современной науки. Для нас Даламбер прежде всего математик.
Но это нисколько не умаляет его исторической заслуги как соредактора «Энциклопедии», хотя он и перестал им быть после седьмого тома: испугавшись преследований и нападок, ретировался с поля битвы. Но даже это не позволяет забыть, как непреклонно он держался в других случаях. С редким чувством независимости, отсутствием мелкого тщеславия, равнодушием к чинам и богатству Даламбер пренебрегал предложениями коронованных особ, заигрывавших с ним, как и с другими французскими философами, учеными, художниками. Соблюдая справедливость, мы не можем не отдать ему предпочтения перед Вольтером, несколько лет прожившим при дворе Фридриха II, перед Гриммом, окончившим свою жизнь послом Екатерины II. Даламбер отказался заменить скончавшегося к тому времени Мопертюи в должности президента Берлинской академии наук, что вызвало восхищение Дидро. А десятью годами позже – от предложения Екатерины II стать воспитателем ее сына и от ста тысяч ежегодного вознаграждения.
Подобно Дидро, он не нажил своим гением богатства, довольствуясь всю жизнь скромными пенсиями.
Вот кредо Даламбера, изложенное в его «Эссе об обществе литераторов и о великих»: «Счастливы те литераторы, которые пришли к выводу, что самый верный способ заставить себя уважать заключается в том, чтобы жить в согласии между собой и совершенно в стороне от великих… что благодаря взаимному согласию они без большого труда дойдут до того, что будут предписывать всей нации законы в вопросах вкуса и философии, что настоящее уважение есть то, которое оказывается нам по приговору тех людей, которые сами достойны уважения».
Умер Даламбер только годом раньше Дидро – в 1783-м.
VII Барон Гольбах
Полное имя гражданина литературной республики Гольбаха звучало так: Поль Анри Тири (Пауль Генрих Дитрих) Гольбах, барон де Шесс, сеньор Ланда, Вольберга и других мест.
Он не был ни сыном ножовых дел мастера, как Дидро, ни сыном часовщика, как Руссо, ни незаконнорожденным, как Даламбер. И, однако, эта титулованная персона, богач сделал для материализма и социальной философии, подготовивших революцию, больше многих выходцев из третьего сословия, а в разоблачении религии не только оставил вопреки общепринятому мнению далеко позади Вольтера, но пошел дальше всех своих современников.
Родившись в Гейдельберге в 1723-м, он был моложе и Дидро и Даламбера. Немец по происхождению, он получил образование сперва во Франции, а затем в Нидерландах, в Лейденском университете. В конце сороковых годов поселился в Париже, на французской почве завершив свое духовное развитие и до самого конца жизни не покидая своей второй родины.
Аббат-вольнодумец Гальяни, итальянский дипломат, экономист, не менее прославившийся своими остроумными побасенками, прозвал его метрдотелем философии. Барон и в самом деле давал обеды для друзей-энциклопедистов в своем парижском особняке на улице Рояль-Сен-Рош, и они постоянно гащивали в имении его тещи Гранвале. Но прозвище имело и более глубокий смысл: барон был метрдотелем и духовной кухни «Энциклопедии».
С полным правом можно его назвать и ее библиотекарем, библиографом и ученым консультантом. «Какие бы системы ни породило мое воображение, – говаривал Дидро, – я уверен, что мой друг Гольбах подберет к ним факты и аргументы». Его дом на улице Рояль-Сен-Рош справедливо называли «вспомогательной конторой «Энциклопедии».
Барон был энциклопедистом из энциклопедистов, просветителем из просветителей. Соредактор Гримма по рукописному журналу «Корреспонденция» Мейстер писал о нем: «Я не встречал человека более ученого и универсально образованного. Никто не передавал другим свои знания с меньшей амбицией». Это в равной мере справедливо и по отношению к легальным статьям Гольбаха для «Энциклопедии» и к «Карманному богословию» – антирелигиозному памфлету, понятному самому неподготовленному читателю, и к советам и справкам, которые Гольбах давал друзьям.
Барона можно назвать и хранителем музея «Энциклопедии»: у него была интереснейшая коллекция естественно-исторических курьезов, превосходная картинная галерея, а по воскресеньям он давал обеды для художников.
Внешность и манеры барона соответствовали его уму и таланту. Даже длинный нос и густые брови не портили его, а только придавали правильным чертам лица естественную прелесть.
Столько же естественной прелести было в его манере держаться.
«Наш барон был неподражаемо весел, – писал Дидро 10 мая 1759 года Софи Волан. – Представьте себе сатира, веселого, остроумного, непристойного и нервного, среди группы целомудренных, вялых и изнеженных людей. Таким он был среди нас».
Это не значит, что таким барон был всегда. Мы встретим и совсем иные отзывы у Дидро, нередко досадовавшего на своего друга. Но люди не часы, они не могут всегда показывать одно и то же время суток, и само время не могло не изменить Гольбаха, как изменяет оно всех.
У барона было шестьдесят тысяч ливров годового дохода. Но никто так благородно не пользовался своим богатством. Он говорил Гельвецию: «Вы поссорились со всеми, кому оказали услугу. Я сохранил всех моих друзей». И говорил чистую правду. Аристократ и богач, он был удивительно демократичен не только по своим убеждениям, но и по своей натуре.
«Человек наиболее просто простой», – говорила о нем баронесса Гольбах. (После смерти первой жены, урожденной Дэн, он женился на ее сестре, по-французски Шарлотте, или, на немецкий лад, Каролине.)
Вот случай, как нельзя лучше характеризующий барона. Прочтем о нем в письме Дидро из Гранваля. «Последние известия, полученные нами из Парижа, встревожили барона. У него имеются значительные суммы, помещенные в королевских бумагах… «Послушайте, жена моя, – сказал он своей супруге, – если так будет продолжаться, я ликвидирую все наше имущество, куплю вам красивый плащ и хорошенький зонтик, и мы всю жизнь нашу будем благодарить мосье де Силуэтт (главного контролера. – А. А.) за то, что он избавил нас от лошадей, лакеев, кучеров, горничных, поваров, званых обедов, фальшивых друзей, докучливых посетителей и прочих привилегий богатства».
Были у него и слабости. Современники замечали, что он любил посудачить. Дидро подшучивал над склонностью барона читать всем свои произведения, жаловался на его мучительный характер, называл его странным существом, огорчался тем, что этот человек, у которого, казалось бы, имелось все, чтобы быть счастливым, постоянно страдал.
Дидро рассказывает о впечатлениях, вынесенных Гольбахом из путешествия в Англию. Он сам изменил свое отношение к ней со времен Габриель Бабюти. «…когда барон туда уезжал, у него было предубеждение против этой страны; он встретил там наилюбезнейший прием', пользовался превосходным здоровьем и тем не менее остался недоволен; не понравился ему край; он нашел его ни столь населенным, ни столь возделанным, как говорили; не понравились здания, почти все старинные и необычной архитектуры, не понравились сады, в которых чрезмерное подражание природе не лучше однообразной искусственной симметрии; не понравились безвкусица, с какой в прекрасном дворце нагромождены в одну кучу и превосходные, и хорошие, и плохие, и отвратительные вещи…
Не понравились развлечения, похожие на религиозные обряды; не понравились люди, чьи лица не выражают ни доверия, ни веселости, ни общительности и как будто спрашивают у вас, что между нами общего?.. Не понравились дружеские обеды, где каждый занимает место по рангу, где гости соблюдают чинность и церемонии, не понравились и обеды на постоялых дворах, где подают хорошо и быстро, но не ласково».
Единственное, что он похвалил, – это удобство передвижения…
«Во время путешествия по Англии барон весьма приохотился к жизни во Франции; он сознался нам, что каждую минуту ловил себя на мысли о Париже».
В следующем письме к своей подруге, продолжая сообщать ей рассуждения барона об Англии, Дидро переходит к самому главному для Гольбаха и для него самого. «Не думайте, что неравный раздел богатства существует только во Франции. В Англии насчитывается сотни две вельмож, имеющих по шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот и более тысяч ливров годового дохода; многочисленное духовенство, как и у нас, владеет четвертой частью государственных угодий, правда, оно пропорционально платит налог, чего нет у нас; судите сами, много ли остается на долю остальных граждан».
Английский двор развращает подданных, а это не лучше тирании. Общественного воспитания в Англии нет совершенно.
Высмеивает барон такую же, как у французов, страсть обращать в свою веру неверных. Христианская вера угасла в Англии почти совершенно, но что для атеиста Гольбаха особенно важно, хотя деистов там великое множество, атеистов почти нет, а те, что есть, скрывают свой атеизм. «Атеист и злодей означают для англичан почти одно и то же», – с возмущением отмечает он. И сразу же за этими словами следует рассказ, как, в первый раз обедая у барона, английский философ Юм вздумал сказать хозяину, что не верит в существование атеистов, ибо никогда их не видал. «Сосчитайте, сколько нас народу за столом», – ответил барон. Нас было восемнадцать человек. «Мне лестно, что я могу на первый же раз показать вам пятнадцать атеистов: остальные трое не имеют на этот счет твердых убеждений», – добавил барон.
Не вдаваясь в обсуждение того, насколько справедлив Гольбах к Англии и англичанам, отметим, что главный удар своей критики он направляет на три важнейшие мишени: социальное неравенство, несовершенство управления, религию.
Не извиним ли мы за это его слабостей?
По свидетельству все тех же современников, единственной страстью его была ненависть к священникам. За нее мы тем более не осудим барона. Ей мы обязаны его антирелигиозным памфлетам.
«Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину, публицистика старых атеистов XVIII века», – писал В. И. Ленин в первые годы советской власти, имея в виду прежде всего атеистическую публицистику Дидро и Гольбаха, указывая, что они способны принести немалую пользу в борьбе с религиозными предрассудками.
До сих пор его памфлеты приносят нам пользу. «Карманное богословие», к примеру сказать, вышло в Москве в 1959 году тиражом в 200 тысяч экземпляров.
А штурмовать небо даже больше, чем землю, Гольбаха побуждали те же причины, что и Дидро. Церковь была главной силой, поддерживавшей старый порядок.
Вот почему он получил прозвище «личного врага бога».
Его атеизм вырос не на голой почве. Он опирался на вольнодумцев французского Возрождения – Франсуа Рабле, Бонавентура Деперье и казненного инквизиторами Этьена Доле, печатавшего в своей типографии собственные сочинения и сочинения других гуманистов. И на атеистически направленный философский скептицизм «Опытов» Монтэня и на других передовых французских мыслителей прошлых веков – достаточно назвать прославившегося в XVII веке своими памфлетами, оказывавшими огромное влияние на умы современников, Сент-Эвремона. Чаще всего Гольбах ссылался на Пьера Бейля – он первый решительно размежевал религию и нравственность, а Дидро и Гольбах продолжили и укрепили это размежевание.
Но учителями и предшественниками Гольбаха были не одни французы. И значение того, что он делал, далеко выходило за границы Франции. Иначе и быть не могло. Труды французских энциклопедистов XVIII столетия, объединявшихся вокруг Дидро и Гольбаха, были для того времени высшей ступенью европейской материалистической философии. Они были и самым решительным выводом из предшествовавшей критики религии и церкви, из завоеваний естественных наук, обогатившихся к середине XVIII века важными открытиями и наблюдениями. А расцвет естествознания отвечал потребностям развивающейся промышленности.
Монументальная «Система природы» – труд не одного Гольбаха, но в большой степени и его труд, эта «библия атеизма» явилась словно бы итогом западноевропейской материалистической философии и критики религии почти за три века.
Однако сам Гольбах пришел к атеизму и материализму не только от проштудированных им философских сочинений, но и от естественных наук, которые знал всесторонне. Барон и литературные свои занятия начал с переводов на французский язык книг по физике, минералогии, геологии, физиологии, металлургии. Большей частью это и были те науки, в которых Германия опередила Францию.
В «Энциклопедии» Гольбах вел некоторые естественнонаучные разделы. Раздел «Химия», к примеру сказать, состоял целиком из его собственных статей и заметок.
Этим его участие в постройке осадной машины против старого порядка не ограничилось. Он делил с Дидро невзгоды, которыми так щедро был усыпан путь редактора «Энциклопедии», не только не оставил его, но вместе с ним вел все сражения.
Знаменитый гольбаховский салон служил как бы идейной лабораторией энциклопедистов, где оттачивалась и проверялась их теория
Но дом его на улице Рояль-Сен-Рош с полным правом можно назвать и литературным цехом, где неутомимо работал сам хозяин, заражая своей энергией и других. Филиалом «лаборатории» и «цеха» было поместье его тещи, Гранваль.
Гольбах больше всего сделал в годы 1766—1772-й, когда «Энциклопедия» была в основном уже завершена В эти шесть лет написаны почти все его антирелигиозные памфлеты и «Система природы». Барону помогали и с ним сотрудничали Нэжон и другие. Гольбах переделал несколько книг французских и английских материалистов – Фрере, Толанда, Гоббса, Коллинза. Из них составилась своего рода популярная атеистическая библиотека, а жемчужиной ее был гольбаховский перевод замечательного памятника материализма и атеизма древних – поэмы Лукреция «О природе вещей».
По поводу этой атаки твердынь религии Дидро в 1767 году писал: «Не знаю, что случится с нашей бедной церковью Христовой и пророчеством, которое гласит, что врата адовы не одолеют ее». И годом позже – «Бомбы градом сыплются на божий дом…»
Первой такой бомбой, сброшенной Гольбахом на «божий дом», был напечатанный в 1761 году памфлет «Разоблачение христианства».
В 1766-м с помощью Нэжона и других участников кружка он составил уже упоминавшееся «Карманное богословие». Вот несколько выдержек из этой блистательной сатиры на богословскую премудрость, написанной в форме словаря:
«Бессмертие» – «Церкви необходимо, чтобы наши души были бессмертны, – иначе мы могли бы обойтись без духовенства, и оно потерпело бы полный крах».
«Благодать – дар, которым бог награждает, кого ему вздумается, оставляя за собой право наказывать тех, кого он не пожелает этим даром осчастливить».
«Папские доходы» – «Католические государи весьма мудро разрешают одному иностранному князю грабить духовенство своих стран, иначе эти последние не могли бы законно использовать божественное право грабить своих сограждан».
«Помазанники божие» – это люди весьма жирные или имеющие право на жирные приношения. Во все времена священники проявляли любовь к салу; повсюду питаются они салом, падающим с неба, благодаря их молитвам…»
В 1768-м, кроме переделок и переводов, выходят «Священная зараза, или Естественная история суеверия» и «Письма к Евгении, или Предупреждение против предрассудков» – оригинальные произведения Гольбаха.
Больше всего шуму наделал «Здравый смысл». Одно за другим выходят в 1772 году издания этого памфлета. Он понятен всем. Он убеждает всех железной логикой своих доказательств.
Вот наудачу выхваченное название одного из параграфов этого памфлета – § 168: «Никакая мораль несовместима с религиозными принципами». А вот коротенькая выдержка из этого параграфа: «Подражайте богу!» – кричат нам то и дело. Нечего сказать, хороша была бы наша мораль, если бы мы подражали богу! И какому богу должны мы подражать? Уж не богу ли деистов? Но ведь даже этот бог не может служить нам неизменным образцом добродетели: если он творец всего сущего, значит, он в равной мере повинен и в добре и в зле, наблюдаемых нами в мире; если он творец гармонии, он одновременно и виновник хаоса и беспорядка, которые не имели бы места без его дозволения..»
Гольбах критиковал не одну католическую религию и все прочие религии, но и деизм.
Его занимало не только небо, но и земля. В те же семидесятые годы он опубликовал несколько книг по теории общества и государства. Их можно счесть наиболее систематическим изложением социальной философии энциклопедистов.
«Здравая политика, – пишет Гольбах во введении к «Естественной политике», – не имеет в себе ничего таинственного и сверхъестественного. Из природы человек может вывести политическую систему, принципы которой столь же достоверны, как принципы других человеческих знаний». Народ может жить счастливо лишь тогда, когда его управление согласно с законами его природы».
Те же принципы материалистической социальной философии развиваются и в «Системе природы». «Природа, – говорится там, – дала человеку способность к ощущениям и любовь к самому себе. Из этих свойств человека вытекает его стремление к удовольствиям и его страх перед страданиями. Его образ мыслей определяется его способом бытия… Цель человека в занимаемой им сфере бытия – существовать и сделать свое существование счастливым… Страсти необходимы для существования человека. Но они подчинены в нем господству разума».
«Система природы, или О законах мира физического и духовного» вышла в свет в 1770-м. И какие же вокруг нее разгорелись баталии! Бушевали не только противники. Раскол произошел и внутри лагеря просветителей. Дидро написал к «Системе природы» заключительную главу, отметив в ней, за что он ценит произведения Гольбаха – разумеется, не разглашая его псевдонима и не открывая своего соавторства.
«Я предпочитаю ясную, свободную философию, как она изложена в «Системе природы» и еще более в «Здравом смысле»… Автор «Системы природы» не является атеистом на одной странице, деистом на другой, его философия монолитна…»
Половинчато отнесся к «Системе природы» Вольтер. Он принял то, что касалось критики христианства и церкви, но воинствующий атеизм книги его напугал и заставил отмежеваться от кружка Дидро и Гольбаха. Резко отрицательно отозвался о ней Руссо.
Некоторые просветители встретили появление этой книги настороженно, опасаясь, что она навлечет репрессии, губительные для всего движения. Повторялась история с трактатом Гельвеция «Об уме». В своих опасениях они оказались не так уж не правы. Другой вопрос: следовало ли из-за возможных репрессий отказываться от борьбы? В августе 1770 года, едва успев выйти, «Система природы» была сожжена по приговору парижского парламента.
Это не первый костер галантного XVIII века, на котором сжигают вольнодумные книги. Но чем ярче горят эти костры, тем дальше разносится пламя свободной мысли.
Хорошо еще, что автор «мятежного», как выразился прокурор Сегье, сочинения был ему и парламенту не известен. Иначе несдобровать бы этому автору!
Подробно изложив содержание «Системы природы» – он прочел ее внимательно и в совершенстве понял, – прокурор заявил, что «ее сочинитель превосходит своей дерзостью Эпикура, Спинозу и всех философов, точнее – всех атеистов прошлых веков, что в глазах этого святотатца вера – вредный предрассудок, лица, стоявшие во главе нации… узурпаторы, присвоившие себе пышный титул представителей бога только для того, чтобы безнаказанно распоряжаться страной». Оберегая трон и алтарь от посягательств этого разрушителя всякой веры, «страха божьего», прокурор призывал к «спасительной строгости» и прямому походу против дерзкой книги.
И поход начался. Более того, он еще не кончился и до сих пор. И сейчас «Система природы» значится в «Индексе запрещенных книг», куда ее внесли духовные власти сразу же после того, как она была осуждена и сожжена властью светской.
Выступили против нее уже знакомый нам враг энциклопедистов, доктор теологических наук иезуит Бертье, редактор «Журналь де Треву», и их «друг» «философ на троне» Фридрих II.
Но никакие репрессии, никакая контрпропаганда не помогли властям светским и духовным в их борьбе с революцией идей. А уж власти ли не старались!
Сожженная и проклятая «Система природы», подобно фениксу, возродилась из пепла.
Правительственный декрет 1759 года под страхом смертной казни запрещал «сочинять, печатать и издавать сочинения, направленные против религии, королевской власти и общественного спокойствия». Десять лет спустя снова предписывается «полное молчание относительно всего, что касается религии».
К счастью, законы эти не всегда применялись во всей строгости, и у просветителей в лагере их противников были влиятельные покровители, как наш старый знакомый, комиссар по делам печати или директор книжной торговли, Мальзерб.
И тем не менее у энциклопедистов были веские причины для самой строгой конспирации и до сожжения «Системы природы».
Это и не забытый ими арест Дидро, и длинный список запрещенных сожженных книг, и обыски у редакторов «Энциклопедии», и передача изъятых у Дидро рукописей и корректур иезуитам, и строжайшая цензура парижского парламента, Сорбонны, католической церкви, лично короля. Приходится ли удивляться, что ни одно прижизненное издание сочинений Гольбаха не вышло под его именем и не печаталось во Франции?! В этом смысле он превзошел даже Дидро. И к каким только ухищрениям не прибегал Гольбах, скрывая свое авторство! «Разоблачение христианства» приписал умершему за два года до того сотруднику «Энциклопедии» философу Буланже, «Священную заразу» – английским деистам XVII века Трэнчерду и Гордону.
Если бы все тот же верный Нэжон не опубликовал в 1798 году списка сочинений барона Гольбаха, авторство или соавторство его во многих случаях осталось бы неизвестным. В том числе и авторам «Системы природы» до сих пор числился бы Мирабо. Да и теперь изжиты далеко не все сомнения относительно принадлежности Гольбаху тех или иных изданий энциклопедистов или его в них участия.
Тому три причины. Строгая конспирация – первая. Коллегиальность работы – вторая. И не менее важная, третья – его личная скромность. Барон был начисто лишен авторского тщеславия. Это, как и многое, роднит его с Дидро. Он тоже всегда готов был готовить чужие, а точнее – общие уроки и жечь свечу для всех.
На пять лет пережив Дидро, Гольбах дожил до самой революции. Но письма его старшего друга полны были беспокойства о здоровье барона. В 1777-м Дидро пишет Софи Волан: «Мы думали уже, что теряем барона», – и настаивает на ее приезде. «Поторопитесь, если хотите застать кого-нибудь», напоминает, что их кружок потерял уже мадемуазель Леспинас, завтра может не стать мадам Жофрен, а ему самому скоро стукнет шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять…
Они с бароном познакомились, когда Дидро был молод, а Гольбах совсем еще юн, продолжали дружить, когда возраст заставлял уже считать годы, и дружба их сохранилась навечно.








