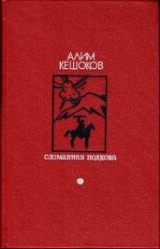
Текст книги "Сломанная подкова "
Автор книги: Алим Кешоков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Кураца хотела скорее бежать к Апчаре и рассказать о происшедшем, но Апчара прибежала сама.
– Я говорила тебе – будут отступать! Не верила?
– Ас этой что будем делать?
– Пушка! Пальнем, когда есть захочется,– смеялась Апчара.
– Все подмели. И на ужин ничего не оставили. Пушка! Зачем она нам?
Апчара чуть не плясала от радости.
– Пальнем! Знаешь по ком? По Мисосту. Разнесем всю управу.
В тот же день в сумерках, потеряв всякую осторожность, Апчара пришла домой, к матери.
Старуха загоняла в курятник двух уцелевших от немцев кур, мечтая сохранить их на развод, когда во двор влетела Апчара и с радостными воплями кинулась ей на шею.
Хабиба не засеменила дочери навстречу, не всплеснула руками. Она сурово отвернулась от Апчары и с нарочитой строгостью запричитала:
– Уходи, уходи. Не подходи ко мне. Мать тебе не нужна. Тебе Кураца дороже.
Хабиба сделала вид, что отталкивает дочь от себя. Но Апчара слишком хорошо знала свою мать, чтобы поверить в ее «уходи, уходи».
Она обняла ее за шею, прижалась к щеке.
– Ну вот, дождались, мама! А ты не сердись, что я скрывала от тебя. Разве можно было иначе? И тебе было бы хуже.
Хабиба и сама знала, что дочь поступала правильно, но все равно жила в ней маленькая обида за недоверие. Как будто мать не догадывалась, что Апчара и Кураца связаны одной веревочкой. Бывало, на оплакивании покойника (а с наступлением холодов люди в ауле умирали часто) Кураца словно нарочно окажется около Хабибы.
– Ох-хо-хо,– завздыхает Хабиба,– пропала моя Апчара, пропала моя девочка...
– Не плачь,– шепнет ей Кураца.– У тебя дочь боевая – не пропадет. Пусть разверзнется земля подо мной, если она не в тепле.
– Дай-то бог, дай-то бог! – успокаивалась Хабиба.
Но теперь с нарочитой строгостью Хабиба выговаривала дочери:
– Ты думаешь, я глупа, не догадывалась? Клянусь, все знала, но только не хотела волков наводить на след. Сколько раз говорила себе: пойду-ка схожу к Кураце за черепицей. Солома на крыше. А Кураца поверила бы мне в долг. Но как вспомню, что ты где-то там у нее скрываешься,– не иду. Питу прямо мне говорил: «Петляй – не петляй, а найдем по твоему хвосту лисью нору».
– Теперь самого бы его не упустить!
– А «самоварке» этой я все-таки не прощу. Кураца думает, что она камень, а я ком глины, что там, где она выстоит, я рассыплюсь. А мне умереть не страшно. Тебя жалела...
Хабиба всегда называла Курацу «самоварной», и лог за что. Свой огородик величиной с козью шкуру Кураца засевала чесноком. Летом зеленый чеснок она ирода-вала пучками, а зимой торговала связками чесночных головок. Но ни зимой, ни летом Кураца на вырученные деньги ничего не покупала, да и что на них можно было купить! Каждый раз после торговли она заходила в чайную и заказывала себе самовар. Ничего на свете так не любила Кураца, как сладкий чай с белым хлебом. Весь свой чеснок она пропивала на этом чае, за что и получила от Хабибы меткое прозвище «самоварка».
– Этой «самоварке» я не прощу,– повторила Хабиба свою угрозу.– Все намеками, да намеками: «В тепле твоя дочь». Нет, чтобы прямо сказать: «У меня Апчара, не беспокойся».
– С Курацей теперь шутить нельзя. Пушку купила. Хочет пальнуть по Мисосту и по его управе.
Хабиба ничего не поняла насчет пушки, поэтому пропустила слова Апчары мимо ушей.
Едва О'глядевшись в доме, дочка залезла на чердак и спустила оттуда старый Иринин патефон и кучу пластинок. Все оказалось цело. Хабиба варила мамалыгу па ужин, а дочь перебирала и протирала пластинки. Скоро на весь дом загремела музыка, довоенная, советская, от которой уже отвыкли люди.
Не успела прокрутиться одна пластинка, как в дом вошли немцы. Апчара испугалась сначала и едва не выронила пластинки из рук, но потом увидела, что вовсе не музыка привлекла немцев. Они зашли погреться, их набилось целый дом. Солдаты лезли к огню, растирали над огнем посиневшие от холода руки. Хабибе пришлось потесниться и даже совсем отойти от огня, хотя вода в казанке уже закипела, надо было сыпать в кипящую воду муку, чтобы заварить мамалыгу.
Немцы были одеты как попало. Головы закутаны у кого полотенцем, у кого шерстяным платком. Немного отогревшись и повеселев, они разглядели патефон и пластинки.
– Музык? Давай карош музык!
– Катюш, катюш. Форшпилен. HrpaisT катюш.
Здесь-то и произошло то пустяковое, из-за чего Апчара попалась. Она знала, что немцы отступают. Страх перед ними пропал. В Апчаре проснулось школьное озорство. Она придвинула к себе лампу с заклеенным подгоревшей бумагой стеклом, быстро-быстро перебрала пластинки, -нашла ту, что искала, поставила ее и с озорной улыбкой стала смотреть, какое действие произведет ее музыка на немецких солдат. Немцы не сразу поняли, что за песню они слушают. По-русски никто из •них .не понимал, но когда начали повторяться слова «партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков», то не понять смысла песни было уже нельзя.
Улыбку как сдуло с солдатских лиц. Один немец, стоявший за спинами других в темноте, вскинул автомат. Апчара едва успела отскочить от столика. Раздалась автоматная очередь по патефону. Комната наполнилась дымом. Перепуганная Хабиба бросилась к дочери:
– О горестный день!
Патефон, как на грех, не остановился и песня продолжалась. Тогда стрелявший немец схватил его и со всей силой бросил на пол. Осколки пластинки полетели в разные стороны, но диск крутился. Немцу пришлось прикладом «добить» упрямый патефон.
Может быть, этим и кончилось бы озорство Апчары, если бы по улице в тот момент не проезжал верхом Ми-сост. Он ехал в сопровождении своей охраны. Услышав автоматную очередь, Мисост подумал сначала, что это стреляют по нему, и припустил коня, но потом остановился и послал полицаев выяснить, кто стрелял. Узнав, в чем дело, он сам подъехал к дому Хабибы.
Напрасно старуха бросилась к его ногам с мольбой.
Мисост отшвырнул Хабибу в сторону и шагнул к Ап-чаре.
– Твоим запахом не насытился я. Пришел за мясом твоим.– Мисост помнил, оказывается, слова волка из детской сказки.– Не знал я, что собака в своем гнезде. Собирайся. Теперь ты запоешь иначе...
Хабиба разрыдалась.
– Партизан?– спросил немец, стрелявший по патефону.
– Да. Партизанка я,– бросила Апчара немцу и всем остальным немцам.
Хабиба выскочила на улицу вслед за уводимой Ап-чарой и цеплялась за дочку руками, но ее отталкивали. 'Странно, что даже в такую минуту внимание ХаГнты вдруг остановилось и сосредоточилось пн радпатрг пг
мецкой машины. Там болталась, повиснув на краешке, половина сломанной никелированной подковы.
– Говорила я, что не будет извергам ни счастья, ни удачи. Сломается их подкова. Говорила. Болтается одна половинка. И машина сломается, и машина...
Мисост приказал запереть Апчару в подвале сельпо.
последняя ночь
Охранять пленницу поручили Питу.
– Ни есть, ни пить -не давай!– строго наказал бургомистр, запирая замок.– Отвечаешь за нее головой.
Апчара и не думала о еде. Апчара думала о нелепости случившегося. Пережить всю немецкую оккупацию и попасться в последний день, когда немцы уже уходят и Мисост наверняка убежит с ними... Лучше бы уйти тогда с Чокой и Локотошем. Те не дадутся живыми в руки. А разве можно сравнить смерть в бою с ожиданием смерти в этой крысиной норе?
Крысы, почуяв живого человека, начали вылезать из-под пола, зашевелились по темным углам, приближались со всех сторон, вынюхивая. Сначала при малейшем движении Апчары они бросались, наталкиваясь друг на дружку, и, взвизгивая, исчезали. Но потом, осмелев, стали носиться по комнате наперегонки, словно устроили скачки, метались из угла в угол, грызлись между собой. Апчара от страха жалась к единственному маленькому окошку. За окошком стояла ночь, но было не очень темно – подсвечивал свежий снег. То пройдут мимо окошка коровьи копыта, то человечьи ноги, а больше ничего и не видно. Закричать бы, позвать на помощь, но бесполезно. И нельзя унижаться. Питу все равно никого не подпустит к магазину. «Достойно умереть – значит не умереть»,– не раз учила свою дочь Хабиба.
У окошка посветлее – не так страшно, но зато от него тянет холодом. Спрятаться бы от холода в темный угол, но там полно крыс.
Сколько раз ходила Апчара в этот магазин за керосином, за мылом, за солью. Хабиба не любила запасать всего помногу. Велит купить бутылку керосина, один кусок хозяйственного мыла – не больше, горстку соли.
Питу покашливает за дверями: знай, я здесь. Этот тоже думает о своей судьбе. Мисост – бургомистр. Его немцы посадят в машину, и поминай как звали. А куда деваться Питу? Ни языка, ни вида. На что он им нужен?
Опять крысы... Обнаглели, лезут на ноги, прилаживаются, с какой стороны грызть намокшие ботинки. Апчара меряет подвал из угла в угол. Крысы пищат, скачут за ней. Села на пустые ящики повыше, чтобы крысы не доставали.
На улице совсем тихо. Даже Питу перестал покашливать. Не ушел ли он? Изредка лают собаки. Апчара продрогла, не может совладать с собой – дрожит: то ли это от холода, то ли от всех переживаний. Вздремнуть бы, но сна нет и в помине. Наверное, Питу уснул в своей будке.
Вдруг глухая ночь как бы взорвалась: зарокотали, заревели моторы, свет от автомобильных фар заметался за окном,– то гас, то вспыхивал, мелко дрожала земля от движения тяжелых машин. Апчара подумала, не налетели ли наши самолеты, но не было слышно ни стрельбы, ни разрывов. И тогда Апчара поняла и уверилась окончательно – уходят немцы. Значит, завтра здесь будут наши. Надо пережить одну только эту ночь. Но как ее пережить? Мисост не уйдет, не расквитавшись, не выплеснув всей своей злобы. Завтра вернутся Локотош и Чока; завтра переменится вся жизнь, и только Апча-ры не будет в живых. Боже, как глупо! Всегда говорила мама, что озорство не доведет до добра. И правда не довело. Мама, прости! Мама, разве я знала... А немцы уходят и уходят. Последняя немецкая ночь... Завтра третье января. Или четвертое? Перепутались числа.
Шум моторов прекратился так же внезапно, как и начался. Наступила гнетущая тишина. Собаки, напуганные ночными всполохами фар, не смеют лаять. Лишь петухи верны себе. Поют, перекликаются друг с другом, не боясь выдавать немцам курятники, где еще не перевелись куры.
Лязгнул замок. У Апчары сердце провалилось вниз, похолодело и замерло. Пришли. Пуля или петля?
– Апчара?—послышался приглушенный голос Питу.
Пленница не отозвалась и не пошевелилась. «Пусть убивают на месте. Никуда не пойду,– думает Апчара.– И нечего им меня допрашивать. Все равно буду молчать. Стерплю – не стерплю, стерплю – но стерплю»,– думает Апчара о пытках, которые ее ждут.
– Апчара!—опять послышался тот же голос.– Заснула, что ли?
– Стреляй!—Апчара не узнала своего голоса.– Стреляй здесь. Я не пойду никуда.
– Дура! Стрелять будут другие. Убегай сейчас же. Жить осталось десять минут, поняла? Сейчас тебя расстреляют. Мисост уходит с немцами. Беги, не мешкай.
– Куда?
– Куда хочешь, только скорей. И к Хабибе не являйся, найдут...– Питу силой вытолкнул Апчару из подвала. Едва выбралась она наверх по обитым кирпичным ступенькам, несколько раз споткнулась. Ей все казалось, что Питу выстрелит в спину. Но Питу не собирался стрелять. Питу думал теперь о себе. Ему бежать некуда. Никому он не нужен. Его предки дальше Прохладной никогда не ездили. И ему не придется. Если ему суждено погибать, так в родном ауле, на берегу Чопрака. А что такого он сделал за эти два месяца, чтобы его убивали? Он делал все, что делал бы любой стражник при сельской управе. Велят позвать – звал, велят охранять– охранял. Никого не бил, никому могилы не рыл. Но нет, чувствовал, чувствовал Питу, что приближается час расплаты. В своем безвыходном положении Питу решился на отважный поступок, который, как думал Питу, на том свете, где будут взвешивать поступки, один перетянет все плохое, а на этом свете оправдает Питу перед нашими. Он решил спасти Апчару и спрятаться, конечно, потому что Мисост четвертовал бы за этот поступок.
– Ты не будешь в меня стрелять?
– Сказал, не буду! Иди! Видишь, я сорвал замок. У меня есть ключ, но пусть подумают, будто тебя освободили свои. Ты одна будешь знать, что освободил тебя я. Мне этого достаточно. Поняла?
– Поняла. Все поняла.
Апчара вышла в долину Чопрака. Ей казалось, будто кто-то крадется за ней, неотступно идет по следам. Она замирала на месте, прислушиваясь к каждому звуку.
В стороне послышался шум. Апчара метнулась к кладбищенской ограде, но никакой страх не заставил бы ее перелезть через ограду. Она присела и притаилась. Дорога в десяти шагах от кладбища, и если только пойдут машины с яркими фарами... но послышалось фырканье лошадей, звон стремян, стук подков. По дороге шел большой отряд конников. Апчара расслышала разговор и поняла, что это уходят легионеры. Иногда раздавались команды: «Не растягиваться», «Рысью, марш!»
Апчара собралась бежать к Кураце на кирпичный завод, в старое свое убежище. Легионеры прошли, и дорога, казалось, освободилась. Но едва Апчара перешла реку, замерзшую в этом месте, как впереди прямо перед ней вспыхнули фары. Со стороны завода шел автомобиль, зажигая свет только в тех случаях, когда без него нельзя было разглядеть дорогу. Чтобы не попасть в свет фар, Апчара бросилась в сторону, в куку-рузу. Тут ее намерения неожиданно изменились. В кукурузе она попала нечаянно на пешеходную тропу, ведущую в город. Апчара не раз ходила по этой тропе к Ирине. «Судьба сама толкает меня туда»,– подумала Апчара и пошла в сторону города. Там Ирина. Она сумеет спрятать золовку...
Ирина не спала в эту ночь. Днем она видела, как по городу вели юную девушку в ватнике и в солдатской шапке-ушанке. На груди фанерная дощечка с надписью: «Партизанка». Ирина сразу подумала, что это Апчара, и обмерла. Ведь неизвестно, где эта сорвиголова, легко могло случиться, что она подалась к партизанам. Смелости у нее хватит.
Нет, под конвоем шла не Апчара, но все равно синие глаза девушки, искусанные губы, связанные за спиной маленькие руки, кудряшки, выбивающиеся из-под шапки, личико, избитое и залитое кровью, Ирина никак не могла забыть. Ирина шла тогда за лекарством к Якову Борисовичу и рассказала ему о девушке. Старый аптекарь утешал: «Немного осталось ждать. Совсем немного. Наши уже идут». Действительно, в последние дни гестаповцы и бештоевцы свирепствовали, как перед концом. Хватали каждого по малейшему подозрению – и сразу на ипподром, превращенный в концлагерь. Ипподром обнесли высокой оградой из колючей проволоки. Там доставало места и женщинам, и мужчинам, и детям. За ипподромом противотанковый ров – место расстрела.
В городе спросят о ком-нибудь: «Где он?»– «Проскакал». Это значило: отправлен на ипподром и возвращения его не жди.
Ирина лежала, прижав к себе Даночку. Закроет гла за, чтобы заснуть, а перед ней девушка-партизанка. В комнате холодно. Плитка давно остыла. Она нагревала утюг и клала его под одеяло, но и утюг уже не грел. Ирина встала выбросить его, чтобы не мешал, и тут послышался стук в дверь.
– Господи! Апчара! Откуда? Как ты рискнула?
Поняв, что Апчара ни о чем сейчас не сможет рассказать, что главное для нее согреться, Ирина уложила ее в свою постель. Даночка съежилась и захныкала во сие, когда вместо теплой матери рядом оказалась продрогшая Апчара. И под одеялом у Апчары не попадал зуб на зуб.
Ирина пошла на кухню. Там у нее хранилось несколько резервных поленьев. Развела огонь в плите. Нагрела воды, выстирала платье и носки Апчары, разбитые, расквашенные ботинки поставила сушить на плиту.
Апчара между тем согрелась и уснула. Спала она тревожно, вздрагивала, скулила во сне. Ирина не будила ее. За делом не заметила, как посветлели окна, наступал поздний зимний рассвет. Снова на улице загромыхали машины. Ирина посмотрела в окно и не поверила своим глазам. Машины, машины, груженные ящиками, на каждом борту своя надпись: «Гнать врага, не давая передышки», «Вперед на запад», «В Берлине остановка».
– Господи, да это же наши! Наши! Какое утро! Апчара, Даночка! Господи, наши же!
Бедная Апчара, перепуганная до смерти, соскочила с кровати в одной рубашке.
– Гляди! Наши!
– Мы спасены!—Ирина схватила Апчару, обняла, и обе расплакались счастливыми слезами.
Проснулась Даночка. Видя, как мама и тетя Апа плачут в обнимку, тоже спросонья расплакалась. Апчара, чтобы успокоить ребенка, пустилась в пляс, девочка совсем растерялась. Только что тетя плакала, а теперь пляшет. Мама тоже вся в слезах, но улыбается. Ничего непонятно. Ирина поднесла дочку к окну.
– Наши. Доченька, наши!
Даночка смотрит черными глазенками. Где же папа, если эти дяди—наши? И откуда взялась тетя Апа? Ее не было, когда Даночка ложилась спать.
Апчара и Ирина с Даночкой вышли на улицу. Город ожил, походил на встревоженный улей. Ликовали все – и мирные жители, и бойцы. Для бойцов Нальчик был первым городом, который они освободили. Лиха беда начало. На ближних подступах к Нальчику наши части стояли два месяца, а для горожан эти два месяца показались вечностью.
Даночка пальчиком показывала на черноволосого командира: «Папа!»
– Дурочка, твой папа под Сталинградом!—объясняла мать. Как Ирине хотелось, чтобы среди этих людей, заляпанных глиной всех окопов, просмоленных огнем, обгоревших, шел сейчас и ее Альбиян.
– А папа скоро приедет? – теребила Ирину Даночка.
– Теперь уже скоро,– отвечала за Ирину Апчара. В глазах у нее слезы, она поскорее смахивает их, чтобы лучше, яснее смотреть на город, на колонны войск, идущие по нему. Своего брата Апчара никак не ждала увидеть в этих колоннах, но тем не менее смотрит во все глаза, ищет кого-то. Ирина догадывается, кого: Чоку и Локотоша.
Ирина тоже не пропускает ни одного всадника. Почему-то ей кажется, что Альбиян должен быть обязательно на коне. Где-нибудь и он движется так же в колонне войск, и другие женщины, вглядываясь в колонну, ищут своих мужей и братьев, а видят его, Аль-бияна, мужа Ирины. Пусть хоть так. Лишь бы был жив.
Ирина и Апчара решили скорее идти в аул. Как там теперь? Успел ли Мисост показать аулу свою спину? Не убил ли он Хабибу в отместку за то, что Апчара ушла из рук? Жива ли там бедная Данизат? Навстречу сплошные колонны войск, пешие, конные, танки, тягачи, пушки, автомобили. Грохот, шум, похожие на праздник. «Будет и на нашей улице праздник»,– вспомнила Апчара. Сбылось.
Не успели женщины выбраться из города, как их подхватила новая волна. С воплями, криками сотни горожан бежали со всех сторон в сторону ипподрома. Бежали запыхавшиеся, простоволосые, растрепанные, матери волокли за руку детей; мужчины комкали шапки в руках; дети не поспевали и плакали. Волна подхватила Ирину и Апчару и тоже понесла к ипподрому.
Ипподром огорожен колючей проволокой. Трибун, на которых размещалась во время скачек шумная публика, теперь нет. Немцы их сожгли. Торчат бетонные опоры, железная арматура. Апчара первой пролезла через разрыв в колючем ограждении и оказалась на самом поле ипподрома среди вопящих, мечущихся людей, среди трупов, усеявших сплошь все поле. Люди ищут своих. Временами раздается вопль– нечеловеческий, невыносимый. Значит, кто-то нашел среди убитых своего близкого. Плачут дети и женщины, щелкают фотоаппараты корреспондентов, стрекочут кинокамеры. Тела лежат в разных положениях, но раны почти у всех одинаковы. Расправа творилась ночью. Кто-то уже знает подробности и рассказывает, что эсэсовцы – в одной руке электрический фонарик, в другой пистолет – поставили всех арестованных на колени. Фонариком освещали лицо и стреляли в рот, чтобы было наверняка. И правда, почти все убиты выстрелами в лицо. Но, конечно, те, кто не повиновался в этот последний момент, застрелены как попало. Ирина почти споткнулась об аптекаря Якова Борисовича. Он лежал в луже крови, на боку, приложившись щекой к земле, будто слушал ее сердцебиение. И выражение лица у него было такое же, как если бы он к чему-то прислушивался. Точно такое же выражение у него бывало, когда он слушал больных и Даиоч-ку. Он был в черкеске и бешмете. Бедный старик, не спасла его национальная кабардинская одежда. Убит он был в затылок, как видно, не захотел покорно подставить под выстрел свое лицо.
Дальше Ирина идти не могла. Душили слезы. Да и незачем было Даночке видеть это, слушать вопли, все более неистовые и жуткие.
К ипподрому подъехала машина, из нее вышел Бахов. Ирина мало знала его, но теперь обрадовалась, словно родному. Она подхватила дочку и бросилась Бахову навстречу. Она говорила ему, захлебываясь от волнения и радости:
– Товарищ Бахов, если не ошибаюсь. Я знаю вас! Я видела вас на станции, когда эвакуировались...
Ирина напомнила Бахову не самый приятный день в его жизни, но все же он улыбнулся молодой и взволнованной женщине.
– Вас зовут Ирина, я помню...
Он ее знает! Попросить– и поможет вернуться в Комитет обороны. Вернется и Кулов...
От такой радости Ирина, пожалуй, могла бы броситься Бахову на шею, но что-то удержало ее. Даноч-ка была на руках. Кроме того, лицо Бахова внезапно изменилось, стало жестким, холодным, непроницаемым.
– Оставалась на оккупированной территории?
– Да...– растерянно выговорила Ирина, впервые задумываясь над словами: «оставалась на оккупированной территории».
– Жаль.
И Бахов пошел на ипподром.
Когда бургомистр схватил и увел Апчару, Хабиба проплакала всю ночь. Она слышала шум машин и мотоциклов, но не знала, что происходит. Едва дождавшись рассвета, захватив теплые вещи для дочери, лепешки и вареную курицу, старуха пошла в управу. У нее было твердое намерение мольбами, слезами, готовностью принять смерть вместо дочери, освободить Апчару, упросить Мисоста хотя бы не отправлять девушку в тот лагерь, в тот ад, о котором рассказывал Бекан. Потом она, может быть, найдет сына Шабатуко. Хабиба найдет Аииуара, и тот заставит Мисоста освободить Апчару. Только вот узнать бы, где Аниуар встречает Новый год.
Мисост на всех перекрестках твердил, что этот Новый год означает начало новой эпохи. Отныне история пойдет по пути, начертанному Гитлером. Но получилось иначе. За пиршеским новогодним столом не суждено было прозвучать ни одному его тосту. Началось бегство «освободителей». Первые дни казалось, что советским войскам удалось добиться лишь частных успехов. Мисост успокаивал себя, верил немцам и чуть не арестовал бештоевского гонца, предлагавшего не эвакуироваться вместе с отступающими немецкими войсками, а присоединиться к легионерам, создать в Чопракском ущелье неприступную крепость, где и переждать временный успех советских войск.
Бештоев старался заманить в ущелье побольше людей. Направо и налево он обещал посты в правительстве, именуемом гражданской администрацией.
Мисост заметался в ауле, как в доме, который загорелся сразу со всех сторон. Он думал, что Якуб пришлет за ним машину, а Якуб не велит эвакуироваться. Надеялся пристроиться к немецким штабистам – не получилось. В последнюю минуту у бургомистра не оказалось даже простой подводы. А ему хотелось забрать с собой новогодние угощения: вина и все припасы. Пока он дозванивался до начальства, Питу Гергов по-своему оценил обстановку, отпустил Апчару и скрылся сам. Взбешенный Мисост ускакал на подвернувшейся кляче, не успев даже заехать домой, чтобы попрощаться.
О брошенных на произвол судьбы праздничных погребах бургомистра первой, как всегда, прознала Кура-ца. Она побежала по аулу, чтобы найти себе помощников и распорядиться как нужно бургомистровым провиантом, и тут повстречала Хабибу.
– Хабиба, Хабиба, остановись! Если ты идешь к Мисосту, то не скоро его догонишь, клянусь аллахом!
Хабиба остановилась. Ей показалось, что Кураца навеселе.
– Никак продала новую партию черепицы!
У Курацы было радостное настроение, поэтому она не обиделась на колкость старухи.
– Даром раздаю, даром. И тебе дам. Хотя по справедливости надо было бы перекрыть тебе крышу шкурой Мисоста. Да теперь его не найдешь. Клянусь, под бургомистром сейчас и яйца испекутся...
– Да ты побойся...
– Бояться Мисоста! Пусть он меня боится. Видишь, всех их за ночь как ветром сдуло. Пойдем в кладовые. Там самогон, вино. Встретим своих воинов доброй чашей, идем... По Апчаре не плачь, она на свободе, я знаю. Знаешь, кто ночью хотел спрятаться у меня?
– Кто?
– Питу Гергов. «Ищу защиты у бога, а после бога– у тебя». Я схватила топор: «Убирайся, так изрублю, что сам бог не отыщет в тебе души!» Ушел.
Хабиба поверила Кураце. Дойдя до магазина, под которым томилась Апчара, обе бросились в подвал. Сорванный замок лежал у порога. Нигде ни кровинки, никаких следов убийства. У двери топорик, которым орудовал Питу.
Хабиба и Кураца кинулись к амбару.
Топорик, найденный в подвале сельпо, пригодился. Кураца ловко поддела замок на амбаре, двери раскрылись настежь. На женщин пахнуло самогоном, вином и мясом. Кураца выкатила прямо на улицу бочку с док-шукпнским вином, вынесла стол и разложила -на нем закуски. Хабиба помогала ей, раскладывала куски брынзы. Получалось точь-в-точь как в нартских сказаниях, когда героев встречают батырыбжей – чашей богатыря. Вот она, высшая справедливость, чью волю посчастливилось исполнять этим женщинам!
После разведчиков, промелькнувших по темным улицам, появились войска. Они шли нестройной колонной за тремя танками. По обеим сторонам колонны неслись ребятишки, разбуженные грохотом танков. Вышли на улицу старики и женщины, стали искать среди бойцов знакомых, близких, родных.
Хабиба никогда так не жалела, что не научилась русскому языку. Ее красноречие могло бы сейчас достигнуть невиданного совершенства, в ее словах могла бы соединиться боль страданий, горечь обид, оскорблений, унижений с радостью справедливости, с ощущением возмездия, с торжеством.
У Хабибы и Курацы появились помощники. Подоспели старики, разожгли костер, взялись жарить шашлыки. К амбарам выходили женщины с лепешками, вареными яйцами, сыром, молоком. Ведрами выносили яблоки.
Бойцы залпом пили самогон и вино, брали куски сыра с лепешками, ели на ходу, благодарили женщин. В холодном и снежном воздухе запахло жареным мясом. Бойцы не торопились уходить от пиршественного стола. То и дело раздавались команды. Угощавшихся воинов ждали бои в Чопракском ущелье.
Еще совсем недавно Локотош хотел превратить ущелье в неприступную крепость, отвлекающую на себя силы врага. Якуб Бештоев ударил этой крепости в спину, открыл ворота врагу. Но теперь он сам решил использовать идею Локотоша, надеялся этим помочь немецким оккупантам закрепиться на каком-нибудь рубеже, а потом вернуться назад. Тогда он сможет прослыть •героем и немцы воздадут ему должное. У него не хватит военных знаний, чтобы добавить что-нибудь к тем оборонительным сооружениям, которые созданы капитаном Локотошем, но он рассчитывает на немецкое вооружение. Его сподвижниками остаются Азрет Кучме-нов и десятки немецких приспешников, примкнувших к нему. Легионеры не сдадутся, ибо что может ждать предателей? Якуб Бештоев прихватил и деньги, собранные на курбан-байраме,– целый чемодан. Об этом не знает даже Азрет Кучменов. О сокровенных планах он не скажет никому. Все зависит от случая, как сложится судьба – никто не знает. Но деньги всегда деньги. Если под чужим именем он окажется за хребтом Кавказа, то деньги возьмут свое. А удастся продержаться в ущелье– слух о нем дойдет и до Берлина...
Мечте Якуба не суждено было сбыться...
Бойцы торопились, но Хабиба не могла не сказать им слов, которые рвались из ее сердца. Те, кто понимал ее язык, переводили другим.
– Милосердный, милостивый! Не осуди меня за то, что я обращаюсь к тебе с водкой в руке. Это—чаша богатыря. Ее преподносили наши предки своим героям. От них мы унаследовали этот обычай. К тебе, аллах, все обращаются с просьбой. Просьба к тебе от людей всех языков, от земли всех народов. Дай победу нашим сыновьям, победу над пришельцами, залившими землю кровью и слезами. Не дай засохнуть этой крови на траве, не отведи от врага удар возмездия. Пусть пропасти на пути наших сыновей будут заполнены трупами врагов. Пусть утро дарит свет острию штыков наших бойцов. Солнце, не жалей тепла для них...
В толпе заговорили на разные голоса.
– Да будет так!
– Пусть дойдут до аллаха твои слова!
– От всего сердца сказано.
Хабибу окружили, каждый тянулся своим стаканом чокнуться с ней. Вдруг среди возгласов послышался и знакомый голос:
– Мама!
– Апчара!
Рядом с дочерью стояла Ирина с Даночкой на руках. В глазах у старухи зарябило от слез. Апчара подхватила и поддержала ослабевшую мать, и пир пошел своим чередом. Выделялся звонкий голос Курацы:
– А мы вас каждый день ждали.
– Верили, что придем?
– Румыны продавали нам ваши листовки.
– Дорого платили?
– От вас зависело. Много листовок набросаете, по одному яйцу за листовку, а когда поскупитесь, приходилось и курицу отдавать. У меня с ними дела строились еа купле-продаже. Под конец прикатили мне целую пушку. И сейчас стоит у дверей.
– Пригодится,– вмешалась в разговор Апчара.– Вот будем коров собирать по сохранным запискам, кто не сохранил – бах из пушки.
– У нее замок испорчен,—доложили мальчишки, которые уже успели проверить трофей.
– Опять ты о своих коровах? – насторожилась Хабиба.
– А что же? Меня с заведующей фермой никто не снимал. Немцы не имели права меня снять, так что я остаюсь в прежней должности...
Полк прошел через аул, столы опустели. Так был отпразднован Новый год.
ВОИНСКАЯ ПОЧЕСТЬ
Несмотря на бурное шумное течение, реку схватило льдом, приглушило, утихомирило Чопрак. Непривычная, торжественная, жутковатая минута установилась в ущелье. На крутых поседелых склонах гор стоят чинары, одевшиеся в нарядный иней. Под тяжестью инея гнутся ольха, орешник, кизил, плакучие ивы. Кусты боярышника и шиповника согнулись так, что верхушками склонились до снега и вросли в него, образовали причудливые арки, шатры. Затихло и насторожилось ущелье. Кажется, хватило бы одного выстрела или взрыва, чтобы вздрогнули все деревья и осыпали с себя белое мертвенное убранство, но в ущелье стоит тишина. Лишь подковы лошаденки, запряженной в двуколку, звонко стучат по каменистой и мерзлой дороге. «Толь-ко-так, толь-ко-так, толь-ко-так»,– размеренно цокают подковы, и этого цоканья не хватает на то, чтобы стряхнуть с ветвей хоть одну блестку инея. Еще чутче, еще мертвеннее, еще торжественнее в ущелье от этого перестука копыт.
Дорога спускается вниз. По дороге едет двуколка. На двуколке стоит сколоченный кое-как, больше похожий на ящик чинаровый гроб. Заиндевелая лошаденка увлекает двуколку вниз по ущелью. Лицо покойника обращено к небу. На черных ресницах, на бровях, на густых, зачесанных назад волосах тоже осел белый иней. Горячая слеза повисла на ресницах. Над гробом, в ватнике и шерстяном платке, нахохлившись, пригнувшись под тяжестью смертельной печали, сидит Апчара. Она глядит на лицо покойного и удивляется, почему не тает иней, окутавший его лицо, почему не скатывается по щеке слеза. Не может быть, что Чока мертв, не проснется, не прикатит летом на велосипеде и, скрываясь за плетнем от зоркого глаза Хабибы, не шепнет Апчаре: «Выходи, я жду тебя».







