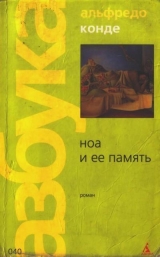
Текст книги "Ноа и ее память"
Автор книги: Альфредо Конде
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Подойдя к воротам, Педро сжал мне локоть и сказал: «Очень хорошо, очень хорошо, ты все сделала очень хорошо. Все это когда-нибудь будет твоим, и они знают, что ничего уж тут не поделаешь».
Было жестоко и очень трудно вдруг столкнуться с реальностью, перед которой меня поставил Педро. Но ведь действительно другой возможной наследницы не было, если только моя тетя не решит вдруг выйти замуж. А все, принадлежавшее моей матери, было моим. Печально то чувство уверенности, что внушает подобная действительность, вернее сказать, печально, что эта действительность внушает уверенность, но несомненно, что она внушает ее. Педро посмотрел на меня внимательным взглядом и убежденно сказал:
– Все мое тоже будет твоим.
Я не смогла скрыть чувство несогласия с подобным утверждением, и Педро заметил это, иначе, думаю, он не сказал бы мне то, что сказал, смеясь:
– Но к тому времени ты будешь такая старая, что не справишься даже с ногой слона.
И потом предложил пойти поужинать где-нибудь для разнообразия, чтобы избавиться от неприятного привкуса.
Я еще несколько раз приходила в дом к моим дедушке и бабушке и к концу каникул стала испытывать к ним нечто вроде сострадания; я по-обещала себе постараться меньше ненавидеть их, забыть о холодности приемов, о негостеприимности их дома, об отсутствии фотографий моей матери на сервантах и полках, о банальности их бесед. Но одно неприятное событие все усложнило и помешало осуществлению моих благих намерений. Мне было семнадцать лет, и я жила в доме дяди, двоюродного брата моей матери, дяди, у которого по всем признакам когда-то был роман с моей тетей; в доме богемного и беспутного художника, сына моего двоюродного дедушки Педро, того самого «могучего мужа, волочившегося за шлюхами до самой смерти», и, разумеется, я была объектом пересудов. Однажды кто-то высказал нечто, касающееся меня, в присутствии Педро, и ответом была звонкая оплеуха, подобно удару кнута, отозвавшаяся эхом по всему городку. Впервые намеки такого рода вызвали подобный ответ со стороны моего дяди, который в аналогичных ситуациях раньше не говорил ни да, ни нет, оставляя инсинуации без внимания. С того дня люди стали смотреть на меня с большим уважением и не так свысока: прежде мне зачастую приходилось ловить на себе взгляды, брошенные сверху вниз. Эта пощечина окончательно восстановила мое доброе имя и добрую память о моей матери и укрепила мою уверенность в себе, впервые появившуюся после публикации извещения. Мне непросто истолковать и объяснить эти мои ощущения, но они таковы. Лишь бабушка и дедушка решили извлечь выгоду из создавшегося положения, начав атаку на Педро по поводу моего пребывания у него в доме. Они были не правы. Теперь, когда годы и расстояние предоставляют мне такую возможность, я могу смотреть на Педро как на мужчину и могу понять, что семнадцатилетняя девушка тоже может увидеть в таком приближающемся к своему сорокалетию человеке, как Педро, мужчину. Но тогда я видела в Педро моего дядю Педро, друга моего отца, существо несомненно обожаемое, обворожительное, почти столь же исключительное, как мой отец, которого я очень любила; но я не видела в нем, не могла видеть в то время самца. Теперь же я вижу в нем мужчину и в своих воспоминаниях ласкаю его руки и целую его глаза, теперь, когда уже слишком поздно. Когда уже слишком поздно и те долгие часы, когда я позировала ему, приобретают смысл, которого были лишены раньше, которого они не могли тогда иметь. Ибо если что-то и придает им сейчас смысл, то это как раз мой теперешний возраст, желание, клокочущее в моем горле и заставляющее меня мурлыкать, словно кошка, мое потное тело, разбуженное физическими упражнениями, долгой размеренной пробежкой по берегу ручья, в тиши лилий, обвеваемое слабым ветром, свежесть которого нежно ласкает мой пах, создавая ощущение нагого тела, обволакиваемого в вечерней прохладе взглядами Педро; он ласкает меня на полотне, бывшем некогда белым, и хриплый голос, исходящий откуда-то из глубины моего существа, бросает ему упрек в том, что он никогда не просил меня позировать обнаженной. Теперь я желала бы познать жар его мужского тела, я искала бы в нем запах самца вместо семейных ароматов, которые я с мучительным беспокойством отлученной вдыхала тогда; теперь, когда уже поздно.
Через несколько дней после описанного случая с пощечиной я вернулась в П.; тем временем мой отец уже принял ряд важных решений; их было так много, что моя память отказывается восстановить что-либо, кроме самых значительных. В моих воспоминаниях они как бы противостоят скандальным, но счастливым дням, проведенным с моим дядей спустя всего лишь месяц со дня смерти моей матери; теперь, по прошествии стольких лет, они кажутся мне совершенно нереальными, и не только потому, что произошло все это тогда, когда произошло, но и потому, что главным действующим лицом была семнадцатилетняя девушка, то есть я, а местом действия – тот городок, где все это случилось. Я вновь восстанавливаю в памяти факты, анализирую действия и не нахожу другого ответа, не вижу иного оправдания для всех моих тогдашних поступков, кроме полученного мною воспитания; ведь не может быть, чтобы лишь время придавало мне достаточную холодность для того, чтобы вспомнить все так, как мне предлагает это утро; не может быть, чтобы лишь моя короткая память рисовала мне эту картину жизни, что подчас кажется мне не моей, а иногда, напротив, ни чьей иной, кроме как моей или плодом моего воображения: ведь я была дочерью епископа, и человеком, более всего оказавшим на меня влияние, был мой отец. Так кем же был мой отец? Человеком с картины?
Среди многих решений, принятых моим отцом, фигурировала и передача мне в собственность принадлежавшего его родителям дома в П. Той осенью я поступила в университет, и мой отец решил, не знаю, правильно или нет, что Эудосия переедет жить к нему во дворец епископа О., а я отправлюсь, уже в ранге обладательницы собственностью, штурмовать вершины, которые вне всякого сомнения приберегла для меня Наука. Это известие ошеломило меня. Означала ли смерть моей матери в конечном итоге, что я потеряю и своего отца? Разве не решила я когда-то, что после ее кончины мой отец будет принадлежать только мне? Первое, что мне пришло в голову, это – где я теперь буду проводить каникулы, кто будет жить со мной в доме, как буду я жить в городе, где находится университет.
Отец известил меня о своем решении письмом, которое я нашла у себя на кровати. В нем он давал мне полный отчет о своих действиях, о проведенных переговорах, об условиях передачи в собственность, о том, какие оплаты произведены в налоговой службе и как я смогу получить деньги, которые позволят мне платить налоги и оплачивать расходы по содержанию дома, жалованье слуг и прочее, что положено мне по долгу владелицы собственности. Письмо возымело на меня уничижительное действие: я была семнадцатилетней девчушкой, а мир навалился на меня, полностью раздавив. В письме все было просчитано до миллиметра, все досконально выверено: до достижения совершеннолетия мне оставалось еще почти четыре года, и во избежание проблем с опекунством, которое он хотел возложить на своего брата, он распорядился таким образом, что коль скоро я была сиротой и владелицей собственности, я могла рассматриваться как совершенно свободная личность. Я не очень хорошо разобралась, что означал весь этот юридический язык, я и сейчас не до конца его понимаю. Мое беспокойство было вызвано тоном письма, равнодушием наполнявших его цифр, самим тем фактом, что всю эту лавину новостей мне сообщали письмом. Я горько заплакала. Чем больше я читала, тем более обделенной отцовской любовью я себя чувствовала: мне вручались не только дом и прочая недвижимость в П., но и почти все наследственное имущество отца, а кроме того, мне обещали в самый короткий срок уладить дела с наследством со стороны матери. Я почувствовала себя отлученной, изгнанной из того золотого времени, в котором жила до сих пор, и я заплакала, как плакала два месяца тому назад. Я плакала по своей матери, я взывала к ней. Я вдруг повзрослела и ожесточилась совершенно ужасным образом и дошла до того, что стала проклинать своего отца. Пребывание в доме Педро казалось мне теперь коварной западней, подстроенной ими, чтобы отвлечь меня, и я едва сдержала желание позвать своего дядю, чтобы он облегчил всю ту боль, что переполняла меня. Я даже думала о том, чтобы поджечь дом, покончить жизнь самоубийством или пустить все наследство на путешествия и распутную жизнь; я перечитала письмо сотни раз, пока не выучила его наизусть и не поняла наконец, что это было вовсе не письмо, а документ, из которого нельзя все же изъять любовь, собственноручное завещание, скрытое за формальными нотариальными распоряжениями, и что с его помощью мой отец шел ко мне путями, о существовании которых я и не догадывалась.
Когда через несколько дней отец вернулся домой, я обняла его, вложив в это объятие всю накопившуюся и терзавшую меня тогда силу, а он лишь сказал мне: «Жизнь – это одно, а наша любовь – совсем другое», – и потом повел обычную беседу, и мы, как обычно, играли в шахматы, говорили о литературе, слушали музыку, гуляли по саду. И я рассказала ему обо всем, что произошло в городке моей матери, о которой мы тоже говорили, а он вспоминал прогулки по другому саду, осенние сумерки, мое появление на свет, пребывание в М. и расчувствовался; но мы ни разу не заговорили о наследстве, ни разу о деньгах или имении; мы даже ни разу не заговорили об университете.
Так я оставила позади детство. В последующие дни я размышляла о своем будущем, о том, чем я хотела бы заниматься, где и в каких условиях. Мой отец сделал меня свободным человеком. Его пространные рассуждения о неравенстве, о несправедливости обычно заканчивались замечанием, что в нашем обществе, в этом конкретном типе общества, лишь культура и деньги делают человека свободным, а также мыслью, что каким бы циничным ни было это утверждение, каким бы циничным оно ни казалось, нужно всегда помнить, что скептицизм есть не что иное, как форма мыслительной гигиены, которую следует применять хотя бы время от времени. Возможно, у сеньора епископа был где-то запасной потаенный выход?
V
 лежу без движения. Птичка королек в золотисто-красном оперении порхает над орешником. Зеленоватый воздух окутывает ее, пока она лакомится медом, нектаром, амброзией, душистой пыльцой; потом она вспорхнет и полетит над речными лилиями, чтобы выпить свою порцию любви, уводящую ее в осень; а я буду смотреть, как летит этот зеленоватый, почти бескрылый комочек, застыв, как сейчас, на этом холме, и у меня не будет даже самой маленькой порции любви, которую можно было бы поднести к моим сухим, обуреваемым желанием губам, душистой пыльцы, что погрузила бы меня в несбыточные грезы, ничего, что можно было бы выпить, ничего, кроме этого теплого утра, сквозь которое я мчусь в никуда.
лежу без движения. Птичка королек в золотисто-красном оперении порхает над орешником. Зеленоватый воздух окутывает ее, пока она лакомится медом, нектаром, амброзией, душистой пыльцой; потом она вспорхнет и полетит над речными лилиями, чтобы выпить свою порцию любви, уводящую ее в осень; а я буду смотреть, как летит этот зеленоватый, почти бескрылый комочек, застыв, как сейчас, на этом холме, и у меня не будет даже самой маленькой порции любви, которую можно было бы поднести к моим сухим, обуреваемым желанием губам, душистой пыльцы, что погрузила бы меня в несбыточные грезы, ничего, что можно было бы выпить, ничего, кроме этого теплого утра, сквозь которое я мчусь в никуда.
Я лежу без движения, распластавшись на траве, погрузившись в покой безмолвия, делая легкие выдохи и слабые вдохи, чтобы вырвать из рук смерти причитающийся мне воздух, а тем временем размышляю о своей непростой жизни. Я восстанавливаю ее в памяти на протяжении всего этого тихого утра, куда я намеренно, потому что без этого было не обойтись, ворвалась из городской ночи в безумном беге, от которого теперь медленно прихожу в себя. Я действительно бежала очень долго, и во время бега я вспомнила девочку, которой была когда-то, девушку, которой могла бы быть, свои мечты, что повисли, запутавшись, на ежевичных кустах. А теперь я предаюсь лирической безмятежности; буколическая картинка поглотила меня, и я превратилась в траву, и меня приглаживает ветер – почему бы не закончить этот пассаж в таком несколько возвышенном тоне? А потом я начинаю все сначала и тут же вспоминаю теорию вдохов и выдохов, что заставила меня бежать размеренно, не растрачивая жизнь впустую, полагая, как йоги, что с каждым глубоким вздохом ты приближаешься к смерти, этому естественному завершению всего. И я смирила свой бег и приспособилась к легкой, игривой трусце, подгоняемая попутным ветром, в дуновении которого и родилось все, о чем я вам рассказала. А теперь я хочу сказать: если все это о квоте – правда, если мы действительно несем с собой некое число, всегда ничтожно малое, альфу и омегу быстротечности бытия, мимолетности грез, то самое золотое число, фиглярскую математическую чушь, ужасную шутку, порожденную нирваной, да-да, возможно, именно нирваной – ведь надо же свалить вину на что-то, – так вот, если все правда, то не приведет ли это число с собой заодно и прочие арифметические радости? Сначала одни, потом другие, в незабываемых упряжках, с тем чтобы как следует вспахать то безумное поле, что называется жизнью. Мне бы хотелось быть краткой и высказать разом все, что я хочу сказать, что я думаю, о чем размышляю с тех пор, как моя пробежка заставила меня упасть здесь в лирическом созерцании окрестностей. Но все мое такое родное и неотторжимое существо не дает мне выразить, даже только для себя одной, только для моего молчаливого созерцания, только для моего собственного восприятия ту открытую моему женскому взору бесстыдную мысль, что бьется в мозгу; однако я вижу, что завершаю очередную тираду, так ничего и не сказав. Как же подобраться к этой мысли? Какие уловки должна я применить для того, чтобы выразить сомнение, поглощающее меня? Так может быть именно суть ответа, возможного ответа, и сдерживает открытое выражение умозаключений, которые мне все же придется высказать, коль скоро я так далеко зашла в своем повествовании? Хотя, по правде говоря, мне действительно трудно высказаться по поводу столь тягостного вопроса. И все-таки это печально: бежать все утро в надежде поддержать форму и в конце концов прийти к тому, к чему я пришла. Да, есть смысл в том, чтобы бежать и вспоминать, сентиментально восторгаться пейзажем, иногда даже иронически подсмеиваться над собой, но прийти к таким рассуждениям!.. И если, говорю я вам, правда, что, насколько я помню, если верить стихам Габриэля Селайи, положенным на музыку Пако Ибаньесом, мы делаем тринадцать вдохов в минуту, а в часе шестьдесят минут, в сутках двадцать четыре часа, в году триста шестьдесят пять дней, и отпускаю я себе на жизнь восемьдесят лет, отсюда вытекают восемьсот двадцать три миллиона четыреста сорок тысяч полных вдохов из отведенной мне жизненной квоты, согласно теории йогов, которой мне сегодня пришло в голову следовать… Так вот, если все вышесказанное правда, то нельзя ли сделать так, чтобы каждому мужчине сразу при рождении производили следующие расчеты: четыре раза в месяц – это сорок восемь в год; сорок восемь в год, помноженные на сорок лет – все-таки это достаточные годы, – получается одна тысяча девятьсот двадцать эякуляций, составляющих среднестатистическую квоту среднестатистической жизни среднестатистического мужчины. Округлим до двух тысяч. Сделаем поправку на жестокий период отрочества с его тайными пороками: получается три тысячи. Но это ничто! Если следовать этому ходу мысли, какова же квота моего Кьетансиньо? Пятьсот? А может быть, около тысячи? А где же тогда те, что не достались мне?! Или я слишком быстро исчерпала источник? Израсходовала его?
Теперь вы видите, откуда берется эта ужасная пытка, и что означают для меня, гуманитария, упражнения в математике? Вы понимаете теперь, на какую неутолимую жажду я вам намекала, что за печальную участь уготовила мне жизнь, когда впрягла меня, глупое животное, в одну упряжку с тем, с кем впрягла, и что за смирение я постоянно демонстрирую, бесстыдно и публично выставляя его напоказ?
Узнайте же вы, порхающие корольки, белоснежные речные лилии, все те травы, что примялись под тяжестью моего страдающего тела, – мелисса, ладанник, чистотел, дурман, подмаренник – вы, травы, одаряющие меня ароматом наступившего дня, узнайте, почувствуйте ту болезненную долгую жажду, что привела меня сюда. Посмотрите же, травы, как мое перепачканное землей лицо искажает ужасная гримаса, как оно содрогается в давно сдерживаемом пронзительном стенании; знайте же, наконец, кладбищенские травы, что я либо махну на все рукой, либо мне придется упасть среди вас, растерзанной на мелкие кусочки. И я говорю вам, птички-щебетуньи, ястребы, королевские орлы, совы и жабы, филины и лешие, внимающие мне, притаившись среди огромных корней дубов или в гуще березовой листвы, взгляните же, куда ведет, куда привела меня моя мягкотелость, воловья кротость, умственная трясина, ведущая к реке. И все совершенно заслуженно, ибо я не смогла сделать правильные расчеты, забыла четыре правила арифметики. Что за нелепый бег: решила бежать четыреста, и, когда дошла до трехсот, мне вдруг сообщают: «Эй, уже тысяча пятьсот!» На тысяче я уже совершенно выдохлась, да что там на тысяче, раньше! Весь мой начальный напор, вся моя сила стали постепенно убывать, дыхание ослабело, и вот я лежу здесь, распластавшись на траве, как раньше среди лилий, и я вновь готова закричать: «О, если бы сердце мое наполнилось музыкой!»
Ведь по мере того, как наступает день, в душе постепенно просыпаются песни, трава становится слаще, и морской ветерок взбирается по склону, вновь широко раскрыв свой взор навстречу надежде. Но теперь день уже в самом разгаре, трава утратила серебряный бархат росы, мягкость, подаренную ей влагой, и стала жесткой. Легкий ветерок, дувший с моря, должно быть, осел на далеких городских крышах, запутавшись в телевизионных антеннах, или застыл в мертвой неподвижности где-нибудь еще. Остался лишь покой, в котором пребываю я, укрывшись в прохладной свежести ручья, поглощенная созерцанием лилий. Там, во внешнем мире, нет услады, вне моего опечаленного сердца существует лишь наступивший ясный день, который никак не гармонирует с камнем и водой, составляющими мое существо; вне меня, вне покоя нет ничего; может быть, лишь яркие всполохи возле бора, от которого я прибежала сюда, к этой заводи, где лежу сейчас, распластавшись, словно вымоченный лен, чистая и белая, наедине с собой.
День уже наступил, я знаю это. Я встану и продолжу свой бег; меня ждут душные пустоши, и хотя высокие стройные вязы будут манить меня издалека к прохладной свежести ручья, мне придется пересечь эти пустоши, хотя я знаю, что они сухи и неприветливы. Я встану и тут же побегу, пытаясь ускользнуть от надвигающегося на меня призрака, но к нему же и прибегу, что, несомненно, будет логическим следствием моего увлечения бегом и математикой, будь они прокляты. И да будет проклят безответственный, своенравный, безрассудный и изменчивый день, который меняет состояние моей души с той же легкостью, с какой то позволяет солнцу сиять, то закрывает его туманом, то дает порывам ветра ласкать твои кудри, то вдруг нагоняет тучи, серые, как мысли, что возникают сейчас во мне, ибо я не знаю, способен ли кто-либо рассуждать о своем прошлом сколько-нибудь связно и последовательно. Нет, совсем непросто воспоминаниям, сверкающим, как вспышки молнии, составить гармонию с темнотой, что вдруг наступила как раз сейчас: перистые облака, предвестники холода, закрывают солнце, и с гор задувает свежий, скорее даже холодный ветер, вызывающий озноб, и вот тогда я говорю: кто может, кто в состоянии вспоминать, вновь переживать при таких неблагоприятных атмосферных явлениях, в столь жестоких метеорологических условиях сладостные минуты, проведенные в обществе мужчины? О, если бы время подчинялось мне! Если бы я уразумела раньше, что именно влияет на первозданную глину, из которой я слеплена! Я бы ни за что на свете не стала вспоминать, пока бегу с мокрыми ногами, преодолевая болото, озерцо или, выражаясь скромнее, глубокую лужу, ночь нежнейших стонов.
Мне придется считаться со своим телом: хочу я того или нет, другого у меня не имеется; в нем я живу, а все остальное – это внешний мир. Мне придется считаться со своим телом, а также и с этим днем: это все, что составляет для меня внешний мир. Из этого союза, из этой упряжки, из того, чего требует мое тело, и того, что предоставляет день, может возникнуть вечность, основная упряжка, что повезет меня вдаль. К примеру, тело требует, чтобы я вспомнила момент моего знакомства с Кьетансиньо – этим негодником! – а день недостаточно сер для того, чтобы я была в состоянии это сделать, но «тот бренный тлен, что окутывает душу, кто его поймет, Господи?»{15}. И это так же верно, как то, что я встаю, пускаюсь бежать и говорю: «Хватит, вперед, ибо все, что у меня есть, – это тоска».
Как бы там ни было, случилось так: он шел по Феррадуре, как я уже вспоминала ранее при более благоприятных метеорологических обстоятельствах. Действительно: столько мечтать перед зеркалами, всматриваясь в них, столько гадать над пламенем, вглядываясь в него, столько размышлять над барабанной дробью, уносящей тебя в прошлое, чтобы понять, что ни барабан, ни зеркало, ни огонь, ни гайта здесь не помогут: лишь благодаря погоде, с помощью погоды можно повернуть время вспять или галопом поскакать вперед, обгоняя его. Я признаю, что никакая не теория то, что я здесь излагаю, клянусь памятью моих предков, меня нисколько не волнует методология, я начала свою пробежку просто так, хотя как раз во время бега во мне стали всплывать воспоминания, и я торжественно утверждаю, что именно погода, атмосферные явления – это мое венецианское зеркало, мое яркое пламя, сладкая музыка моих воспоминаний. Вот вам пример: сейчас погода изменчива, сумрачна, неспокойна и таков же, в точности таков, и мой рассказ. Итак, я сказала (и сказала правильно), что шел он по Феррадуре, эдакая шхуна-бригантина, а его руки и высоко поднятая гордая голова в точности повторяли то совершенное триединство, что образуют фок, грот и бизань, те самые мачты, которые противостоят непостоянству моря, равно как и превратностям жизни, по крайней мере, так думал он, и именно так он объяснит мне это однажды, не помню толком, когда, но точно помню, что так он и выразился, поскольку он не очень-то был привержен, скажем, к слишком изысканным метафорам и всегда старался связать свои выражения с образом западной страны на берегу океана, страны сумерек, где солнце никогда не встает из моря; это доказывает, что безвкусица также является достоянием таких серьезных людей, как мой Кьетансиньо – этот негодник! Так вот, он шел, как я уже сказала, в обществе своих обожаемых родителей, с которыми то соглашался, то спорил в зависимости от яркости света или состояния неба, впрочем, и то и другое, как правило, совпадало с состоянием его духа, а оно, позволю себе утверждать, в свою очередь совпадало с состоянием души его матери; он жестикулировал так умело, так красиво и в таком истинно морском ритме, что я не могла им не восхититься. Должна вам также сказать, что тот вечер не был обычным; это был вечер, соответствующий дню двадцать третьего мая тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Предыдущий вечер соответствовал другому дню, не имевшему ничего общего с тем, и следующий тоже. Кроме того, я уверена, я бы даже сказала, абсолютно уверена, что в тот самый миг мой дедушка, мамин отец, предавался благочестивым воспоминаниям о моей покойной матери: мне это подсказывает мое тело. А мы ведь договорились, что я всегда буду с ним считаться, ибо это все, что у меня есть. Итак, он шел по Феррадуре, и я его увидела. Больше я его не видела вплоть до следующей осени. Я так хорошо помню дату, потому что в тот самый день я закончила филологический факультет и вернулась в П.
Тот день завершил период в несколько лет, воспоминания о котором, думаю, вполне благоразумно я храню лишь для себя: я провела эти годы за учебой и никому не обязана давать по этому поводу никаких объяснений. Впрочем, пожалуй, настало время что-то рассказать и об этих годах. Я жила в доме моего дяди, брата моего отца, с которым познакомилась только через несколько лет, потому что все это время он находился за границей; жила я в совершенном одиночестве и уединении, вся уйдя в занятия, и лишь изредка меня навещал мой дядя Педро, изредка отец и иногда какой-нибудь приятель или приятельница, дружба с которыми у меня разлаживалась, как только я замечала: она может привести к той глубокой близости, что дает право на откровенность. Меня считали странной, и мало кому удавалось умно защитить меня, ибо никто толком не мог меня понять. Да, я была странной – и все. И я усердно училась. Во время зимних каникул я уезжала в П. и следила за имением. Иногда я являлась во дворец епископа О. и говорила, говорила, говорила. А иногда, если мне не изменяет моя короткая память, я ездила к бабушке и дедушке и слушала и молчала, ибо это было удобно и соответствовало приличиям.
Я вновь увидела Кьетана после летних каникул, когда вернулась в К. с намерением поступить на отделение лингвистики и начать работу над диссертацией; у меня не было ничего худшего, на что можно было потратить время, и ничего лучшего, чем можно было заняться, а кроме того, у меня, разумеется, имелся более чем достаточный интерес к этой работе.
День определенно изменчив и неспокоен. В те пять лет умерли мои бабушка и дедушка, а моя тетя Доринда попыталась было жить со мной в надежде скрасить одиночество себе и мне. Она была подавлена – ведь за семь месяцев один за другим ушли ее родители – и никто не решился бы ей отказать в приюте; меня угнетало, что я так мало получила душевного тепла от своих бабушки и дедушки, так мало с ними общалась и многого не смогла узнать из-за ненависти, которую годами хранила в себе. И я решила не совершать той же ошибки по отношению к Доринде, которая в конце концов была сестрой моей матери, ведь откуда-то все же должен был взяться характер, определивший ее судьбу. Как это часто случается, я создала из бабушки и дедушки миф и согласилась принять мою тетушку, готовая установить отношения, которых раньше не существовало. Педро согласился с моими доводами, а отец сказал: увидим, чем это все кончится. Все закончилось быстро. Не было ни обид, ни проблем, никаких ссор: через несколько месяцев Доринда решила продолжить свои путешествия, а мне это показалось не только уместной, но мудрой и здоровой мыслью. Сейчас мы прекрасно ладим и, думаю, даже любим друг друга. Возможно, потому что обе чувствуем себя одинокими.
Шел дождь. Шел дождь, и я решила зайти в «Тамбре», старое кафе с угрюмыми задумчивыми официантами, влюбленными парочками у окон и подвыпившими компаниями, и там сидел он. Как он разглагольствовал! Какое красноречие исходило из его толстоватых, четко очерченных губ, какую глубину выражал его взгляд, казавшийся загадочным прежде всего из-за массивного носа, оставлявшего глаза где-то позади, из-за чего они выглядели далекими и темными; нос скрывал также слегка нависавшие над глазами веки, которые, впрочем, удачно оттенялись ресницами, являвшимися, вне всякого сомнения, отрадой его матери, такие они были длинные; они были такими длинными, что, казалось, опускались прямо на щеки, как я уже упоминала, румяные и толстые. Он слегка походил – теперь мой дух принимает это уже спокойно – на певца рок-н-ролла Пола Анку, который завораживал даже в таком доморощенном варианте. Я понимаю, какими жестокими можем быть мы, женщины, сколь отрицательны могут быть наши оценки, как несправедливы многие из наших суждений, когда они вызваны досадой и крушением надежд, но Кьетансиньо действительно был таким, он и теперь еще такой, только более лысый. Что же меня в нем привлекло? Что же это было, какой же порыв буквально пригвоздил меня к столу, стоявшему рядом с тем, за которым сидел он? Я думаю, это – его голос, его манера говорить. Ведь это немало. Красота его слов, мягкость его голоса, меткость его суждений как будто сделали меня маленькой рядом с ним. Заметив мое присутствие, он стал сначала говорить для меня, затем и смотреть на меня и наконец заговорил обо мне:
– У девушки, что там сидит, очень милые глазки и законченный мелкобуржуазный вид… Что бы она сказала, если бы ей пришлось принять решение, подобное тому, что сейчас предлагаю я? Так вот она бы сказала…
И он продолжал говорить, зная, что его слушает и им восхищается избранная публика, самые выдающиеся представители университетского сословия. Если кто-то приходил в возбуждение, Кьетан был живым воплощением сдержанности; если кто-то медлил с определениями, то Кьетан был сама революция, он представал перед моим взором милым и нежным, изысканным и мужественным, яростным и невозмутимым, спокойным и неистовым. А он продолжал бросать на меня взгляды и, обращаясь ко мне, теперь уже открыто улыбаясь самой восхитительной, самой обольстительной своей улыбкой, сказал:
– …а если я не прав, то пусть эта девушка, которая, несомненно, разбирается в таких вещах, скажет: разве Роже Мартен дю Гар, махровый реакционер, не написал «Семью Тибо», лучший роман о Первой мировой войне, по крайней мере, если мы рассмотрим его не с нашей частной литературоведческой точки зрения, что, впрочем, также может представлять интерес, а с революционных позиций, находящихся в нашей компетенции; так вот она…
И когда, готовая на все, я уже собиралась вмешаться, отважившись высказать противоположное мнение, хотя бы только для того, чтобы окончательно привлечь к себе его внимание, Кьетан и рта мне не дал открыть:
– …потому что то, что она собирается сказать, это…
И вновь говорил он.
Он поступал таким образом по крайней мере еще полдюжины раз, так, по крайней мере, мне показалось: «Памфлет – это совершенно не исследованный литературный жанр, и эта девушка…», и так до изнеможения. Когда он счел, что я уже достаточно очарована, то пододвинул свой стул к моему и обратился прямо ко мне:
– Как тебя зовут? Я тебя здесь раньше не видел.
– Все, что ты говорил, очень интересно.
Он удовлетворенно улыбнулся.
Очень скоро я уже пригласила его к себе на ужин. Он, не колеблясь, принял приглашение, бросив взгляд на своих товарищей, желая удостовериться в эффекте, который произвело мое предложение, мое первое предложение, и поскольку увидел, что никто ничего не заметил, продолжал разговор, не вставая из-за стола. Было такое впечатление, что Кьетан чем-то напоминает лягушку, которая, сидя на листе кувшинки, сама не понимая почему, вдруг первая прыгает и нарушает однообразие водоема, покой, тишину: она врезается в воду великолепным, четким прыжком, и брызги оповещают остальных лягушек о свершенном подвиге, а лягушка-фокусница тут же возникает из глубины вод как раз в том же месте, где она погрузилась, в самом центре расходящихся по воде кругов; она появляется на поверхности именно там, и новые, более мелкие круги, не совпадающие по времени с первыми, являются результатом абсолютной точности возвращения из глубины. Так и Кьетансиньо, как та лягушка, через несколько минут решительно встал и в виде прощания с другими лягушками бросил:








