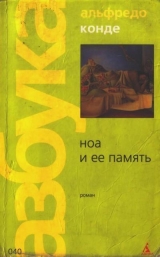
Текст книги "Ноа и ее память"
Автор книги: Альфредо Конде
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Я позавтракала, сидя за тем же столиком и ведя неспешную беседу с Кьетаном. Закончив, торжественно объявила, что мне доставит удовольствие считать его приглашенным, и заплатила по счету.
– Теперь я тебе должен ужин и завтрак, – сказал он.
– Если ты считаешь, что ты мне должен, значит, должен, – ответила я.
Мы договорились встретиться после обеда в том же месте и в то же время, что накануне. Он пригласит меня на ужин.
Когда после обеда я пришла в «Тамбре», там стоял обычный гул, и были все те же люди. Во всеобщей суматохе я разглядела поднятую руку одного из официантов, который показывал мне белую бумажку. Я подошла, и он протянул мне записку. Это было лаконичное послание от Кьетана:
«Извини, мне пришлось срочно уйти. Я тебя найду. Целую. Кьет».
Мне бросились в глаза две вещи. Первое – это «Кьет»: обычно для такого имени, как у него, используется уменьшительное «Чиньо», а он написал «Кьет», которое я почему-то произнесла на английский манер, и у меня получилось нечто вроде «Куайт», что звучало и вовсе не по-христиански, а, кроме того, вызывало у меня ощущение чего-то мягкого, безвольного вместо ожидаемого спокойного, тихого, мирного{21}. Второе – это «целую» – несомненное проявление дерзости, которое я не могла принять, ибо оно подразумевало ситуации гораздо более интимные или, по меньшей мере, гораздо более близкие к интимности, чем это предполагала данная бумажка.
Что касается «я тебя найду», то в моем подсознании уже был готов ответ: «Да уж, найдешь», – который я сама толком не могла объяснить. В общем я перечитала записку десяток раз, пока наконец не положила ее на стол, за который села, вновь бессознательно пробегая глазами ее мелкие строчки. Как минимум, записка давала понять, что была не чем иным, как соответствующим ответом на мое поведение накануне, и, когда я окончательно убедилась, что только в этом и состоял смысл бумажки, К. показался мне пустым и лишенным сколько-нибудь серьезных оснований для того, чтобы я в нем задержалась еще хоть на одну минуту. И в порыве, прямую ответственность за который несет мой характер, я села в машину и направилась в В., где родилась и где покоится теперь моя мать.
Я приехала в В., когда совсем стемнело, и решила отправиться переночевать в дом Педро. Мне хотелось поговорить, погрузиться в приятную неторопливую беседу, не касаясь чуждых мне конфликтов, без полемических столкновений; просто говорить, слушать и, возможно, не соглашаться. Но при этом уметь ждать, отнюдь этим не тяготясь, пока собеседник закончит, и лишь тогда выразить свое мнение, как водится у уважающих друг друга людей. Не исключено, что твои собственные доводы растают за время этого ожидания, но это не так уж важно: их значительность, вытекающая единственно из тягостности самого ожидания, покажется тогда намного менее существенной. Итак, я хотела поговорить, просто поговорить с кем-нибудь, не испытывая при этом необходимости доказывать свою правоту. Я знала, что одним из тех, с кем я могла поговорить таким образом, был Педро, вторым – мой отец, несомненно, есть и другие; той ночью я постучала в дверь Педро, но Педро дома не оказалось. Я могла бы открыть дверь ключом, оставшимся у меня с прошлого раза, когда произошло нечто подобное, но подумала, что мне это вовсе ни к чему, раз его самого нет; лучше пойду переночевать в бывший дом моих бабушки и дедушки, он теперь частично принадлежал моей тете Доринде, а частично мне, хотя никто из нас не занимался дележом имущества и разделом самого дома, который мы по молчаливому согласию решили оставить таким, как он есть, каким был всегда. Я пойду туда и спокойно обо всем подумаю, вспоминая о матери; я была уверена, что тети дома нет.
По дороге к дому бабушки и дедушки, когда я уже оставила машину на стоянке на площади у церкви, один из соседей сказал мне, что Педро сидит в баре неподалеку, и я направилась туда.
В то время Педро был уже таким, какой он сейчас: пожилой, совсем пожилой мужчина, сохранивший ровно столько молодого задора, сколько необходимо, чтобы не казаться смешным; такой своеобразный тип ловеласа, который при этом одевается и ведет себя совсем не как стареющий ловелас и который вовсе не обладает этическими и эстетическими признаками стареющего ловеласа, возможно, потому, что умеет хорошо скрывать их под окутывающей его богемной аурой, под бесстрастностью маски, под небрежностью всего своего вида. И тем не менее это стареющий ловелас. У него еще блестят глаза, и он еще может заставить блестеть другие глаза, и я чувствую, что мною восхищаются и мне завидуют, когда я прохожу с ним под руку, люди оборачиваются, чтобы посмотреть: этот пройдоха идет под руку с такой молоденькой девушкой! Думаю, ситуацию мы оба ощущали одинаково, и не раз вместе подшучивали над каким-нибудь узколобым, которых повсюду хоть пруд пруди, хотя, возможно, на самом деле не следовало придавать подобным взглядам слишком большого значения.
Педро был там, за стойкой бара; он полусидел на высоком табурете в окружении людей, обсуждавших с ним какую-то новую тенденцию в живописи; помнится, речь шла о кинетическом искусстве, которое он, не знаю почему, смешивал с психодислептическим искусством, интересный образец коего он недавно видел в одном из подвалов Музея современного искусства в Нью-Йорке, как раз под тем местом, где находится «Герника», – это на случай, если кто-то захочет сделать вывод или прийти к заключению о том, что под разрушением скрывался хаос. Я улыбнулась, услышав его последнюю тираду, и подошла поцеловать его.
– Вот уж эта-то девушка знает, что к чему, уж она-то может с вами об этом поговорить.
И тут же подключил меня к разговору. Мы вышли из бара совсем поздно, и всем хотелось продолжить беседу. Приняв во внимание, что никто из нас еще не ужинал, мы решили пойти в дом Педро и поджарить омлет или сделать бутерброды, дабы смягчить действие алкоголя, который приняли в течение последних двух часов.
Я хотела рассказать Педро о своей жизни, а закончилось все разговорами о поп-арте, об оп-арте и еще о каких-то вещах, в том числе о третьей мировой войне, и все это отдаляло меня от самой себя, отчуждало меня от моих собственных проблем, которые постепенно стали казаться мне ничтожными и недостойными внимания. В шесть часов утра мы все еще сидели в мастерской Педро, рассуждая теперь о музыке и о ее роли в революционном мире и пичкая успокоительными таблетками собаку одного из присутствующих, чтобы она уснула и перестала выть и портить нам вечеринку. Когда собака заснула, народ стал расходиться по домам, и в мастерской остались, кроме нас с Педро, хозяин собаки и его приятельница, которые решили провести ночь в одной из многочисленных заброшенных комнат дома. Вскоре возникла тема об участии в подпольной политической деятельности как физической или моральной компенсации сексуальных неудач, и воспользовавшись этим, а также ввиду позднего времени, я прямо там и прилегла и притворилась спящей, пока наконец меня не прикрыли одеялом, а потом вышли на цыпочках, дав мне возможность спокойно поспать. Уже наступало утро.
Я проснулась с дурным привкусом во рту и с мыслью о том, что многие собаки тоже пребывают в плену собственных неудач. Причиной этому, возможно, было то, что в мастерской все еще пахло псиной, а, может быть, все дело было в какой-нибудь фразе, брошенной хозяином пса, худым андалузцем, похожим на семинариста, которого я, когда он говорил быстро, была совершенно не в состоянии понимать. Я прошлась по дому, обновляя воспоминания, которые хранила о нем: слоновья нога сменила свое место и теперь стояла на комоде, служа подставкой для фигурки полноватого улыбающегося сводника святого Антония; у него ярко блестела лысина. Я нигде не обнаружила внушающую ужас головку индейца хибаро и посоветовала себе не запамятовать и непременно спросить о ней своего дядю, как только он встанет. Я вышла в сад, немного прошлась по нему и отправилась завтракать в бар, в котором, как я предполагала, обычно завтракает мой дядя, то есть в ближайший бар на углу, где оставила Педро записку, что пойду прогуляться по городку и что скоро вернусь.
Стояло солнечное воскресное утро; жара еще не наступила, и на улице народу было немного. Я не спеша подошла к кладбищу, где покоится моя мать, и решила войти. В городке было, да и сейчас есть, два кладбища: верхнее и нижнее. У каждого свои ворота, и разделены они дорогой. Верхнее кладбище расположено под огромной, возвышающейся над ним скалой, которую местные жители называют «парусом» – простенький морской термин, навевающий мысли об океанских просторах; некогда эта скала служила основанием для зубчатой башни замка. На верхнем кладбище многие ниши выбиты прямо в скале, и туда можно проникнуть через отверстие ровно таких размеров, которые необходимы, чтобы внести гроб. Внизу скала как будто раскрывает руки, и кажется, что она обнимает кусочек земли, на спускающихся ступенями террасах которой находятся могилы тех, у кого не было достаточно денег, чтобы купить нишу в скале, или кто при жизни принадлежал семье, недавно обосновавшейся в В. На нижнем кладбище стоит церковь, и вокруг нее тоже расположены могилы. Церковь не очень большая, и капитель одной из колонн ее апсиды напоминает сеть, как бы наброшенную на нее сверху. Как раз рядом с этой колонной в церковной стене и находится могила моей матери. К ней я и направилась, проходя мимо надгробий, разглядывая знакомые имена и фамилии на могилах кладбища, где нет громких эпитафий и где, пожалуй, самой обычной фразой могла бы быть «твои дети помнят о тебе»; но я готова поклясться, что и таковой нет: имена и фамилии представляют собой практически единственные свидетельства о тех, кто там покоится. Педро утверждает, что отсутствие эпитафий объясняется чрезмерным увлечением одного из двоюродных братьев его отца ночными походами на кладбище, во время которых он писал на каменных плитах стихотворные эпитафии с ассонансными или диссонансными рифмами (ему было все равно), чаще всего в сатирическом тоне, отнюдь не хвалебные, но все очень высокого художественного уровня. Некоторые из них просуществовали до тридцать шестого года, а некоторые, вырезанные ножом на дверях церкви, можно разглядеть и сейчас. Дядюшка Педро, который и мне приходится дальним родственником, тоже не пережил тридцать шестого года, и на его могиле тоже нет никакой надгробной надписи; все то утро я искала его могилу, как безумная, и уверена, что, найди я ее, я бы сочинила какую-нибудь длинную эпитафию на испанском языке, чтобы начертать ее на голой каменной плите, которая несомненно лежит на ней. Внутри церкви надгробия тоже без эпитафий, но на некоторых начертаны цифры и странные символы – под ними покоятся родственники прославленного клирика восемнадцатого века; Педро регулярно ссылается на них, когда ведет речь о поэтических увлечениях своего дяди. Обычно он говорит, что именно от своего дяди унаследовал страсть к художественному творчеству, а тот, в свою очередь, унаследовал увлечение поэзией от этого досточтимого семейства, оставившего столько славных страниц в нашей истории.
Я немного поразмышляла обо всем этом, а затем пошла вдоль реки, по тихой ольховой аллее. Когда я пришла в бар, Педро уже сидел там. Дядя обладал удивительной способностью восстанавливать свои силы; я даже иногда начинала думать, что секрет состоит в том, что я исхожу из неверной предпосылки, будто ему нужно приходить в себя, в то время как в действительности ему не только не надо приходить в себя от чего бы то ни было, а это попросту его нормальное состояние.
– Я искала эпитафии твоего дяди, – сказала я ему вместо приветствия.
– Это называется хандрой, – ответил он мне, продолжая обмакивать в кофе чурро.
Я присела рядом с ним и взяла один из чурро с его тарелки.
– Горячие.
– Да.
Я поняла, что он ничего больше не скажет, пока я не приступлю к разговору, который привел меня сюда. Я слишком хорошо его знала, чтобы соответствующим образом истолковать его молчание, и решила изобразить легкое замешательство: я замолчала и взяла другой чурро, затем принялась читать лежавшую на столе газету. Потом взяла еще один чурро.
– Тебе нравятся чурро, – с некоторым нетерпением сказал Педро.
– Они вкусные.
– И горяченькие.
– Да, и горяченькие.
– Ну так, давай еще…
Он попросил еще порцию и начал вместе со мной просматривать газету. Когда принесли новую порцию чурро, он взял два из них и сунул один в чашку с кофе, чтобы он как следует пропитался, а другой стал откусывать с той стороны, что была мокрой. Потом сказал с набитым ртом:
– Он не умер, правда?{22}
– Нет.
– Он здоров?
– Да.
Меня этот разговор начал уже немного нервировать, и я вынуждена была признать, что он выиграл у меня одно очко: ведь это меня разрывало от желания с ним поговорить, это я приехала сюда, чтобы поговорить с ним. Он тоже, вне всякого сомнения, хорошо меня знал. Я довольно резко отодвинула газету, сложила ее, положила на сиденье стоявшего рядом стула и сказала:
– Пошли.
Он большими глотками допил кофе с молоком, пожалел о том, что пропадает вторая порция чурро, взял два из них, чтобы съесть на ходу, расплачиваясь у стойки. Получив сдачу, вернулся к столу, взял газету и сказал:
– Она моя.
И мы вышли на залитую солнцем улицу.
– Есть один молодой человек… – сказала я, чтобы как-то начать разговор. Он слушал молча, пока мы шли к дому и потом, только один раз, когда мы уже сидели в саду, прервал меня, указав на одного из своих сиамских котов, который чесал за ухом:
– Будет дождь.
И тут же вновь погрузился в сдержанное молчание. Я говорила ему о Кьетане, о той ночи, что он провел в моем доме, о том, что я ему сделала, о том, что он сделал мне. Когда дядя понял, что мне больше нечего сказать, заговорил он; но сказал немного:
– Ну, ты уже отдохнула, теперь давай выпьем вина.
Он спустился в погреб за парой бутылок, зашел на кухню, взял несколько банок консервов и накрыл в своем ностальгическом саду небольшой стол. Его замечания свелись к: «Там видно будет, делай, что подсказывает тебе сердце». День был великолепным, и действительно не стоило обсуждать с дядей две встречи с мужчиной, как бы хорошо тот ни умел говорить, и мы занялись вином и консервами.
Когда после обеда я покинула В. и направилась в К., то была спокойна и умиротворена, я уже не испытывала мучительной тревоги, терзавшей меня весь предыдущий день. Всю дорогу в К. лил дождь, как будто оправдывая предсказание кота, и вода лилась с силой и упорством, достойными лучшего применения. Приехав домой, я оставила машину под порталом, поднялась к себе и занялась подготовкой к занятиям на понедельник.
В течение многих недель, последовавших за поездкой к Педро, я проводила выходные в П., где мне нужно было проветрить дом и поговорить с прислугой, или ездила к отцу, а также в некоторые ранее незнакомые мне места: в древнее кельтское поселение в Баронье, тогда еще не такое разрушенное; сейчас оно совсем пришло в – упадок, и виной тому халатность одних и отсутствие культуры у других, да еще колеса автомашин во время так называемого мотокросса; в крепость в Бритейрос, расположенную на другом берегу Миньо, в той части Португалии, что когда-то была, да во многом и сейчас остается Галисией, и еще в несколько кельтских укреплений, которые наряду с монастырями (Осейра, Санта Кристина и Сан-Эстебан-де-Рибас-де-Силь, Селанова…) вызывали у меня интерес в тот период, когда я снова занялась поиском своих корней, теперь уже не только личных, но и национальных.
Во время одной из своих поездок к отцу я узнала от него о политическом положении его брата и о многочисленных возможностях его беспрепятственного краткого приезда в нашу страну; вскоре после этого разговора я получила письмо от одного из своих двоюродных братьев, тот написал о волнении, с которым его отец говорил обо мне, о радости, которую они испытали, узнав о моем существовании, и о том, что скоро он сам надеется обнять меня еще крепче, чем его отец. Это было прелестное письмо, которое я до сих пор храню, хотя и не помню где. Все эти хлопоты и эмоции постепенно стерли из моей памяти образ Кьетансиньо, и он почти полностью утратил силу, позволившую ему ранее завладеть моим воображением, несмотря на сложность моего положения в К., где все студенческие годы я старалась отмежеваться от других студентов, лишь изредка деля с кем-нибудь из них мое уединение. Эта окружавшая меня таинственная аура притягивала ко мне многих людей, их привлекали, не знаю уж, то ли мой дом, то ли я сама, или же окружавшая меня тайна, которую глупо было бы отрицать. Всегда находился кто-то, кто приходил попросить у меня конспект или вернуть мне его, кто-то, кому нечего было делать и кто заходил ко мне послушать музыку и выпить кофе. Я принимала всех, но никогда ни перед кем не раскрывалась; я знала, что это самый эффективный способ поддерживать живым огонек если не дружбы, ее не может быть там, где нет откровенности, то, по крайней мере, привычки часто и запросто заходить в дом с порталом, под сводами которого стояла машина. С некоторыми из моих гостей в течение не очень длительного времени я проводила иногда ночи, делила близость, однако все это завершалось вместе с завтраком и могло быть продолжено лишь после ужина; дни принадлежали только мне, и никто не мог даже близко подойти, чтобы разделить их со мной.
Теперь все было по-другому. Почти все мои однокурсники уехали, и в К. остались лишь те, кто жил там постоянно, да еще двое, которые, как и я, писали диссертации; они порхали с отделения на отделение, время от времени проводя одно-другое занятие в ожидании лучших времен или кадровых изменений, в результате которых их присутствие на факультете станет необходимым. В этом состояла привилегия постоянно проживающих в К. или же людей со средствами, обладавших, как я, деньгами, ибо мы могли продолжать учебу, в то время как большинство из наших однокурсников вынуждены были идти путем неудач, разочарований: иначе и не могло быть, если принять во внимание обстановку в государственных школах и в частных колледжах, однообразие тысячи раз повторяемых уроков, мелкую и ничтожную образовательную политику государственных образовательных учреждений, не менее мелкую и не менее ничтожную принудиловку частных учебных заведений. Этот путь они начинали в большинстве своем неосознанно: скорая свадьба и радость, что можно сыграть ее, уже имея место работы; выход из нужды благодаря постоянному заработку; значение, которое в то время еще придавалось возможности преподавать в средней школе; тысячи и тысячи маленьких ловушек, куда жизнь заманивает большинство из нас и куда мы так или иначе все в конце концов попадаем.
Теперь мое положение было иным. Мне не хватало общества друзей и я начинала чувствовать себя старой и одинокой; стала заходить в кафе, которые раньше обходила стороной, надеялась встретить там тех, кто увидел бы во мне преподавательницу, пусть молодую и начинающую, а также посмотреть, видят ли все еще молодые люди во мне девушку, каковой я уже переставала быть. Мой дом стал давить на меня, и я еще несколько раз заходила в «Тамбре», пока суета в конце учебного года, ожидание приезда дяди и два-три визита моих хороших друзей не отвлекли меня окончательно на несколько месяцев от этого негодника Кьетансиньо, который так хорошо умел говорить.
Учебный год наконец закончился, и я решила оставить дом в полном распоряжении моего дяди, он намеревался прибыть дней через пятнадцать – двадцать – срок зависел от расписания самолетов и от приезда его сына, который собирался остановиться либо в моем доме в П., либо, скорее всего, в епископском дворце в О. Я предпочитала удалиться, чтобы дядя мог спокойно пользоваться тем, что принадлежало ему по праву, и не навязывать ему присутствия чужого все-таки человека, пусть даже и племянницы, а кроме того, я следовала указаниям своего отца, который об этом меня попросил. Я решила ждать приезда своего двоюродного брата в П.
Кузен оказался высоким светловолосым юношей с коротко остриженными, как у новобранцев, волосами; он носил ужасные пиджаки в крупную, вызывающую клетку и рубашки с воротом в виде каких-то завязок, сжимавших ему шею, но был здоровым, добрым парнем, с которым я быстро подружилась. С ним мы повторили мои недавние поездки в кельтские крепости и в монастыри: было настоящим наслаждением наблюдать, как он восхищенно разглядывает петроглифы, пытаясь подсчитать, сколько лет назад они были выполнены, и размышляя над тем, что на этом самом месте когда-то сидел другой человек, любуясь закатом того же солнца, которое он созерцает теперь, того же самого солнца для них обоих. Его любопытство было неутолимым. Он знал П. лучше, чем я, он узнавал места и давал им правильные названия, замечал произошедшие в них изменения и любил их всей той любовью, какую мой дядя сумел ему внушить, а это было немало. Он сошелся также и с Педро, который, казалось, был призван стать тем горнилом, в коем сплавлялась воедино вся моя семья. И я провела двадцать с лишним дней, на которые задержался приезд дяди, в состоянии совершенного счастья, далекая от всего, что не касалось моего кузена, наших путешествий и того любопытства, что он пробуждал во мне. Его далекий мир, невиданные земли, тамошний университет, тысячи вещей, которые вызывали в моем воображении еще новые тысячи и которые он мне объяснял со своими характерными «эр», неуловимыми и ускользающими, словно угорь.
Дядя приехал с остальным семейством спустя почти месяц, и мы все трое – мой отец, кузен и я – отправились встречать его в Мадрид.
Моя тетя оказалась приветливой и простой женщиной, мой другой кузен, немного старше меня, – хорошим парнем, а кузина – совсем молоденькой, почти девочкой, моложе меня на два или три года. Вместе с тетушкой Дориндой, которая к тому времени в соответствии с одной из наших договоренностей, по поводу которых у нас никогда не было проблем, окончательно переехала в Мадрид, в дом номер одиннадцать по улице Генерала П., они составляли круг моих ближайших родственников, хотя обе мои фамилии были те же, что у тети Доринды. Впрочем, о последнем обстоятельстве не упомянул никто, кроме кузины, которая спросила меня об этом со всем своим глупым, дерзким и наигранным простодушием; при этом остальные члены семейства напряженно молчали. Я ответила ей, не придав ни вопросу, ни ответу особого значения, и через некоторое время, после того, как мой дядя поговорил с ней, она подошла извиниться и, плача, обняла меня. Я ей не поверила; но пока она рыдала и обнимала меня, я гладила ее прекрасные волосы.
Дни, последовавшие за возвращением дяди (вернулся только он, остальные просто приехали впервые), были днями непрерывных размышлений: он заставлял нас постоянно и невольно заниматься возвращением в прошлое, подчеркивая контраст между тем миром, который он когда-то покинул, и тем, который принимал его теперь. Однажды, когда мы были в нашем доме в П., в один из многочисленных приездов его семейства, думаю, что в первый, мы отправились осмотреть угодья, принадлежавшие семье, и остановились у домишек и сараев, сохранившихся в том виде, в каком мой дядя когда-то мог их видеть. Оказавшись в ситуации, когда он вдруг узнал то, что когда-то покинул, он увидел всю эту действительность настолько близко, что испытал потрясение от того, что подобное было не только возможным, но и реальным. Он как бы производил ревизию прошлого, останавливаясь на самых мелких деталях, составляющих само бытие – не только камень и воду, но и огонь: однажды увидав угольную лампу, одну из тех, которые я еще хорошо помню (как я боялась, что она взорвется!), забытую где-то в углу, он заставил нас назвать все осветительные устройства, какие мы только могли вспомнить. И мы углублялись в прошлое: после масляных лампад пришла очередь керосиновым, в которых смоченная в керосине тряпочка, когда она горела, называлась фитильком, затем мы вспомнили свечи, а потом наступило молчание. И тогда он взял слово и рассказал нам о березовых, ольховых, ивовых и вязовых факелах, которые он еще помнил. Мы провели целый день в поисках коры разных деревьев, чтобы понять, какая же подходила для факелов. Он говорил: она должна быть такой, чтобы, отделившись от ствола, тут же сворачивалась в трубочку.
Мои кузены знают теперь названия всех наших деревьев на нашем языке. В тот день они выучили названия, научились различать листья, цвет стволов, внутренние кольца и узнали, что не так много лет тому назад их отец входил в конюшню или бродил по просекам и тропам, освещая себе путь с помощью факела, сооруженного из сухой коры дерева, которая, будучи оторванной от ствола, сворачивалась в трубочку, чтобы потом породить свет в густой тьме дорог. Мой старший брат стал смотреть на своего отца несколько странным взглядом, в котором было и восхищение, и уважение, и некоторая отстраненность, и этнология, и социокультурная антропология и страх, все вместе. Что же это за страна? Куда он приехал? Как это может быть, чтобы известный ученый, пользующийся признанием в интеллектуальных университетских кругах, освещал себе путь с помощью факела? В глазах моего кузена читался страх. Как наиболее восприимчивый из братьев, он и окружающий пейзаж стал теперь видеть другими глазами и начинал уже любить эту маленькую зеленую, возможно, немного грустную страну с ее выстроенными всем миром домами, с ее собранным всем миром урожаем, с принадлежащими всем горами, с прекраснейшими свободолюбивыми дикими жеребцами в окружении кобыл и быстрых, как ветер, жеребят, с ее языческими ритуалами и древними народными обычаями, зарослями крапивы и тисовыми рощами, гайтами и рассветами. Мой брат наслаждался в этом раю, который он чуть было не потерял. Его взгляд эколога, взращенного на жевательной резинке и кока-коле, впитывал все то, что он собирался отобразить, вызволив из небытия, на страницах тех книг, которые он в конце концов напишет и которые принесут ему славу в его далеком федеративном государстве. Меня же его неподдельное изумление заставило вглядываться в себя самое таким пронзительным взглядом, что я даже испугалась. Некоторые вещи приобрели тогда для меня некий теллурический смысл, коим они ранее не обладали, а путешествие в прошлое, предложенное и осуществленное дядей, послужило поводом для пространных рассуждений, которым предавался мой отец и которые завершились беседами со мной в грустном уединении сада: прогресс последних лет – автомобили, телевизоры, ванные комнаты, стойловое содержание скота – явился результатом выкорчевывания прежних времен или, напротив, укоренения времен, пришедших вместе с эмиграцией, вместе с распространившейся повсюду нищетой. Так что же происходило в прекрасной маленькой и, возможно, грустной стране общей площадью тридцать тысяч квадратных километров? Новая эстетика, процветающая повсюду неорганичная архитектура вертикальных, фаллических, агрессивных форм не были свойственны стране камня, воды, огня и ветра, стране божеств и туманов, ночных призраков, ведьм и кулачных боев на сходках перед помолом зерна, или во время молотьбы, или когда собирались очищать кукурузу. Мой дядя искал свои собственные ответы в наших недоуменных вопросах, в наших безумных концепциях, в нашем отважном и дерзком невежестве. Мой отец, уединившись в углу комнаты, улыбался, храня тайну магии, породившей все это, создавшей как конечный результат, так и его составляющие. А моя тетушка превратилась в те месяцы в прижатый к фотообъективу глаз, в молчаливого и добросовестного наблюдателя; она как в рот воды набрала: она снимала кинокамерой и фотоаппаратом, молча глядя на деревни без электрического света, на плуги, которые называют римскими, но на самом деле они еще более древние, на людей, проходящих перед изображением Святой Девы, на вокзал в О., выплевывающий в город людей. Младшие дети дяди не в счет, они ничего не понимали, да и понимать не хотели: маленькая зеленая страна их отца была very beautiful{23}, и все тут. А я в своей агонизирующей одержимости все время оборачивалась назад и видела игривого котенка своего детства, бродящего среди кукурузы, и вновь, как тогда, удивлялась, узнав от отца: оказывается, у кукурузы есть женские и мужские цветы – и он показал мне, как выглядят те и другие; тогда котенок, кукуруза, реальность света и мое удивление были другими, и моя память заставляла меня переживать все заново.
Если память моего кузена была хорошей, то это потому, что ее создала память его отца, как породила она и те миры, что постепенно возникали перед нашими глазами, и те рассуждения, что из них проистекали, в том числе и о политике, которая вовсе не интересует мою память и от которой она абстрагируется, хотя и не совсем, ибо следствием именно политических рассуждений оказались обстоятельства, несомненно в ней сохранившиеся: ведь благодаря этим обстоятельствам я вновь увидела Кьетансиньо.
Я собиралась отвезти моих кузенов в К., где они сейчас жили в своем доме, то есть в доме, который прежде занимала я и в котором я вновь собиралась жить в ближайшем будущем. Мы возвращались с побережья, с длинного, вытянутого вдоль моря побережья под названием Лансада, где сухая или плохо обработанная земля просит оплодотворения у моря или плуга, чтобы он вспахал ее и подарил ей плод, о котором она мечтает и которого не может дождаться{24}. И выходит из моря Афродита, и улыбается Венера, и, как говорил мой отец, улыбается даже Лансадская Богоматерь, которая при таком имени должна быть не только отважной, но и полной снисхождения к человеческим бедам и нуждам{25}. Мои кузены, далекие от нашего коллективного, пантеистического мироощущения, все еще пребывали в полном изумлении от увиденного, когда мы подъехали к «Тамбре», этой трапезной долгих застолий, выставке докучливых желаний, утомительных разговоров и книжного отношения к жизни, и там, беседуя с моим дядей, сидел он, Кьетан. Мы подошли, и они встали, уступая нам место; мой дядя представил меня Кьетану:
– Близкий друг нашей семьи и наша удивительная гостеприимная хозяйка, а также наш гид…
– Мы уже знакомы, – перебила я его. – Что скажешь, Кьетан?
Кьетан никак не рассчитывал на возможность встречи, он казался испуганным и удивленным. Он успокоился, лишь когда ему представили моих кузенов, и дядя попытался сгладить напряжение:
– Это мои дети. Кьетан – мой единомышленник, и мы готовим нечто, что в будущем сможет изменить нашу страну, сможет превратить ее в совершенно иную, какой она сейчас не является, но должна быть. Ей ты тоже вполне можешь доверять.








