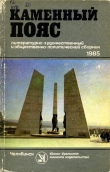Текст книги "Каменный пояс, 1983"
Автор книги: Алескандер Зайцев
Соавторы: Александр Терентьев,Владимир Огнев,Тихон Тюричев,Владимир Пшеничников,Валерий Кузнецов,Николай Терешко,Михаил Львов,Антонина Юдина,Николай Егоров,Иван Бражников
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
ЧТЗ – 50 ЛЕТ
ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ
…Вспоминаю с благодарностью нашу литкружковскую юность.
Тридцатые годы…
Нам была выделена в клубе ЧТЗ отдельная комната! Постоянная! Мы там засиживались допоздна, обсуждая стихи свои и классиков, и старших поэтов, новые публикации в центральных газетах и журналах. Из клуба – в степь, там еще продолжали, гуляя, читать стихи, спорить, думать.
Сколько доброго, трогательного связывало нас!
…Мы писали и о времени, и о стройке, и друг о друге. Мы учились жить, дружить, любить и по классическим образцам (как лицеисты), и по жизни товарищей.
…Василий Вохменцев приехал из деревни. Работал кузнецом. У него было крепкое, могучее телосложение. Богатый, густой народный язык. И – нежный лиризм.
Он был призван в армию, послан в школу командиров, перед войной стал офицером.
Василий Вохменцев геройски погиб в бою. Погиб в бою под Ленинградом и Константин Реут – еще один талантливый поэт с ЧТЗ.
И другие члены нашей группы внесли свои жизни, свой труд, свой огонь в общий огонь жизни страны, в общее пламя его, в его вдохновение.
И для них – Сергея Черепанова и Якова Вохменцева, Василия и Павла Кузнецовых, для Тихона Тюричева – ЧТЗ, литкружок были стартовой площадкой жизни. И, думаю, ни одна судьба не пропала, каждая вошла составной частью в общую жизнь народа.
…Я лично (и, наверное, не только я) считаю, что ЧТЗ – мое счастье! Так счастливо случилось, что здесь я «начинался», «начался», при ЧТЗ мы росли, учились, защищенные им, гарантированные его мощью, его настоящим и будущим.
…Страны далекие года!
Высокий гребень вдохновенья!
Еще не знали мы тогда
Названий «литобъединенья»…
Мы скромно звались «литкружок»…
И литкружки по всей России
Трубили в скромный свой рожок
И честных лириков растили.
Там – наши ясли и сады,
Там – наши вузы и лицеи!
Там – наши главные труды,
Там – наши главные идеи!
Теперь мы – боги, в славе – все.
Но пусть усвоит наш биограф:
Мы – с ЧТЗ! Мы – с ЧМЗ!
Заводы – главный наш автограф!..
Конвейер ЧТЗ никогда не останавливался. Ниточка лирики на ЧТЗ также никогда не прерывалась. Литературный цех тракторного работает без перерыва уже пятьдесят лет.
Написано, издано много книг, стихов, песен, поэм! От первых коллективных сборников «Северный ветер» (1933 год) и «Первые звенья» (1935 год) до сборника «Лицо души» (1980 год) и двухтомной «Летописи ЧТЗ» – все это один большой путь.
Впереди у завода – миллионный трактор! Впереди – и новые произведения!
Михаил Львов,лауреат литературной премии ЧТЗ
Семен Уланов
ШТУРМОВАЯ НОЧЬ
Стихотворение
Облака над строительством
плавают ватой,
опускаясь к туманам
притихшей реки.
А застывший на месте
стальной экскаватор
над неубранным грунтом
раздвинул клыки.
Освещенный луною,
безмолвствует «Деррик» [1]1
Подъемный кран фирмы «Деррик».
[Закрыть].
Котлованы опять
заполняла вода,
и в простоях,
в тиши
подползали потери,
выраставшие в сводки
больших недодач.
На постройке с утра
говорили рабочие,
непогоде в глаза
не пугаясь смотреть:
– Почему замирает
строительство ночью
и работой загружены
сутки на треть?
И когда опустился
в большом развороте
распахнувшийся вечер,
дождями ретив,
на собранье решил
по две смены работать
после долгих бесед
цеховой коллектив.
Из бригады никто
на покой не отчалил,
разгильдяям и слова
не выложив в тон.
Бетоньерка, застыв
на минуту вначале,
барабаном гремела,
готовя бетон.
В переплеты конструкций
прожектор забросил
электрический свет,
раздробленный дождем,
и сырого бетона
застывшая россыпь
погружается в тачки
под крановый гром.
На ходу, непогоде
подставив лицо,
чтобы щеки сильнее
крыла закалом,
мы негромко поем:
«Сотня юных бойцов
на разведку в поля
п-о-ос-ка-акала».
Бетоньерка грохочет,
не зная укора,
от дождя
за ударной работой вспотев,
и лежит электричеством
залитый город
за линией четкой
железных путей.
И плывут облака
почерневшею ватой
на руках у глухих
наступающих гроз,
а на стройке скрежещет
клыком экскаватор
и рассыпался
дробью гудка
паровоз.
1932 г. [2]2
Опубликовано в первом коллективном сборнике литкружка ЧТЗ «Северный ветер». Уралогиз, 1933.
[Закрыть]
Василий Вохменцев
ПИСЬМО ДЕВУШКЕ
Стихотворение
Пишешь ты,
что стала трактористкой,
полюбила в первом блеске дня
по траве сырой и серебристой
выводить проворного «коня»…
Понимаю я твою тревогу,
понимаю грусть твоих очей,
да и сам как будто пьян немного,
даже песни кажутся звончей.
Но скажи, что можно сделать, если
я захвачен радостью другой?
Это – цех, он, как любовь и песня,
для меня безмерно дорогой!
Здесь я вырос
под любовным глазом
опытнейших, старых мастеров,
с жизнью цеха, как с тобою, связан
вереницей дней и вечеров.
И хочу, чтоб по всему Союзу,
принимая солнце и ветра,
сверстники мои в широких блузах
выводили в поле трактора…
Ну, а я пахучим ярким летом,
взявши отпуск на десяток дней,
к вам в село знакомое приеду,
к пахоте, озерам – и к тебе.
И в душистый вечер тополиный,
когда ветер трогает листву,
я тебя подругою любимой
нежно и серьезно назову.
1934 г.
Тихон Тюричев
СТИХИ
* * *ОГОНЬ
Под небом уральским
Я рос и мужал,
Здесь первый экзамен
На зрелость держал.
Сюда я приехал
Из дальней деревни
С крестьянской душою
И с именем древним.
Как будто на новой
Далекой планете
Стою, унесенный
Вперед на столетье.
Планета моя,
Ты зовешься Уралом.
Тебя узнаю я
По звону металла,
По темпам великих
Строительных дней,
По нраву крутому
Хороших людей,
Чей труд, сокрушающий
Скалы, каменья,
Открыл на земле
Этот край вдохновенья.
Не ощущая возраста, живу
Взахлеб, взахлест, не в сказке – наяву.
Живую жизнь приветствую и славлю
И по-уральски сталь в мартенах плавлю.
Есть что-то близкое и родственное мне
В спрессованном бушующем огне,
Чей отсвет, пробиваясь сквозь оконца,
Стирает луч полуденного солнца.
Сквозь затемненно-синие очки
В печах я вижу адское кипенье,
И в суженные пламенем зрачки
Врывается пожар сталеваренья.
Мы здесь, в цехах, подобно Прометеям,
Зажгли огонь не на день – на века!
Просоленные потом, не стареем
И держим вахту молодо пока.
Стоим – и нас захватывает тайна
Вступившего в реакции огня.
Я с ним навек сроднился не случайно:
Он – и в печах, и в сердце у меня.
Юрий Кашин
СТИХИ
* * *НА СВАДЬБЕ
Впервые на завод в шестнадцать
Пришел я к своему станку.
И страх засел во мне, признаться:
Смогу я или не смогу?
Металл звенит
и стружкой вьется,
Моторов шум застрял в ушах.
А мой наставник лишь смеется
И объясняет не спеша.
И говорит:
«Ну, что робеешь?
Нужна не робость, а напор!
Пооботрешься, огрубеешь».
…А я не грубый до сих пор.
А над деревней ночь плескалась,
она сгущалась все темней.
А мне на свадьбе не плясалось
и становилось все грустней.
И я с веселого подворья,
прикрыв калитку, в ночь шагнул.
И месяц, как знакомый дворник,
мне заговорщицки мигнул.
И ночь качала на ладонях
меня с деревней заодно,
и где-то близко ржали кони,
как в приключенческом кино.
И, надышавшись вволю ночью,
на свадьбу снова я вернусь.
Хвачу штрафной и что есть мочи
на пляску буйную рванусь.
И что с того, что не плясун я,
ведь эта пляска для души.
Коль сердце радостью плеснуло,
с гармонью в лад – айда, пляши!
Пляши…
Вот с грустью лишь управлюсь,
переборю ее сполна.
Иду, а ночь колышет травы
и звонко плачет тишина…
Александр Терентьев
СТИХИ
* * ** * *
Ты мне давно
роднее всех,
меня растивший
год от года
наш трудный цех,
горячий цех
на главной улице
завода.
Сквозь тьму
бесчисленных ночей —
здесь вечная заря.
Здесь восемь
огненных печей,
как восемь солнц,
горят.
Здесь каждый
встречен и омыт
дыханием печей!
И сталь —
такая же, как мы,
по прочности своей.
Общежития, общежития,
настежь – души и настежь – двери.
Я люблю вас, мои общежития,
вы, пожалуйста, мне поверьте.
Я люблю вас, ночные споры,
вашу строгость и вашу суть.
Я люблю вас, короткие сборы
в самый дальний и трудный путь.
И прощай, все уже обжитое
и дневальная тетя Настя!
Будут новые общежития,
двери – настежь, и души – настежь!
Общежития, общежития,
как похожи вы на причалы…
Я люблю вас, мои общежития, —
всем дорогам начало.
Вера Киселева
СТИХИ
* * ** * *
Звоном, скрежетом металла
оглушил при встрече очной
ЧТЗ – мое начало
биографии рабочей.
Я в токарный труд нелегкий
втягивалась постепенно,
и все меньше заготовок
оставляла после смены.
Я в себя смогла поверить,
а недели пролетали.
Я училась время мерить
по сработанным деталям.
* * *
Я помню вас, ночные смены,
Свою усталость на заре,
И солнце в душевой на стенах,
И розы в заводском дворе.
Работа спорилась
в потоке
Ритмическом
сама собой.
И можно думать о Востоке,
О Кубе, Пушкине и Блоке,
О розах возле проходной.
И часто
Тем счастливым летом
Я в заводскую шла газету,
Все на стихи переводя.
И, совершенные, как проза
У Бунина,
стояли розы
В классических слезах дождя.
ИЗ САЛИСЭ ГАРАЕВОЙ
Как было мне худо
впервые, всерьез.
Я шла, прижимаясь
к безмолвью берез.
И резала ноги босые,
как нож,
осока, осока —
болотная дрожь.
И я на осоке
в березовом рву
по-бабьи ревела,
уткнувшись в траву.
Но было такое
в свеченье стволов —
казалось, они понимают
без слов.
И, боль заглушая,
сквозь маревый зной
березы ветвями
текли надо мной.
(Перевод с татарского)
Кажусь себе зеленым стебельком
в проталине среди сырого снега.
Тянусь к теплу
подснежника цветком,
и счастье – все в движении побега.
Иль счастье – лист бумаги на столе
и вера в будущее сквозь обиды?
А может, след мой добрый на земле,
который мне не суждено увидеть.
Полоску алую на горизонте жду.
Неужто зависть к будущему гложет?
В его основу камень я кладу,
а остальное – дочь моя положит.
Евгений Горбатовский
СТИХИ
* * ** * *
Я знаю, где оно, начало!
Я начинаюсь от вокзалов,
От ливней,
по плечам текущих,
От веток,
по лицу секущих!
От той строки,
что в тишине
Звучит, слагается во мне!
И, перегрузки разрывая,
В работу ухожу, как в бой.
Я от работы начинаюсь.
От жажды
быть самим собой!
* * *
Шел завод,
обгоняя даты,
И, сверкая стальными латами,
Трудового фронта солдаты,
Из ворот выходили тракторы.
Уходили туда,
где трудно,
Становились силой России,
На тайгу напирали грудью,
Города поднимая красивые.
А листая пласты целинные,
Как страницы
земной истории,
Распахнули
под небом синим
Золотое пшеничное море…
Мой цех, наверно, слышит вся Россия!
Он может рассказать о слесарях,
Что очень редко говорят красиво —
За них дела красиво говорят.
Иду по цеху – дружно дышат печи,
Цвет пламени у друга на лице.
Я прихожу не только в цех кузнечный,
Я прихожу в литературный цех.
Наш день рабочий вечно перегружен,
Он в нас давно второй натурой стал.
И после смены
под прохладным душем
Мы остываем долго,
как металл.
Скажу иным: коль есть к заводу тяга,
Так пусть на нем
сойдется клином свет.
Ты станешь свой,
коль скажут: «Работяга!»
Или другое: «Это наш поэт».
Виктор Щеголев
СТИХИ
МАРТ ПРИШЕЛ* * *
Март пришел – из дома выгнал,
Быть серьезным не дает.
Теплый месяц спину выгнул,
Как довольный желтый кот.
Ты прошла и почему-то
Улыбнулась мне светло.
И тебе весенней смутой
Тоже сердце замело?
Знаю, дом сегодня лишний,
Не нужны цветные сны…
В лужах март дрожит чуть слышно,
Светлый замысел весны.
«Даешь первый трактор!» —
когда-то,
Сейчас трудновато постичь,
Далеких тридцатых ребята
Взметнули ликующий клич.
Пусть лозунг новорожденный,
Не мыслимый даже вчера, —
«Даешь, комсомол, миллионный!» —
Взметнется, как пламя костра.
«Даешь, комсомол, миллионный!» —
В нем отклик далекой поры.
Высокой мечтой окрыленные,
Ребята идут на прорыв.
О них еще в замыслах песни,
Но скоро взлетят над страной.
Я с ними работаю вместе,
Встречаюсь в одной проходной…
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
Владимир Пшеничников
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Повесть
В этот день Николаю сделали операцию. Врачи в межрайонной больнице определили у него прободение язвы и продержали на операционном столе почти пять часов. Еще дня три Николай провел в отдельной палате на разных подпитках, а потом его откатили в четырехместную.
Все произошло в общем-то быстро, так что он не успел подумать, хорошо или плохо все случившееся, а потом уж, понятно, стал думать, что хорошо. Теперь, коль отмучился, начинай жить сначала. Раз-другой его, правда, передернуло от мысли, что все могло кончиться иначе, но в новой палате он был не один, и страх отступил.
Палата просторная, с высоким потолком, плавно переходящим в стены. Под стать культурной палате и обхождению оказались и новые соседи.
У противоположной стены стояла койка сельского парня по имени Петя, а за изголовьем, ближе к окну, располагались койки Лаптева и Каверзнева, городских моложавых мужчин.
Насторожили Николая порядки в отношении родных и близких посетителей. Его Катерина на четвертый день приезжала к нему, но, не зная правил, угодила как раз в непропускной, неразрешенный час, а когда еще приедет, старушке из «приема передач» не сказала.
Первое время донимали другие неловкости, неминучие для тяжелобольного, и происходили они оттого, что ухаживала за Николаем молодая, молчаливая и резковатая в движениях девушка. Но вскоре, наверное, заметив сильное, до запирательства, смущение соседа, обихаживать Николая взялся «ходячий» Петя.
Постепенно Николай оживал. Хирург Левшов, оперировавший его, сразу сказал, что полежать придется не меньше месяца, да Николай и сам видел, что не меньше, и соответственно настраивался. Окрепнув, он стал разговаривать с Петей о разных делах, старательно при этом обходя семейные темы. Но сосед, видно, был проницательный и частенько говорил безо всякой причины:
– Ничего, раз не едут и не звонят, значит, все чередом у них идет – весна же, елки зеленые, столько делов!
Вскоре Николай уже сидел, свешивая с койки мосластые, давно не знавшие загара ноги. Выворачивая ступни как бы для лучшего их обозрения, он исподтишка поглядывал в сторону городских, дивясь их тумбочкам, на которых располагались сразу парикмахерская, продмаг и библиотека. Видно, умели болеть эти ребята.
В тот день они как раз по очереди прочитали какую-то статью в журнале и, не откладывая, принялись спорить. Речь у них зашла о семье, но не об одной какой-то, а так, вообще. Николаю это было малопонятно, он только старался определить, кто из спорщиков основательнее. Выходило – очкастый Лаптев. Хмурясь, он все склонял: «духовность, бездуховность», и Каверзнев, вторя ему, только слова вворачивал подлиннее: «интимно-физиологические», «психогигиенические»… Так и богдановские мужики умели: один просто матом кроет, а другой еще «распро…» и «перетуды…» прибавляет.
– Умничают целыми днями, а чем сами болеют, не поймешь, – поделился с Николаем своими впечатлениями Петя, когда спорщики куда-то перебазировались.
Прошел еще день-другой, и Николай встал на ноги. Правда, здоровее он себя не почувствовал, стояние, а потом и хождение по стеночке разоблачало его слабосильность, но это же и дух как-то укрепляло.
На обратном пути из процедурного они с Петей садились в кресла под пальмами и отдыхали, глядя через широкое окно на оперившийся больничный сад. В конце апреля долго продержалась непогода, случались дожди и в начале мая, а это само собой и их разговор о поздней посевной, о видах на урожай определяло.
– Свояк приезжал, – сказал как-то Петя. – Ничего, говорит, с посевной не получается. Погода, сам видишь, какая, а в совхозе бардак как нарочно, каких еще не было. Директор не на сев, а на культивацию нажимает. Такая, говорит, поздняя посевная раз в десять лет бывает, давайте с овсюгом бороться, зеленый пожар тушить. По третьему разу утюжат!
– Ну и что, – пожал плечами Николай, – правильно…
– А когда же пшеница будет расти, ты что!
– Ну и овсюг тоже – беда, – неохотно сказал Николай. – У нас, например, из-за него всходов не бывает видно… Петь, а сам ты кем работаешь?
– Радистом. На радиоузле. Мы там со свояком. А что?
– Да так, давно хотел спросить просто…
– Думаешь, не разбираюсь? Да я же вырос в селе! На комбайне лет десять работал.
Николай смутился.
– Да я ничего, – пробормотал. – Тут все от погоды зависит. Может, пойдут еще дожди, потом, в июне… Идут же обычно…
Затем Николай склонил разговор в другую сторону, и неловкость забылась. Тогда он рассказал про свою работу, спросил, дадут или не дадут ему после операции колесный трактор?
– Инвалидность тебе дадут, – вдруг осадил его, точно в отместку за что-то, Петя. – Третью группу – точно. А про трактор забудь и думать.
Это смутило Николая. Ну, трактор – ладно, а что вообще будет с ним после больницы? То нельзя, это нельзя… Главное, пока язва сидела, можно было, а вырезали – сразу нельзя.
– Ну, сразу-то – не сразу, – рассудил, подобрев как-то Петя. – Что нельзя, то нельзя и до операции было… Ну, да ты молодой еще, чего там – тридцать пять. Наломаешься, когда зарубцуется.
С того дня и началась маета. Николай силился заглянуть на неделю, на месяц вперед, и ничего не мог там разглядеть. Никогда не было у него такой особой нужды – жизнь планировать.
– Да перестань ты себя дергать, – посочувствовал ему Петя. – Будет ВТЭК, там все за тебя решат и, что надо делать, подскажут.
– Какой втык? – переспросил Николай.
– Экспертная комиссия, – подсказал Лаптев, который, уткнувшись в книжку, между прочим, все и всегда слышал.
– Ну и ладно, пусть решают, – сказал Николай потверже, сообразив, что стал уже чем-то надоедать соседям по палате.
Погода налаживалась, и он особенно нетерпеливо стал поджидать Катерину с новостями из Богдановки. К Пете уже в третий раз жена приезжала, в определенные часы спускаются в вестибюль городские, полчаса и больше просиживая там с женами или родственниками… Но однажды, уже перед самым «тихим часом», кликнули и Николая.
С третьего этажа он спустился как только мог быстро и, запыхавшись, наткнулся в вестибюле на расставившего руки Пашку Микешина.
– Ну, живой? – радостно зашумел гость.
– Живой! – подтвердил Николай, держась за грудь.
А посидеть, поговорить подробнее им не удалось. Неумолимая бабуся из «приема передач» выперла посетителей на крыльцо и заложила дверь прочным засовом. Николай попробовал уговорить ее, но ничего не получилось, и он поплелся в палату. От Пашкиных «все нормально – все путем» в голове осталась какая-то обескураживающая пустота, а на руках – летний хлопчатобумажный костюм и десять рублей денег, присланные Катериной. «Витька переболел корью», – велела она передать на словах, и это должно было все объяснить.
Время, показалось Николаю, совсем остановилось. Никого из них не выписывали, распорядка не меняли, и надоело в конце концов все: и лежание, и процедуры, и специальная еда, и вечерняя толчея в комнате с телевизором, и разговоры соседей, переключившихся на международные темы.
– Что они по стольку держат? – возмутился Николай пришибленно.
– Это же не участковая больница, – усмехался начинавший терять свою тихость Петя, – межрайонная! Чем-то надо звание оправдывать? Вот и держат… Как будто от одного этого люди здоровей становятся. Мы-то ходим еще, а в морг опять машина пришла. Э-э…
Такие вот стали у них разговоры. Захотелось на волю и городским, но те об этом по-своему говорили, высчитывали, дебет с кредитом сводили.
По утрам в окно заглядывало солнце и повисало там часов до пяти-шести. В палате становилось нечем дышать уже в одиннадцать часов утра.
– Полмесяца прошло, как отсеялись, – заметил Петя, – а ведь ни одного дождичка не пробрызнуло. На востоке льет… А наш директор: по всем прогнозам в первом году пятилетки быть нам, товарищи, с хлебом! Напрогнозировал…
– А может, и был прогноз, – неохотно отозвался на это Николай, – никто же точно не может знать.
Разговаривать с Петей о погоде и урожае ему давным-давно надоело.
В больнице в эти дни все делались разморенными, пришибленными, словно солнце размягчало и мозги, и суставы, гнало по жилам вялую, сонную кровь. За стенами тоже вроде жизнь остановилась, по, как оказалось, нет, двигалась, мчалась даже и напомнила об этом неожиданным, скандальным случаем, колыхнувшим не одну только их палату.
К Каверзневу, вместо хорошенькой жены и пораньше ее обычного часа, пришла вдруг незнакомая женщина с круглым и бело-розовым, несмотря на такое солнце, лицом. Николай видел, как они уединились в уголке вестибюля, посидели минут десять, и Каверзнев начал как-то неестественно, нетерпеливо, не глядя на осаживающие жесты бело-розовой гостьи, ерзать на стуле. Потом он вскочил, пошел было прочь, но вернулся и раза два дернул собеседницу за руку, отблагодарил, видно, за что-то. А в палате закатил вдруг истерику.
– Дрянь! Подлюка! Скотина! – кричал перед окном.
Оказалось, его жена успевала в эти дни не только вовремя навещать законного мужа, но и какого-то «партнера» на стороне себе подыскала. Николай, да и остальные, не знали, куда глаза девать, до того распустил себя обманутый муж.
– Может, просто сплетни все, – попробовал успокоить его Петя.
А Лаптев подошел к Николаю.
– Необходимо перехватить его супругу у входа, нельзя им встречаться, – просипел сквозь зубы.
Николай взглянул на часы, на Каверзнева, затаившегося под простыней, и вышел из палаты. До обычного часа оставалось минут двадцать, но он решил подождать у парадного, на сквознячке. Заложив руки за спину, он накруживал восьмерки вокруг колонн и старался как-то свыкнуться с происходящим.
«Ничто их не останавливает», – подумал он между прочим, и это наконец проняло его, словно попробовал он чужую беду на себя примерить, а она оказалась впору.
Взволновавшись, Николай сошел с крыльца, прошаркал тапочками до клумбы, яркой и пышной от ежедневного полива, а когда повернул назад, то увидел у самого входа Каверзневу-жену.
– Эй! – крикнул он, но та уже скользнула в приоткрытую дверь.
– Пришла, дрянь! – услышал Николай, подоспев к входу, и тут и увидел их.
Изменщица как-то ужалась сразу, выставила перед собой, загораживаясь, нарядную сумку-пакет, а муж и правда надвигался на нее с побелевшим лицом и сжатыми кулачищами.
– Не дури! – вырвалось у Николая.
И Каверзнев, как по сигналу, а верней всего, боясь, что остановят его, выбросил вперед руки, ухватил жену за летнее платье на груди, вякнул что-то и дернул, словно тракторный пускач заводил, отпрянув всем телом назад.
В один миг Николай увидел оголенные женские груди, услышал дурной крик, хруст я звон упавшего пакета, – а Каверзнев уже лежал на полу; над ним, сжимая кулаки, склонился сердобольный Петя; стояли вокруг ошарашенные посетители и больные, за которыми мелькнула очкастая физиономия Лаптева. В следующий миг Каверзневой-жены в вестибюле не было.
– Вставай! Вставай, что ли, – повторял Петя, и Каверзнев, застонав, шевельнул руками.
– С-скоти-ина, – процедил, не открывая глаз.
– Сам ты, видать, дерьмо хорошее, – спокойно сказал Петя, и все вокруг ожили.
На следующий день Каверзнева перевели в железнодорожную больницу, Лаптева и Петю выписали. И Николай, в ожидании подселения, остался один. Нянечка, менявшая постели, и дежурная медсестра настойчиво выпытывали у него подробности, а он и отшутиться не мог.
– Хорошо, – выслушав его, сказал на обходе хирург, – в среду еще раз посмотрим и, может быть, переведем на амбулаторное наблюдение. Ну-ка, подними пижаму…
В среду, пока заверялись бумаги для райбольницы и совхозного начальства, Николай переоделся в свой летний, а по правде сказать – единственный костюм, увязал куртку и прочую грязную одежду в аккуратный тючок и снова явился под двери кабинета.
Отдавая листки, хирург взялся читать наставления, по Николай слушал его и улыбался.
– Я вам сала свиного привезу, – вставил радостно, – копченого!
– Ты это, Акимов, перестань и дослушай до конца, – свел брови хирург. – Ты еще слаб, как ребенок, и надо было машину за тобой выслать. А в автобусе непременно скажи, что ты после тяжелой операции. И не забудь в недельный срок в райбольнице появиться. А вообще жена тебя скорее на ноги поставит…
Хирург наконец улыбнулся, и Николай схватил его за руку.
Пройдя потом больничным коридором, разморенным садом, он очутился в городе. От волнения забылось и неловкое расставание с соседями по палате, и томительные дни вылеживания как бы уплотнились до одного, долгого.
«Все нормально, все путем!» – подбодрил он себя дополнительно и пошел по горячему тротуару к магазинам, на базар, желая с толком потратить Катеринину десятку.
* * *
Этот город Николай знал давно. Деревянный одноэтажный центр здесь совсем не застраивался, этого рода перемены происходили в микрорайонах на окраине, а новизну старым улицам придавали лишь новые щиты-плакаты, газетные киоски да непомерно разросшиеся тополя. Движения было немного. Может быть, тут вообще теперь не ездили, но Николаю казалось, что это зной разогнал водителей и пешеходов по ручьям и речкам.
От ходьбы по жаре он быстро взмок, штанины стали липнуть к ногам, но это причиняло пока всего лишь неловкость, неудобство, а на настроение не влияло.
Настроение испортилось на базаре. Большой торговли тут не было, а цены – я те дам! Как ни примеривал Николай три-четыре рубля, а все какие-то жалкие кучки ранних овощей складывались, не говоря уж про перезимовавшие яблоки.
Купив все-таки килограмм крючковатых огурцов, которые скучная тетя ссыпала ему в подставленную авоську, Николай пошел к рядам прибазарных магазинчиков. В промтоварном он с ходу «оторвал» темно-зеленые вельветовые туфли на Катеринину примерно ногу, в канцелярском, куда зашел случайно, – пистолетик и круглый значок «Ну, погоди!» для Витьки. Кроме рубля на билет оставалось еще копеек сорок свободных денег, и он заглянул в хозмаг. Тут все было на виду, но лежало в таком беспорядке, что минут двадцать Николай только разбирался, что тут к чему. Он уже знал, что ничего не купит, но приятно было примериться к какому-нибудь слесарному набору рублей за тридцать, к электродрели, продававшейся по сниженной цене из-за какой-то поломки… Только вспомнив, что ему ехать надо, оторвался от прилавка.
Оглядев на улице свой «багаж», Николай смутился. «Погорелец чертов», – ругнулся он и дальше уже чувствовал себя несвободно. Хотя бы сумка какая-нибудь была, а то в одной руке узел с грязной одеждой и в другой – все на виду… Вот как хорошо мы живем! «И эта догадалась – лишнюю десятку пожалела», – обиделся Николай на жену, но, прошагав квартал, остепенился. Вряд ли теперь дома лишние десятки. Последнюю зарплату он принес почти два месяца назад, сотни тогда не вышло, а надолго ли ее хватило? Деньги лежали еще на сберкнижке, но залезть в нее Катерину и под пистолетом не заставишь. Теперь надо было поскорее выправляться и жизнь выправлять. Какой ни была прежняя, но в ней хоть ясности побольше было и уверенности…
Дойдя до остановки, Николай, задрав голову, изучил табличку.
– Какой номер на вокзал идет? – спросил он какую-то девчонку.
– Второй, – пропела та.
«Двойки» долго не было, и он начал волноваться. Часы показывали три, а в Богдановку рейсовый автобус уходил, кажется, в половине четвертого.
Он уже решил удариться пешком, когда появился наконец нужный автобус.
В давке, в духоте он пробыл минут десять и на привокзальной остановке сошел с вымученной, хотя и не обиженной улыбкой.
«Все путем», – подбодрил он себя, но полупустая площадь озадачила: где же автобусы?
– А тут теперь автовокзал пустили, – объяснил ему усатый дядя.
– Где тут-то?
– В городе. Сейчас вот сажайся в «однойку», а на выезде, где заправка, слезешь…
Николай посмотрел на здание железнодорожного вокзала.
– А расписание? – крикнул он вслед усатому.
– Расписание новое, тоже там!
Часы показывали уже половину четвертого.
Ему повезло, и на автостанцию он прибыл минут через сорок. Автобуса три там еще стояли, но ближних, пригородных маршрутов, а богдановский, оказалось, ушел в половине четвертого.
«Вот так, – пригвоздил себя к скамейке Николай. – Приехали…»
Теперь надо было ловить попутную, но на другом уже, от элеватора, выезде.
«Отдышусь», – решил Николай. Лучше было бы залезть сейчас по горло в воду или хоть на ветерок выйти он подплывал по́том, щипало глаза, и пластырь на животе, казалось, отклеился и едва держится.
Николай стащил с себя промокший на спине и под мышками пиджак. Вздохнулось полегче, и он огляделся. Кого, интересно, осенило ставить тут автостанцию? Магазины, базар, железнодорожный вокзал, даже шерстобитка и всякие учреждения были километрах в двух, откуда доходил сюда только один автобусный маршрут. «Да мало ли безголовых», – открестился было Николаи, но тут перед навесом остановился еще один городской автобус, и он увидел табличку: седьмой.
«Этого откуда принесло?» – удивился Николай, а, повернув голову, понял: микрорайон. Там и населения, должно, не меньше, чем в деревянном центре, и большинство, если не все, бывшие сельские жители. А кому, как не им, нужна автостанция под боком? «Была, значит, голова», – усмехнувшись, подумал Николай. И вместе с этим почувствовал необъяснимое свое превосходство над «потребителями». А черта ли тогда в его жалкой авоське и узелке погорельца?! Это все так, по случаю, а из Богдановки по выходным, бывает, и не уедешь из-за городских гостечков, забивающих собой сиденья, а поклажей своей проход в автобусе. «Нахлебники», – хмыкнул Николай. И тут же уверился, что не из-за своего ротозейства, а из-за «этих» не попал он на рейсовый автобус и должен теперь голосовать на дороге…
Но обвинить дядю оказалось легче всего. Машины проносились мимо, обдавая Николая то въедливыми выхлопами бензина, то душной копотью от дизельного топлива. Когда перекрывали переезд, поток машин прерывался, а потом они, конечно, ни на метр не хотели отставать друг от друга. Надо было пройти дальше по дороге, и Николай пошел туда решительно, но тягучая боль в животе и наступившая тут же слабость укоротили шаг. Кое-как он доплелся до сломленного бетонного столба, прислонился к нему, повесил авоську на торчащий арматурный пруток и угнездил узел на пыльном изломе.
В опустевшей голове что-то тикало на манер какой-то машинки из операционной. «Вот так-то», – повторял Николай, шевеля губами. Куда теперь? Он в одном только шуме близкой дороги, в мельтешенье колес и кабин терялся и тонул как слепой котенок.
«У, раскис, сынок чертов!» – озлился он на себя и отвернулся от дороги, чтобы не выставлять растерянного лица напоказ проезжающим. Взяв узел и бросив его под ноги, Николай положил на излом локти, оперся – так ему полегче стало, но бетонные крошки больно врезались в тело, и локти приходилось то и дело переставлять.
Кое-как он совладал с внезапной слабостью, трезвее глянул по сторонам и решил продолжать начатое – идти дальше по дороге, к посту ГАИ, где наверняка должны были помочь больному человеку.