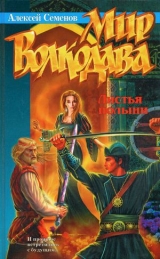
Текст книги "Листья полыни"
Автор книги: Алексей Семенов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Уважаемый, ты что же, собрался покупать книгу без обложки? Книга без обложки не продается.
Торговец был непонятного рода-племени мужчиной лет сорока, полноватым чуть, но в общем здоровым и крепким в отличие от многих иных саккаремских и нарлакских купчин, почитавших толщину чрева за символ преуспеяния. Лицо у него было широкое, но не обрюзгшее, с крупными чертами, волос прям и черен, правда кое-где уже с сединой, а бороды и усов торговец и вовсе не носил. Подбородок был крупный, тяжелый, а глаза темно-карие. Кожа, вобравшая, должно быть, немало полуденного солнца, была бронзового цвета.
Пока Волкодав перебирал да рассматривал книги, хозяин лавки сидел, полуприкрыв глаза, на стуле саккаремской работы, составленном словно бы из двух дуг: одна была раскрыта вниз и упиралась в пол своими концами, а другая, наоборот, открывалась кверху, точно полумесяц, который может смотреть рогами вверх, если этот полумесяц стоит в небе Мономатаны. Такие сиденья, резные и изящные, очень были в ходу у саккаремцев, зане их можно было легко переносить, а прочностью они не уступали обычным табуретам.
Одет, впрочем, торговец был по-халисунски, в длинную из тонкой дорогой ткани светло-зеленую рубаху до пят, украшенную обшивкой, в синий кафтан с короткими рукавами, доходящий до колен, тоже роскошно обшитый, а спереди к нижним углам сего кафтана крепились две золотые пушистые шелковые кисти. Пояс украшала массивная золотая пряжка, а обут был торговец в мягкие сандалии. Только вот всегдашнего головного убора халисунцев – мешковатой шапки с кисточкой – при нем не было.
Надо думать, дела у книготорговца шли неплохо, раз мог он позволить себе подремывать на сиденье в самый разгар базарного дня, когда все его собратья по занятию из кожи вон лезли, дабы заманить покупателя к себе, и воздух густел и бродил даже от разноязыкой закваски из голосов.
Волкодав знал все хитрости торговцев, а потому не удивился, что вместе с товаром тебе норовят всучить нечто, что тебе вовсе без надобности.
– И во что обложку ценишь? – спросил венн.
Торговец не был ему неприятен, напротив, Волкодав был даже благодарен ему, что он не мешал рыться в книгах, разложенных на лотках. Иные книгопродавцы взирали на венна со шрамом через пол-лица и неизбывными рубцами от оков на руках как на удивительного зверя в клетке, иные морщились и беседовали грубо и надменно, выказывая такому покупателю всяческое презрение, а иные норовили посмеяться над глупым варваром, сыпля словами из премудрых книг, смысла каковых слов и сами порой не ведали, подсовывая разные дрянные и срамные книжонки. Да только венн оказывался непрост: от Эвриха он и не таких слов наслышался, и всегда щедрый на то, чтобы поделиться знаниями, особенно когда уповали на его ученость, аррант, вельми довольный собой и гордый, терпеливо растолковывал хитрые значения. И Волкодав, ни слова бранного в мир не выпустив, просто возвращал книгу на прежнее место и без сожаления уходил от такого купца, указав тому на прощание, где это хитрое слово, коим он дикаря смутить хотел, употребляют и зачем. А тем, кои унизить его желали, увещевая книгу на место положить, зане она для зело умных, а посему ему, дураку, скучна станет, советовал прочесть кое-что о вежественном обхождении и тоже уходил, нимало не жалея.
Торговец поскреб подбородок, будто желая почесать несуществующую бороду, и назвал цену. Цена равнялась половине цены книги. Но Волкодав и тут не выказал ни словом, ни лицом ни малейшего удивления, хотя и мелькнула у него мысль, а не слишком ли долго дремал почтенный хозяин лавки, что спросонья такие цены несусветные называет.
– Что ж, видать, хороша обложка? – осведомился венн. – Не покажешь ли?
– Охотно, – кивнул мужчина, поднялся с сиденья своего и, порывшись на полках в углу, вытащил оттуда… Нет, не кожу с тиснением, не сафьян, даже не шелк. Нет, это был чехол из грубой, ветхой холстины, да еще замаранный какими-то неровными ржавыми полосами. Холстина сплошь была испещрена едва видными значками – кто-то когда-то писал на ней за неимением, может статься, более подходящего для подобного занятия материала.
– Позволь взглянуть. – Волкодав привычно протянул руку, чтобы взять холстину, поелику торговец не вправе был отказываться показать товар лицом, но тот почему-то холстину не дал.
– Этак я тебе обложку дам, почтенный, а ты и был таков, – заметил хозяин. – Вот она, смотри так. – Он развернул холстяной чехол и разложил его на лотке. – Такой товар немалых денег стоит, чтобы столь дешево его отпустить.
Волкодава неприятно покоробила столь резкая перемена в настроении торговца по отношению к нему, ну да венн и не такое испытывал. Черты и резы, увиденные в книге, не отпускали его. Впервые он нашел книгу с веннскими записями. Кто знает, может, и о Серых Псах там есть что?
Он стал придирчиво осматривать холстину. Мало ли, вдруг она и впрямь ценна чем? А если нет, то Волкодав и поторговаться мог: саккаремцы, к примеру, очень уважали покупателя, кой торгуется до последнего. Могли даже за особенно долгий и занятный торг цену еще сбавить против выторгованной. А тех, кто брал товар сразу, не торгуясь, целились обмануть, чтобы знал впредь, как должно торговать.
Халисунцы тоже рядиться на торгу любили, но вот выпросить у них удавалось сущие гроши. Зато и обмана у них не случалось. Этот же лавочник был непонятного племени, а потому не знал Волкодав, как к нему подступиться.
Холстина и точно была совсем старая – как только не истлела еще! Из такой рубахи делали для тяжелой и не слишком чистой работы, для долгого пути. Была эта ткань зело прочная и плотная. На сем достоинства ее и заканчивались. Приглядевшись же повнимательнее к ржавым полосам на ткани, Волкодав понял: да это же кровь! А потом взглянул на шов: да то ж не чехол на книгу вовсе, а бывшая рубаха! Да и полосы кровавые появились не сами по себе, а были следами ран, и то Волкодав, как воин, сразу определил. И не просто следами ран, а страшных ран, нанесенных боевым мечом. Только вот эти порезы срослись потом на рубахе. Срослись, будто была то не ткань, а живая плоть. И, как бывает, когда живая плоть срастается, остался после на ткани шрам. Вот по нему и уразумел венн, как и почему появилась эта кровь. А еще вельми занятно было бы взглянуть на тот меч, кой нанес эти раны: нельзя было мечами нынешних времен ударить так! А может статься, то был меч неведомого доселе Волкодаву народа?
Все эти мысли промелькнули мгновенно, не успело сердце и два десятка раз ударить. Крови, да клинков, да тканей ветхих и грубых Волкодав успел за жизнь наглядеться и читал по ним и по следам на них не хуже, а то и лучше, чем Эврих по книгам. Засим венн окинул взглядом письмена: были они нанесены неким странным составом, вовсе не схожим с чернилами аррантскими, саккаремскими, халисунскими и, конечно же, с теми, что придумал Тиллорн. А был то, судя по всему, крепкий и густой взвар из лесных растений и коры. А более ничего сказать о том, чем писались строки на рубахе, сказать было нельзя. Тиллорн, верно, разобрался бы. Да где он теперь! А те места, кои писавший зачем-то хотел особо выделить, были бурыми и ржавыми. А некогда – красными. Они тоже выводились кровью. Кровью того, кто их писал. И наверняка того, чей меч оставил некогда эти рваные кровавые следы.
Волкодав узнал письмена аррантов и сольвеннские буквицы, увидел саккаремскую вязь и халисунские буквы-печати, острые сегванские руны и еще какие-то незнакомые знаки. В левом углу, наверху, перо неведомого книготворца поместило два слова по-веннски. Вернее, не перо их туда загнало, а нож и игла того, кто эту рубаху на рубаху для книги перекраивал да перешивал. Слова же были такие: «серый пес».
– Ты прав, почтенный, – согласился с лавочником Волкодав. – Без такой рубахи книга голой останется. А не скажешь ли, почему она не из шелка либо сафьяна шита? Стоит, пожалуй, не хуже парчи, жемчугом расшитой, а сама – холст как холст?
Торговец, по-прежнему придерживая обложку, посмотрел венну прямо в глаза. Он, конечно, догадался, куда ведет Волкодав, но вот огонька задора в этом взгляде не было. Торговец смотрел так, будто хотел сказать: тут дело не шуточное, почтенный, а ты играться вздумал? Да в себе ли ты?
– Знаешь ли, мил человек, – сказал вдруг лавочник на таком чистом веннском языке, точно только что из печища на Светыни вышел, – коли у тебя за всю жизнь денег на рубаху для книги не собралось, что толку с тобой торговаться? И к чему тебе книга, когда ты ее в рубаху даже одеть не можешь? Клади-ка книгу да ступай. Ты, вижу я, поспешаешь. Да и мне пора приспела, сейчас лавку запирать стану.
И он принялся сворачивать холст, начав как раз с левого верхнего угла, где были выведены черты и резы. Такого оборота Волкодав никак не ждал. Но и принять не мог. Он, разумеется, способен был легко, одним касанием, отправить хозяина лавки в страну снов, и тот едва ли после посмел бы обратиться к градоначальнику либо к иным людям кониса. Да и к Сонмору вряд ли побежал бы. Сонморовы бойцы из-за одной книги за работу бы не взялись, а труды их встали бы лавочнику вдесятеро супротив ее цены вместе с рубахой. А те, кто днем на кондарских улицах хозяйничал, еще седмицы три собирались бы обидчика ловить. За то время венн-бродяга, по разумению всякого торговца, далече уйти успел бы.
Да только не был сей торговец всяким, а потому и не стал Волкодав его уму-разуму учить. Да и всякого иного, пожалуй, не стал бы: алчность собственная такого куда как хуже накажет! Говорил торговец по-веннски складно, однако венн так никогда бы речь не повел: не в обычае то было незнакомого человека за худую одежу либо бедность корить. А уж коли по рукам с ним ударить намерение возымел, а после передумал, то следовало его прежде хотя бы добрым словом угостить, а уж никак не гнать взашей.
– Когда так, забирай свою книгу. Пусть лежит. Видать, она тебе дороже, чем мне, – отвечал Волкодав, возвращая книгу на лоток. – Складно ты по-веннски говоришь, да не в лад, – добавил он и повернулся, собираясь уходить.
– Постой, – окликнул Волкодава торговец, когда тот уже нагибался, чтобы выйти в дверь, слишком для него низкую. Окликнул по-веннски. – Ты, может, и прав. Этак мне книга дороже обойдется, когда ты так просто уйдешь. Вот что я тебе предложу: заплати за книгу сейчас. Рубаху к ней, так и быть, я тебе тоже отдам. Потом, когда заработаешь, деньги принесешь. А к рубахе в придачу тогда вот что возьми…
Торговец снова нагнулся в угол, откуда извлек чехол на книгу, и, повозившись чуток, вытащил с полки черен от меча. Да не стальной, а стеклянный!
– Стоит этот черен ровно столько, сколь и обложка, – заметил он, проворно заворачивая книгу, холщовый чехол для нее и стеклянный черен в тонкую мягкую кожу.
– Постой, – Волкодав возложил свою широкую и крепкую ладонь на неготовый еще сверток, – дай взглянуть.
Он без усилия отвел руку торговца и завладел стеклянным череном. Стекло было вполне обычным и ничем не замечательным. Вместо клинка из черена торчал обломанный и короткий кусок едва ли на три вершка.
– Да коли из серебра такой отлить, едва ли дороже вышло б, – усмехнулся Волкодав. – Нешто ты шутить вздумал, мил человек?
– Из серебра такой отлить можно, только что в том пользы? – отвечал лавочник, следя за тем, как Волкодав черен возвращает обратно. – В этом стекле кое-что поценнее серебра найдется. Когда надобность великая придет узнать, что в прошлом творилось либо в грядущем свершится, черен этот в кровь живую окуни. Достанет одной капли. Хочешь своей крови, хочешь – чужой. Но человеческой. Либо собачьей. Тот день, о котором знать хочешь, внутри черена весь отразится. Отразится и застынет. А потом что хочешь с ним делай: хочешь – разбей, если худой день окажется. И не будет этого дня. И всего худого, что в твоей жизни от него случилось или случится, не будет. А когда счастливый день получится, то исполняй все впредь так, как в черене показалось, и пребудешь в счастии. Нешто много за такое прошу? Три года сроку даю на то, чтобы долг мне вернул, – добавил торговец.
– Мягко стелешь, – опять ухмыльнулся Волкодав. – Что ж себе такую дивную вещь не оставишь? По тебе не скажешь, что нужда на пороге, чтобы добро поскорее да подешевле отпускать. Да и не торопишь ты с платежом: за три года, глядишь, либо тебя, либо меня и на свете не будет.
– Когда бы я мог вечно жить, была бы о том речь, – возразил торговец. – А так у меня дней не густо. Кабы все худые перебить, я бы здесь не стоял перед тобой. Думаешь, я книги продаю, и только? Книги – то для души, для успокоения. А так я черены стеклянные делаю. Вот, смотри.
Он шагнул назад, к полкам, и откинул занавеску, скрывавшую одну из них. На полке, сверкая тысячами огней, отражающих солнечный свет, щедро льющийся через окно, стояло не менее полутора сотен стеклянных черенов самых разных форм и размеров. И все, как успел заметить Волкодав, из простого стекла, иной раз прозрачного, иной раз цветного.
– У кого жизнь чистая, тот видит мир таким, какой он есть, и тому я даю черен из прозрачного стекла, – пояснил торговец. – А иные видят вещи и людей лучше или хуже, чем те есть на самом деле. Или просто видят плохо. Таким я даю черен из цветного стекла или из такого стекла, что позволяет слабому оку сравниться со здоровым.
Купец задернул занавес.
– Мне и вправду пора. Ты берешь книгу? – обратился он к Волкодаву.
Венн пожал плечами. В конце концов, если торговец и врал, то платить сейчас еще одну немалую цену за непростую холстину с веннскими письменами и простое стекло, о коем наговорили с три короба, надобность пропадала.
– Заворачивай, – кивнул он хозяину и принялся отсчитывать монеты.
Торговец взял деньги не считая, и сверток с покупками перекочевал в заплечный мех к Волкодаву. Они вышли на улицу, и владелец лавки запер толстую дубовую дверь на стальной висячий замок.
– Где ты выучился так споро по-веннски беседовать? – осведомился напоследок Волкодав.
– Там, где я живу, на всех языках говорят, – усмехнулся торговец. – А молчат – на одном. Когда осилишь книгу, приходи за другими. Не так дорого я беру, как те, что на одном языке молвят, да на разных молчат. А теперь ступай. Мне все одно в другую сторону.
Торговец вытащил из-за пазухи белый головной платок с синими полосами, мигом повязал его на халисунский манер и быстрым шагом устремился вверх по улице, взбегавшей здесь на небольшой холм. Уходил он и впрямь в ту сторону, куда Волкодаву вовсе не было нужно.
– А как место твое называется? – окликнул его напоследок венн, понимая отчего-то, что догонять странного лавочника не надо.
– Травень-остров, – бросил тот, не оборачиваясь, и, скоро взойдя наверх по выщербленным тысячами башмаков и сапог ступенькам, пропал за углом.
Волкодав вынул книгу, осмотрел ее еще раз. Торговец успел надеть на нее холщовую рубаху, что обещала обойтись Волкодаву так недешево. Рубаха, несмотря на древность и долгое, должно быть, пребывание в ларях да на полках, не утратила живого запаха. Этот запах, наверное, вошел в нее навсегда и стал ее частью. И был это горький запах полыни…
Лист первый
Зорко
Едва только вдохнув во сне этот запах, Зорко стал не только видеть и слышать, но и обонять все, что видел в снах. Теперь он знал, что тот суровый и хмурый венн высокого роста, жилистый, будто из тугих древесных жил свитый, как бывает свит ствол дерева – ни вихрь, ни ненастье, ни червь такое не свалят, да и топором не вдруг возьмешь, – тот венн, которым становится он, Зорко, едва лишь засыпает, зовется Волкодавом и плывет куда-то по волнам неоглядного моря, покинув каменный град Кондар на закатном побережье. Что вместе с ним длит свой путь через страны и воды молодой аррант по имени Эврих, терпеливо и стойко разделяя с венном все издержки и тяготы дороги. А вот куда и зачем лежит их путь, Зорко покуда не догадался.
Черный пес вел его по нюху кратчайшим путем до заставы, и галирадский колокол не отсчитал бы и двенадцати четвертей, как Зорко заслышал недалече приглушенные и скрадываемые чащей, но все ж ясно различимые звуки лагеря. Верно, на заставу подошел немалый отряд.
Так оно и было. Откуда ни возьмись, из зарослей лещины на тропку шагнул дозорный.
– Кто таков будешь? – спросил он, держа руку на поясе. Черен меча выглядывал из ножен, тускло поблескивая украшением из зерни.
Зорко вместо ответа сначала глянул наверх. Прямо над ним, чуть впереди, на ветвях ясеня расположился с удобством стрелец, удерживая готовую к полету оперенную смерть на тетиве.
Зорко назвался.
– Проезжай, – кивнул Барсук. – Ждут тебя.
Зорко выехал на обширную поляну. Здесь, под охраной болот и чащоб, на скорую руку обустроили лагерь для невеликого отряда: поставили шалаши, вырыли землянки, соорудили коновязь.
Но сейчас в лагере царило оживление, да и народу прибавилось, и весьма. Правда, все собрание шуму производило едва ли не меньше, нежели вся застава. Посреди поляны воины разбили шатер: пожаловал не кто иной, как верховный вельхский воевода, Бренн.
Не успел Зорко подъехать к коновязи, как к нему подскочил Безгода, старший над всеми конными дозорами.
– Добро ли доехал? – осведомился он, упирая руки в бока.
Безгода был статен и ростом и лицом вышел. Борода и волосы его, белые, как сметана, кудрявились, а глаза зеленые смотрели востро, но беззлобно. Несмотря на стать, Безгода рубиться не вельми любил, предпочитал лук. Не прошло и седмицы войны, а он уж ловко, как мергейты, бил из лука на всем скаку, тетиву натягивая до глаза. И все сетовал, что лучшие из мергейтских стрелков тетиву натягивают аж до уха.
– А то, – отвечал Зорко и вытащил из седельной сумки краешек снятой со степняцкого десятника рубахи.
О том, что Зорко Зоревич, вместо того чтобы спать-почивать, в любой подходящий и неподходящий час что-то пером на рубахах мергейтских выводит, знали многие, – не хорониться ж было Зорко в чаще ото всех. За чудачество почитали, но не винили: на войне почему-то возникла своя правда, о коей в Правде веннской ничего сказано не было, и даже кудесники взяли мечи и мечами доказывали справедливость того, что сказано в Правде. Зато каждый знал, что, коли появилась у Зорко для письма новая рубаха, одним мергейтом на веннской земле меньше стало.
– Это где же? – озаботился Безгода.
– Верст десять на полдень, а оттуда еще восемь на восход, – отвечал Зорко. – Десятник это. Дозором шли. Я пугнул, они и побежали. Кони понесли, десятника лбом о березу приложило. Остальные досель, должно быть, пешком ковыляют, когда коней еще не поймали.
Безгода поначалу не уразумел ничего. Потом ухмыльнулся.
– Ну ты и горазд врать! Оттого и буквицы так ловко выводишь, – молвил он, поглядывая все же на кончик одежды, выглядывающий из сумы Зорко. – Ладно, после поведаешь, коли время будет. Теперь умойся да пойдем. Бренн приехал и Качур с ним, да народу с собой привели сотен пять! – Такой могучей воинской силы Безгода сроду не видывал, а потому предел численности у него теперь лежал на пяти сотнях. Зорко вспомнил шеренги Феана На Фаин и про себя горько улыбнулся. – Хотят совет держать. Всех созывают. А Качур да и Бренн и тебя помнят – и тоже позвали. Ну и меня, – закончил Безгода. – Серую твою обиходят как положено. Поспешай!
В шатре, сколь ни обширен он был – это Брессах расстарался, привез из-за перевала, – народу набилось столько, что Зорко озадачился: когда воевод полный шатер, какую ж силу сумели Бренн и Качур созвать? Были здесь и венны, и вельхи поморские и те, что из холмов, и калейсы, и даже – вот новость! – ман, самый настоящий, в халате и платке головном! А еще были люди в странной одежде – ткань из овечьей шерсти, в клетку покрашенная, вокруг тела обернута, а штанов нет вовсе, только чулки. Зорко знал, что это горные вельхи, коих число хоть и не было велико, зато родов да племен водилось множество, и все восходные отроги гор, что посреди земли стояли, заселяли они. Выходит, и горцев дозвался Бренн, и они не отказали в беде помочь, хотя их в горные поселения мергейтская конная рать никак добраться не могла.
Бренн и Качур сидели рядом на скамье, установленной у заднего полотнища шатра, все прочие сидели либо стояли на полотняном полу, укрытом сеном и камышом. На сене расположились венны, на камыше – вельхи.
Бренн был постарше Качура, седой совсем, с длинными вислыми усами, крупный мужчина, в плечах широкий, а в поясе тонкий, – великий вождь и воин, хозяин стад, как вельхи говорили об уважаемом человеке, который стоял во главе вельхского рода. Бренна же избрали верховодить среди глав родов, а этой чести не каждый удостаивался. Вельхи честь высоко ставили и даже сосчитать ее измыслили. Про все помнили: и про прежние дела, и про то, сколь человек богат, и как он и где себя повел и слово молвил, не обидел ли слабого, не отказал ли в гостеприимстве, не нарушил ли какого уложения в Правде вельхской либо запрета, что кудесники на него наложили, и многое иное. И про здравие не забывали, и про то, не шире ли воин в поясе, чем то надлежит по уложениям древности.
По всему выходило, что Бренн всех превзошел, а теперь верховным воеводой стал, а оттого он столь великое количество чести стяжал, что навряд кто другой его бы обошел, покуда Бренна не убьют либо пока он совсем не одряхлеет.
Однако, надо признать – и Зорко то признавал с охотою, – хвалили так Бренна не зря. Умел он быть и воином, и воеводой добрым. Хитер был Бренн, умел бой выиграть, умел так людей поставить и в такой миг их в сечу ввести, что худо врагу приходилось.
У Качура иное присутствовало: венны испокон веку, со времен тех, когда пришли в басенные годы из-за полуденного хребта, все в этих лесах жили и многое о них знали. И о том, как воевать, чтобы лес укрывал, тоже понятие имели. Так вот тем, что ныне мергейты и на треть в веннский край не углубились, заслуга была Качура. Это он смотрел и будто не хуже, чем Зорко сквозь оберег, сквозь лес видел, как пойдут степные рати и где их следует встречать, где пропускать, а где сдерживать. Ни разу не вели венны больших войн, а тут понадобилось. Кабы не Качур, неизвестно, кто бы смог на место его встать.
Вошедших Зорко и Безгоду меж тем заметили.
– А вот и Зорко Зоревич пожаловал, что на лошади из вельхских земель ездит, – приветствовал его Качур. – Тебя одного и ждали. Теперь все собрались, Бренн. Больше некого ждать, да и время. Ты скажи слово. У тебя это способнее получается.
Бренн поднялся – высокий, плечистый, в белой рубахе и синем плаще с серебряной отделкой, на голове – серебряный обруч, на шее – серебряная гривна, обручи серебряные на запястьях, пояс широкий серебром выделан и меч на поясе том в ножнах с серебряными накладками, серебряные волосы густой непокорной гривой разметались по плечам – будто вельхский вождь из давних времен. Только Зорко знал, каковы они, те, кого звали могучими воинами, и Бренн во всем великолепии своего богатства и чести был лишь бледной тенью колесничих Ириала. Времена, когда один рыжеволосый исполин шел против всех ратей Феана На Фаин, минули невозвратно.
– Зачем собрались здесь столь могучие воины? – начал Бренн. Говорил он зычно и резко, чем-то схоже с голосом огромной морской птицы с белым оперением, что парила и парила временами по-над волнами, не опускаясь, казалось, целыми седмицами. Откуда прилетали эти птицы и в чем была тайна их неустанного полета, никто не знал. Даже вельхи-сказители не отвечали: не было о том в преданиях. Только в песнях, в грустных и светлых песнях, что пел иной раз Снерхус, было, что птицы сии – белые птицы Ангюса либо их земная родня.
– Нетрудно сказать, – продолжил Бренн обычным вельхским присловьем. – Знаем мы, немалая часть земель наших, и люди наши, числом изрядным, и прекрасные жены наши, и стада наши, числом великим, более не принадлежат нам. Нетрудно сказать, как случилось это: враг вступил в наши пределы и недоставало сил наших сдержать его, подобно тому как в давнее время рати прошли до самой башни Тор Туаттах. Как остановили Феана На Фаин, если столь велики были они в мощи своей, как речено о том в преданиях? Нетрудно сказать: королева Фиал, Ириал, могучий воин, и воин-волшебник из дальних стран победили вождей Феана На Фаин в трех поединках, после же и рати были разбиты. Как следует поступать нам? И об этом нетрудно сказать: настало время, когда мужи с холмов и гор страны вельхов и славные мужи из лесной страны веннов могут встать против врага в открытом поле. Ныне с превеликою охотою поведаю вам, каково решение воеводы Качура и мое о том.
Здесь Бренн опять приостановился, нарочно должно быть, чтобы услышать, возымела ли речь его то действие, коего он хотел добиться. Должно быть, возымела: шатер затих до того, что шишка, с сосны упавшая на хвою, и та была услышана собранием. Бренна, впрочем, звук упавшей шишки нимало не смутил.
– Было спрошено нами у богов. Вельхи спросили своих, венны – своих, и калейсы спросили тоже. Про то, что веннские боги рекли, про то Качур вам скажет. Что рекли вельхские боги? Нетрудно сказать. Из сухого дерева, дерево в нем перетирая, зажгли огонь, и вспыхнуло легко пламя, и был ветер на великую Светынь. Там, на излучине, где лежит большое озеро в высоких берегах, суждено пасть нашим врагам.
Бренн нежданно умолк, и тут взял слово Качур. Говорил он низко, хрипло, вовсе не так складно, как горделивый гордостью всей вельхской древности Бренн, но был голос его силен и свиреп, ровно осенние ураганы, что валят старые кряжи и гнут до земного поклона молодую гибкую поросль.
– Зажигали и наши кудесники огонь от железа и дикаря-камня. Так высечен был первый огонь. Гром-кузнец его дал и так заповедал. Ставили колесо на ровное место, зажигали. Повело колесо к Нечуй-озеру. Там быть сече…
– Быть сече, быть сече, быть се… – вдруг откликнулось пугливое и глуховатое лесное эхо. Обыкновенно в этих чащобах пропадали звуки и замирали враз, не повторившись ни разу, запутавшись в бородах лишайника, зацепившись за толстые хвойные иглы, потонув во мхах. Но, видать, таков был голос у Качура-воеводы и таковы были речи его, что великий лес по Светыни подтвердил сам: сече – быть.
– Теперь про наши дела, про воинские, сказывать станем, – продолжил Качур, когда глухая тишь снова застыла над станом и никто из предводителей отрядов не сказал ничего вдобавок. – Место верное. Боги не солгут, когда вера в них стоит. Верховые наши, пусть немного их, в дозор справно ходят. Ведомо ныне, что мергейты на Галирад через леса не пошли: не то испугались чего, не то другие думы у них – Худич их знает. И ведомо, что вытянулись они змеею, а голова той змеи ядовитая раза в два с половиною тяжелее будет, чем все тулово. И лежит голова та теперь как раз промеж нами и Нечуй-озером. За озером тем, если к Светыни, Серые Псы живут. Далее, коли на Галирад по торному пути направиться, чащоба вкруг пути густая: венны там мало селятся, а до сольвеннских деревень еще идти да идти. Кто тем путем ходил, тому знакомо. – (Зорко поймал взгляд Качура, коснувшийся и его.) – Если от Светыни, то там и Олени, и Барсуки, и Гирвасы, и многие иные, да только за болотом и Дикой Грядой. В том самом месте, где Дикая Гряда ближе всего к Нечуй-озеру выходит, есть поляны собой обширные. Там конница степняцкая пойдет. Там и рубиться станем.
Зорко не надо было рассказывать, что такое Нечуй-озеро. И про то, как и куда от него идти, он тоже знал с детства. И про Дикую Гряду ему объяснять не требовалось. Холмы, основой своей имевшие по-особому красноватый дикарь-камень, выходивший на свет крутыми и мрачными валунами, грядой вытянулись повдоль Светыни, на отдалении от нее, словно бы ограждая ту самую излучину, на которой и стояли печища Серых Псов и многие иные. Склоны гряды были и летом с трудом одолимы, а в распутицу, осенние грязи и снежной зимою непроходимы вовсе. И стояли те холмы столь беспорядочно, что петлять меж ними тому, кто не знал здешних тропок, было мукою.
Конница мергейтов, при всем почтении к их наездническому искусству, Дикую Гряду навряд ли бы одолела даже и без боя, так что оставались степнякам две дороги: вперед на Галирад либо на излучину и назад, в степи. К сольвеннам степняки покуда решили не спешить, а вот в излучину заглянуть были не прочь. А пускать их туда не шибко хотелось: слишком уж густо – по веннским меркам – стояли там деревни. А уж Зорко и вовсе не желалось, чтобы конная сотня добралась до его родных мест. Не лежала у него душа к решению воеводскому, потому как не было твердой веры в то, что рати веннов и вельхов, соединившись даже, ринут мергейтов с обрывов Нечуй-озера, а не выпустят, пускай и в отступление, сквозь не столь густые, как в иных местах, леса излучины.
– А войска нашего достанет ли? – усомнился Ероха, моложавый предводитель пешего отряда, кой назначен был отжимать степняков от Светыни.
– То у Бренна спросите, – отвечал Качур. – Он в ремесле бранном более моего разумеет.
– Нетрудно сказать, – сызнова начал вельх. – Воинов мергейтских в земли наши пришло тысячи три, не более. Ныне осталось две с половиною. Вельхских же воинов под моей рукой семь сотен.
– А веннов сколь? – осведомился рослый рыжебородый Кулага, мужик лет сорока, что воеводил у Лебедей.
– Три тысячи и еще пять сотен, – молвил Качур. – Конных из них едва сотня. И у вельхов две сотни.
– Еще калейсов две сотни, – растягивая звуки на поморский лад, объявил Валдас.
– Мудрено нам будет мергейтов одолеть, с тремя-то сотнями конных, – подытожил Кулага.
– Не блажи допреж, – окоротил Кулагу Лагирь, суровый и не шибко отличавшийся вежеством вождь Кабанов. Зато мечом рубился Лагирь мощно и грубо, так же как и говорил. – Если счесть, сколь ворогов ныне меж Нечуй-озером и Грядой собралось и сколь нас тут наберется, то нас, почитай, и вдвое получится.
– Верно сказал, – заметил на то Качур. – Будем еще рядиться али сеча? – вопросил он не громче обыкновенного, но опять слова его прозвучали как гром, заставив всех примолкнуть. И снова вязкая тишина опустилась на поляну, словно все собравшиеся здесь опустились на дно лесного застоялого озера и глядят теперь в блеклое пока небо березозола, силясь пробудиться, будто мавки, от зимней дремы.
– Сеча, – первым рявкнул Лагирь.
– Сеча, – выдохнул стоящий рядом с Зорко Безгода, и слово, вылетев, видимо окружилось дымным облачком ненависти.
– Сеча, – поддержал Валдас, и глаза его стали как море в непогодь.
Один за другим воеводы и предводители отрядов произносили это короткое, как мечный удар, слово, и невидимая, но прочней железа полоса стягивалась, стремясь замкнуться обручем вокруг поляны, и все меньше была прореха меж стремящимися слиться оконечьями. Обруч круговой поруки, кою давали сейчас каждый каждому верховные воители вновь народившегося за какие-то седмицы грозного войска, на глазах становился знаком, чтимым более, нежели любой родовой знак. Здесь, на поляне в густых веннских дебрях, возрастала новая свобода, взявшая на себя ответ за эту землю, – свобода и порука воинов.








