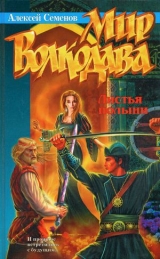
Текст книги "Листья полыни"
Автор книги: Алексей Семенов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Лист третий
Некрас
Некрас шел легко, стараясь обходить те места, где твердая почва, помесь камней и засохшей глины, уступала сыпучему песку. Он уже успел понять, что песок съедает звуки, будто ненасытная живая утроба, и рождает, переваливаясь зыбким телом, свои, заглушая и передразнивая прошлое. А вот глина и камень, наоборот, слишком уж сильно и точно отбрасывали все пришедшее к ним вовне и сами воспринимали всей сутью все приходящее оттуда, пусть бы это были даже недавно отброшенные ими самими звуки, пришедшие от камней, лежащих неподалеку. В таких местах звуки не плыли, каждый в свой черед, и висели в воздухе, тесно сплотившись, занимая каждый свою малую точку, и каждую такую точку следовало изловить, дабы узнать нечто, и каждый звук почти не знал, где заняли место его потомок или предшественник: рядом или за версту.
Но Некрас и здесь не потерялся. Дул себе в свою дуду, распуская мгновенную сеть звуков-охотников, и те ненадолго гасили звуки, кои Некрасу не были надобны, оставляя лишь те, о времени рождения коих Некрас желал проведать. После же охотничья его сеть таяла, и прежние звуки, перебрасываемые друг другу каменными исполинами, и камнями поменьше, и вовсе мелкими, заново водворялись на свои места, отнюдь не спеша затихать.
Караван, за коим стремился Некрас, был недалече – за три дневных перехода. Некрас был мужиком закаленным, жилистым и, пусть не привык к большой и сухой жаре – а жары большой еще и не случалось, зане весна стояла, – переносил окраинные суходолы земли огнепоклонников запросто. Плотью излишней, что тяготила бы полного человека, кудесник обременен не был, а жизнь суровая лесная просила выносливости изрядной, вот Некрас и не страдал от долгого каждодневного хода. Старик караванщик указал ему, как пойдет караван, а значит, и все те места, где сочилась из-под земли вода, указал и подавно.
Впрочем, Некрас и сам воду слышал, но по-указанному идти было увереннее. А помимо воды слышал он под слоями беспокойного песка и застрявших в глине, что грибы в пироге, каменных глыб токи иной жидкости, не воды, а более с льняным да конопляным маслом схожей жидкости. Только была она много гуще и старше, точно память многих веков хранила, перемешанную и растекшуюся по всему льющемуся и ветвящемуся телу этой жидкости. И столь гремуча и плотна была эта память, что стоило искре малой упасть, как возгорелась бы страшным жаром – и пропала бы враз. Иной раз жидкость та подходила и вовсе близко к поверхности, и Некрас даже мог послушать и представить себе удивительные вещи и времена, о коих говорили непрестанно, бормотали, ворчали, булькали, перемежаясь, переплетаясь и перемешиваясь, несчетные слои, токи и струи.
Однако долго слушать было недосуг, и Некрас шел дальше. Еще обитал в земных глубинах легкий и беспокойный горючий воздух – легче того, коим люди дышат. Пребывал он в подспудных трещинах и язвах земных взаперти и там стремился разлететься во все стороны, да не получалось. В отличие от жидкости масляной, что память хранила крепко, хоть и распространяла ее по всему своему телу, ветер, играющий и подвижный, о былом ничего не знал, зато про подземные пределы, в кои затворен был и где коловращался, шипел, что змей, в норе потревоженный, без устали. И Некрас познавал, где пребывают всяческие железы, а где каменья, и как они в себе устроены, и каковы их способности и свойства.
Здесь, в пустынной этой местности, куда способнее было заглянуть под земной спуд, зане не мешали ни древесные корни, ни переплетения трав, ни отголоски жестоких войн, что вели грибы, ни вечное влажное хлюпанье просочившейся всюду водной влаги и пара. Здесь вода сохранялась лишь кое-где, как редкость, и ей было не до того, чтобы докучать иным частям земного тела.
Но и за этим, чтобы разведать толщи подземные и давние, запомненные ими времена, кудесник-венн не останавливался. Шел он на звон бубенцов, что оставляли за собой блудяги-звери, одни лишь и способные одолевать такие переходы без питья, да еще груз на себе волоча. И с каждым переходом – а их Некрас сделал уж четыре – караван все приближался.
«А как горами двинемся, – рассчитывал про себя ловец звуков, – и того проще станет: тут уж я найду, каково короче пройти».
Некрас еще не слышал Человека со Стеклянным Мечом, но отчего-то знал, что караван этот сведет их. Попутно пытался он возвращаться и к тому, что сумел он услышать сквозь золотой оберег, что носил Зорко Зоревич из рода Серых Псов – самый диковинный человек, какого только видел и слышал Некрас.
Сейчас шел он по самому рубежу того края, где обитали маны, почитающие чистое пламя, и Вечной Степи, откуда родом был и Гурцат, от коего столь много уже успел претерпеть мир. Некрас слукавил тогда, быстро перейдя к беседе о пропасти, где исчезают звуки. Зорко, увлекшись разговором, позабыл о том, что оберег, послушный его воле, еще смотрит за Гурцатом, и Некрас слушал то, что доносится из глубин чьих-то дум. Огромный темный клубок, густой и непроглядный, сам собой катился, подминая травы, не смущаясь ни ямами, ни ручьями, ни взгорками, через ночную степь. Клубок этот не был ни жестким, ни мягким, ни тугим, ни рыхлым. Он вообще не состоял из чего-либо, его как будто и не было.
Казалось бы, такого и быть не могло, но обмануть Некраса было не просто. Он знал – как и всякий, впрочем, знает, – что есть такие вещи, которых вроде как и нет. Например, обычное окно. Если спросить, из чего оно сделано, то ответить будет нечего, потому как окно – это дыра в стене, и, значит, ни из чего оно не сделано. Но и сказать на этом основании, что окон вообще не бывает, тоже нельзя, потому как в это самое окно каждый человек, дом имеющий, каждое утро глядит, соображая погоду. То же можно было сказать и о тени, и об отражении зеркальном. Но тем и отличались кудесники от многих прочих, что могли, свойство от предмета отделив, к другому предмету примерить. Этот ком темноты представлялся Некрасу именно окошком, но вот куда окошко ведет, покуда было непонятно. То ли непроглядная ночь за этим окном стояла, то ли смотреть в него следовало не простым глазом и слушать не простым слухом, не то занавешено это окно было или ставнями прикрыто наглухо.
Но оттого и хотелось ставни приоткрыть, хоть в щелочку заглянуть. А потом обо всем, что видел, поведать. Не зря ж он всю жизнь звуки ловил, искал те, что были истинными. Песни, что венны пели, красивы были, и хоть слова в них одни и те же повторялись, а иная песня навевала грусть, иная радовала или потешала, иная звала. Такая сила была заключена в песенном слове, что могла человека песня на свой лад настроить. Но, говорили древние, были и сказы, что в прежние и допрежние времена словом песнопевца можно было реку вспять повернуть, ветер утихомирить или, напротив, разогнать, дождь призвать в засуху, не говоря о том, что воина от стрелы вражьей заговорить, кровь песней остановить, внушить накрепко любовь или ненависть.
Кудесники, что с духами говорили, и матери рода многое о вещах ведали, обряды вершили, лечили, заговоры всякие составляли, а все ж не могли – и ловцы звуков это видели – косное бытие оживить, разговорить и сделать так, чтобы оное по слову изменялось. А о людях инда и говорить было нечего, хотя б к тому же Зорко прислушаться стоило!
Вот и думал Некрас возвратить песенному слову былую его силу. Не мечтал он облака в небе пасти или огни язвящие метать на многие версты, и гор двигать не желал, и людьми повелевать не думал – на то были боги небесные и земные, и во власти их, великих, было великим править. Однако тому, чем человек обладал и чему должен был хозяином являться – душе своей и соображению, – хозяином он частенько не был. Сам себя не мог найти и доверялся кому попало, а другой, кому бразды человек вручал, хорошо, коли по-доброму к нему относились, хорошо, коли знали, как лучше с чужой душой и волею обойтись. А когда злы оказывались или попросту не ведали, что творили, случались всякие беды. И хоть полагалось каждому опека духов-предков и пусть существовали в мире побратимы и посестры души человечьей, а все ж сам человек за свою душу вперед всех отвечал. Вот и следовало, по мысли Некраса, так песню строить, таково слова с музыкой сплетать, чтобы не просто слух услаждать, а душу уснащать и выстраивать.
Иной раз получалось такое в песнях, да только не нарочно, а как-то наобум, невзначай. Да и то сказать, если на случай надеяться, то можно было ненароком и такую песню сложить, что силой своей не то что добра не сотворила, но к худу привела.
Мало того, Некрас, еще не постигнув той сути, что могут заключать в себе слова и звуки песни, не умея еще расположить слова и звуки так, чтобы их строй выстраивал душу, уже думал о дальнейшем. О том, что и зримые оком образы могут такожде тревожить либо же успокаивать душу, и запахи, и прикосновения тоже. Коли бы разобраться в том, научиться выписывать из песен и образов красивые речи, можно было б научить душу бытовать праведно, по вере и Правде. Некрас сознавал, что Правды у всяких племен и родов разные, но верил, что есть такие истины, кои для всех одни и те же. Вот к сим истинам и надлежало вести свою душу, разговаривая с ней реклом, звуком и образом.
Каковы эти истины, Некрас покуда не знал, да это его и не слишком заботило. Сейчас он мечтал постичь язык, на коем говорит душа, – хотя б ту его долю, кою составляют звуки. А там, звук за звуком, дойти и до великих истин. Да и чем, как ни этим, жили все ловцы звуков, век за веком близясь к началам правды, и немало уж в том движении преуспели.
Некрас, проходя по плутающей меж источенных ветром каменных глыб еле видной тропе – когда-то, должно быть, здесь доставали из земли для некой потребы камни, – думал о том, как истолковать сон, что видел он сквозь оберег. Одно дело было выглянуть в дыру, что являл собой черный ком Гурцатова сна. Этого Некрас сделать не мог, равно как и назвать сейчас те истины, что верны для всех и на все поры. Но вот истолковать все, что видел Зорко и слышал сам, дабы превратить видения и звуки в знаки, он мог хотя бы попытаться.
Теперь он шел по границе степи, видел ее дни и ночи и сумел, как ему казалось, что-то понять об этом невиданном крае, допреж считавшемся пустынным и диким. Ни пустынной, ни дикой степь не была даже здесь, где соприкасалась с совсем уж сухими землями. Мало того что Некрас слышал бытие недр, камней и токов, но и живые твари обитали здесь во множестве, и вся жизнь их была размерена и подчинена законам. Птахи и жуки, змеи и ящерицы, диковинные твари, похожие и на змей, и на ящериц разом, но одетые в крепкую костяную одежу сверху и снизу, куда и прятались, жили здесь, греясь на солнце, разыскивая воду и хоронясь от ночной прохлады. Дальше, за несколько десятков верст, земля одевалась короткой и жесткой травой, и поелику твердая глина позволяла звукам разбегаться скоро и далеко, не теряясь. И Некрас слышал, как трава прорастает и кланяется ветрам, как крадется по траве степной волк, как то ходят переступью, то мчатся скоком кони, как важно выступают, а то и припускают рысью звери-блудяги. Что уж было говорить о людях, коих в веннские земли пришло изрядно, а сколь еще осталось в степи, и овцах, коих насчитывалось еще более.
День, что стоял над половиною степи, был тем, что хранил в себе Гурцатов ум. Зол был предводитель кочевников, зол и жесток, как волк, но волк – умный зверь, о том все охотники ведают, а злобным и жестоким мнится человеку, кой козу и корову держит. Не мог быть темен разум у человека, кой сумел собрать воедино Степь, веками бытовавшую как жизнь в лесном озере: вроде и живо, а спокойно. Степь при нем поднялась вдруг, что река в паводок, всем единым телом, и хлынула на берега – иные земли. И не мог невежественный разумом человек подмять под себя обширные края со множеством воинов, коих, когда вместе собрать, было куда как больше, нежели всех степных полков. Светел был умом Гурцат, пусть и не вельми понятен и объясним для веннов.
Ночь над степью была тем, что покоилось под каждым разумом, на чем каждый разум стоял. Ночь была памятью степной земли, коя лежала внутри каждого сна каждого мергейта и видна и слышна одной только ночью, когда люди обыкновенно спят. В снах у веннов, за ярким днем с голубым небом, тоже найти можно было звездное небо, поглядывающее сквозь шелест зубчатых мелких листьев, осветленное белыми телами берез. Мир вышел в день из ночи, из материнского чрева, и все то, что есть искомого в человеке и в его разумении, пусть оно и не видимо ясно, видится в одеждах ночи. Оттуда, из этого искомого и ночного, и рождается всякое разумение и в него возвращается. И горе тому, кто вздумает ссорить в себе свой день и свою ночь.
И Гурцат, должно быть, пусть и был умен, такую ссору затеял. Может, вольно, а может, исподволь, незаметно нечто чужое вторглось к нему во сны и располовинило ночь и день, память степных тысячелетий и яркое брызжущее солнце Гурцатовой мысли и присущей ему ясной памяти. Исчезли из снов Гурцата сумерки и полусветы, в коих раскрывается перед разумом целокупная вечность, которая есть у каждого сильного племени, помнящего о своих корнях, и остался один лишь день, залитый солнцем, и черная пасть времени, куда рано или поздно канет любое солнце, уставши гореть само собой, если у него нет ночи.
Верно рек Зорко, утверждая, что сколь бы степняков ни срезало косой войны, а все одно, доколе есть в степи сила, что движет конными волнами, как ветер в далеком море водою, не будет там спокойствия. И Зорко, и Некрас равно искали корни и истоки этой силы, потому что как вода непобедима и сокрушит или обойдет любую преграду, так и народ, кой зиждит в себе некую силу, не согнется ничьей волей, пока не будет истреблен под корень, и не отступит, когда поставит себе цель. И Зорко, и Некрас видели средоточие этой силы в Гурцате. Но Зорко Зоревич, хоть и был зряч более других, не разумел, как послышалось Некрасу, иного пути, опричь как изничтожить самого хагана.
«Дело ли это? – мыслил кудесник. – Когда убьешь хагана, придет другой. Ни одним только хаганом сильна ныне степь, зане целое поколение мергейтов поднялось, будто волна, и остановить эту волну возможно лишь другой такой же волною, а где такую взять? А вот когда бы найти ветер, что волну эту не туда погнал, да заставить его дуть перестать! Ровно как звук, что досаждает вельми: можно и уши заткнуть, а лучше у худого музыканта орудие его отобрать».
Так думал Некрас и понимал себе, что тем, что смутило хагана степного, разум и совесть ему исказило, и было то темное облако, сквозь сны его катящееся. И потому возжелал Некрас облако это изловить. И было то не самое великое диво, поелику способны были те кудесники, что постарше, иной раз и облака по небоскату гонять, дожди и снега упреждая или призывая. А паче того было диво, что темное то облако было чьим-то сном, что Гурцату снился, а потому обладало это облако разумом, разум Гурцата смущавшим. И самым великим дивом было то, что люди на земле жили, кои могли без всяких волшебств – вроде того, каким владел Зорко, – в чужой сон проникнуть.
Такого и искал Некрас, полагая, что склонит его, пусть был то человек иного племени, открыть того, кто в сны Гурцата вторгся, и потом уж решить, как быть с ним.
* * *
Спустя еще четыре дня Некрас услышал наконец тех, кто шел с караваном, и то, что везли двугорбые звери. Были то многие тюки с вещами, а сделаны были те вещи из редких все камней и металлов. А еще везли ткани, должно быть шитые да узорчатые. И еще дерево везли, такое, надо разуметь, какое в полдневных краях не произрастало. Каких-то пород Некрас не различил, не ведая прежде об их бытии, а вот можжевельник узнал по бурчанию и кряхтению преизрядному, что тот издавал, даже будучи срублен.
Разные люди караван сопровождали: полные и худощавые, высокие и приземистые, по-разному одетые. И народам они принадлежали разным. Это Некрас различал уже не по слуху, а по следам, потому что глина и пески отступили и путь их вел ныне по рыжей и бурой короткой траве, росшей пучками. Он умел слушать как никто другой, если не считать некоторых животных и птиц и его собратьев-кудесников, но умел и читать по следам, потому что в лесах без этого умения жить было б тяжко.
Но след нужного ему человека он увидел сразу. Помня о том, что поведал ему старик, водивший караваны, Некрас уже на месте второго привала, сделанного шедшими впереди, нашел глубокий разрез, рассекший почву. Он заночевал на этом месте, зане в ложбине у подошвы невысокого круглого холма, коими изобиловала степь, из расселины сочилась вода, сбегая слабой струйкой и исчезая в песке. Ночью, когда, судя по движению светил, минула двенадцатая часть дня после полуночи, Некрас услышал будто бы тихое завывание и стон. Он не стал вскакивать, а прислушался, ибо подумал, что это явилась некая ему неведомая доселе степная тварь, какую он не услышал почему-то ввечеру. Но звуки, им слышимые, умножились, донесся шелест и неясное бормотание. И Некрас, кой мог разгадывать речь косных вещей и животных, не смог разобрать это бормотание и понял, что это речь разумного, то есть человека или духа. А потому как человека, даже пешего, в пустой степи он услышал бы за десять верст, то рядом с ним явились в ночной мир духи, чего ранее по дороге, начиная от лесов за Светынью, не приключалось.
А вой и стоны все прибавляли в голосе и силе, будто пробовали поначалу окружающее пространство, как котенок осторожно трогает лапкой клубок или змей ощупывает раздвоенным языком незнакомое препятствие, а потом, почуяв уверенность, возликовали. Некрас не страшился. Он ведал, что чужие духи, если они кровожадны, смогут узреть его лишь тогда, когда он уронит в их присутствии хоть каплю теплой живой крови, но ни единой кровоточащей ранки или свежего пореза на его теле не отыскалось бы. А те духи, что не питаются плотью и кровью людей, а морочат им разум, не тронут его, пока он не примется нарушать их законы. Некрас даже огня не жег и место для ночлега выбрал ничем не примечательное. То, что здесь была вода, еще не значило особости.
Меж тем речь духов не была схожа ни с языком манов, ни с наречиями мергейтов. Куда более древние звуки составляли ее: это Некрас мог распознать, так же как любой человек способен сказать нечто о возрасте незнакомца, пусть и не скажет ничего о его народе и вере.
А духи все больше поднимали шум, точно на свободу выбрались из векового заточения и теперь были пьяны новой волей. Некраса они даже не замечали, проносясь где-то в усыпанной звездами вышине, хохоча так, как это делали тысячи лет назад. Кудесник-венн лежал, укрывшись походным одеялом из шерсти блудяги-зверя, кое подарил ему караванщик, и вслушивался в ожившую вдруг древность. На ум ему пришел рассказ о стеклянных мечах с далекого вельхского острова и о том, чем были знамениты эти мечи, помимо того что могли разрубить железо. Слишком уж похож был порез на теле земли, что щерился в трех саженях от Некраса, на тот, из легенды. И венн понял, что вряд ли ошибается: следы сапог из доброй воловьей кожи, подбитых настоящими железными гвоздиками, были следами Человека со Стеклянным Мечом, того, кто мог входить в чужие сны.
И снова он резал своим мечом землю, хотя о таких его делах, с тех пор как пропал в колдовских туманах остров посреди пучины восходных морей, караванщик не поведал ничего.
«Что может случиться, когда он разрежет землю в нескольких местах?» – подумал Некрас. Он даже перестал разгадывать слышимые звуки из глубинных времен, просто запоминая их и надеясь раскрыть их суть потом, на досуге.
«Выходит, что этот таинственный вельх, что не пробовал смерти уже столько лет, не землю разрезает своим мечом. Земной спуд огромен, и такой надрез ему нипочем. Но много ли отличается та земля, что была тысячу лет назад, от нынешней? Далеко ли успела она подвинуться? Нет, недалече», – отвечал себе Некрас.
Земля, по разумению многих, и вовсе двигаться не могла, поелику где ж тогда надежа для рода человеческого? Только ловцы звуков ведали, что сие не так. Они слышали, как земля не только дрожит, когда, к примеру, ломится через лес сохатый или падает со скалы валун, но и движется исподволь, словно бы сложена из нескольких скатерок, покрывающих стол, и каждую скатерку потягивают в свою сторону. Как много тех скатерок было, ловцы звуков сказать не могли, но, сколь глубоко могли они слышать, нигде не было в земле такого места, чтобы не двигалось.
Духи древности заключены были в той земле, какой была она тысячи лет назад, когда венны жили не по Светыни, а за какими-то полуденными горами-косогорами. Стеклянный клинок взрезал пласты времени, точно хороший плуг разрезает пашню. И духи, что оставались на прежней земле, не в силах ее покинуть, вновь обретали свое место. Нет, они не умирали с течением времени, они просто отдалялись с удаляющейся прежней землей, замурованные в старое время, и оттого становились видны все хуже, все сильнее заволакивал их и без того тусклые, почти невидимые тела туман, все глуше доносились их голоса. Но стеклянный меч взрывал время, и старое время сквозь этот порез проливалось на новую землю, и теперь уже не духи прежнего, а нынешняя земля со всеми ее обитателями, да и сама по себе земля, переставала быть частью нынешнего времени, становилась тусклой, блеклой, подергивалась туманом, уходила куда-то прочь и в конце концов изникала, как это произошло с удаленным островом, где некогда появился на свет первый стеклянный меч.
Так, слушая звуки пляски, устроенной духами, Некрас проникал в тайну Человека со Стеклянным Мечом. Вот почему тот умел входить в чужие сны и добывать оттуда все, что ему заблагорассудится! Ведь всякий сон – это чей-то день, потому что не может быть в снах такого, чего нет на свете. А когда своим стеклянным мечом этот человек способен разрезать время и войти в любой день или выпустить любой день в день сегодняшний, даже в каком-то месте подменить день сегодняшний прежним, то и в любой сон он может войти так же легко. И так же легко он вынесет с собой любую вещь из любого дня и заменит ее на другую.
«Разве что, – подумал Некрас, – вдруг он не умеет точно расчислить, насколько глубоко следует разрезать время, и делает это наобум? Тогда он не сможет точно попасть в тот день, куда должен попасть. Вот если бы ему такой оберег, как есть у Зорко!»
И еще Некрас мыслил о том, что, когда можно выпустить назад, в прошедшее, любой нынешний день, нельзя ли проникнуть в грядущее? Вот если какой-нибудь стеклянный меч из грядущего прорвет сейчас скатерти времен и ударит рядом с ним, Некрасом, окажется ли он в грядущем? И что должно произойти, если стеклянный меч вонзится в землю так глубоко, что коснется начала времен? И что, если попадет глубже? Это что же выходит, земля изникнет вместе со всеми людьми, лесами и морями? Некрас допускал, что могло быть такое время, когда и земной тверди еще не существовало. А мог ли стеклянный меч достигнуть такого времени, что и время еще не началось?
От глубины и высей, в какие забирались эти вопросы, захватывало дух, и Некрас, казалось, вместе с неведомыми духами взлетал куда-то к хрустальным небоскатам и катился с них обратно, точно зимой с горки, а потом снова взлетал и слушал, как свистят лучи звезд, рассекая быстрее любой стрелы студеный и сухой воздух степи. Ему не терпелось прямо сейчас подняться на ноги и пуститься за караваном, но еще одна мысль останавливала его: зачем это Человек со Стеклянным Мечом сызнова принялся разрезать время и отправлять землю в прошедшее?








