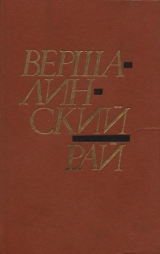
Текст книги "Вершалинский рай"
Автор книги: Алексей Карпюк
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
– «…благоухания!»
– «Радуйся, жизнь таинственного ликования!»
– «Радуйся, жизнь таинственного ликования!»
– «…ликования!»
– «Радуйся, невеста неневестная!»
Монотонное повторение, которому не было, кажется, конца и краю, так захватило кобринцев, что никто из паломников на страшевцев даже и не взглянул. С блестящими от внутреннего огня глазами, богомольцы миновали наконец мощеную улицу Страшева и снова подняли пыль на большаке.
Пораженные поведением взрослых, мы с братом проводили тетку Химку до самого леса.
ПАЛОМНИКИ С ПОДАРКАМИ И СКУПОСТЬ АЛЬЯША1
Все бо́льшие и бо́льшие толпы месили дорожную пыль по пути в Грибовщину. Людские ручьи сливались в реки и текли, текли в Грибово, как сокращенно стали называть теперь сельцо.
Кроме надежд и скудных злотых[7]7
Злотый – основная денежная единица в Польше.
[Закрыть] в Грибовщину везли в повозках подарки для божьего человека.
И еще везли больных и калек. А время от времени по хатам пролетал слух:
– В Грибове начали чудеса твориться, как некогда в Журовичах у иконы божьей матери на груше[8]8
Журовичская эпопея началась в десяти километрах от Слонима, в деревеньке Журовичи, во владениях казначея Литовского княжества, боярина Александра Солтана.
Согласно легенде, дошедшей до нас в многочисленных письменных источниках, 20 мая 1470 г. у названной деревеньки пастушки нашли иконку божьей матери с младенцем на руках, висящую на дикой груше в чащобе; иконку мальчики принесли своему боярину Вскоре вокруг нее начали твориться чудеса, которые взбудоражили крестьян из окрестных деревень, и боярин Солтан приказал около груши построить храм, а иконку перенести туда.
С того времени на Принеманщине много раз менялись власти. Церковь из православной переходила в униатство, потом опять в православие Вокруг первого храма вырос монастырь и еще три храма (один из них – Успенский собор, шедевр раннего барокко, 1609 г., вмещает до семи тысяч богомолов!) Сама же деревенька Журовичи стала центром Литовской епархии и усадьбой архиереев… А иконка божьей матери на груше (размером всего 8 сантиметров на 9, вырезанная на граните), помещенная в киот Успенского собора, на протяжении столетий оставалась для белорусов местом для излияния эмоций. Ни одни роды, ни свадьба, ни новобранство в рекруты, ни похороны не обошлись без того, чтобы молодая мать, невеста, бабушка или вдова не пришли сюда, чтобы выплакаться слезами счастья, горя или надежды, не притащили чего-нибудь в жертву.
Временами, когда способствовала погода, на всенощную в Журовичи 20 мая съезжалось из Западной Белоруссии до 100 000 пилигримов и до 2000 священников! Такое паломничество в Журовичи продолжалось до первой мировой войны. Тогда иконку и многочисленные архивы святынь монастыря запаковали в ящики и вывезли в глубь России.
В 1921 году Журовичскую божью матерь на груше привезли обратно. Вернулись и архивы, а монастырь, который кайзеровским войскам служил казармой, заполнили опять монахи. К общему удивлению, слава Журович за какие-нибудь пять-шесть лет померкла. В душе богомольцев за короткий отрезок времени произошел сдвиг, и теперь им нужен был идол активный, бунтарь. В Журовичах который год царила тоскливая тишина.
[Закрыть]. Немой из-под Новогрудка заговорил!
– Молодайка из Бельска была бездетной, Илья над ней помолился, она и понесла!
– А еще мужчине отбило память на войне. Прикоснулся у Альяша лбом к иконе – сразу все вспомнил!
Захватив для виду мисочку крупы, переполненная до краев новостями, которые рвались наружу, к нам прибежала Кириллиха. Убедившись, что отца нет, заговорила:
– Один человек там не верил в чудо. Обманщик, мол, ваш этот Альяш! И сразу ослеп. Пошел в Журовичи, божья матерь на груше ему и заявляет: «Уверуй, человече, в Илью, если хочешь белый свет видеть!» И что вы думаете? Тот поверил и стал опять зрячим. Привезли его в Грибово, глаза сразу стали чистыми-пречистыми, как росинки!
– А мою племянницу вожжами вылечил! – похвалилась Сахариха.
Кириллиха не уступала:
– Так твою Лизу бил! А к калеке из Дернякова Илья всего лишь прикоснулся, тот отбросил костыли и пошел на своих двоих! Только шрам остался в бордовую ниточку, чтоб люди знали, какое чудо сотворил господь, – человек теперь всем дает поглядеть его да пощупать!.. А на той неделе мужик из-под Картуз-Березы привез жену, в нее что-то влезло. «Куда ты меня тянешь? Я туда и головы не могу повернуть!» – говорил в ней голос, а сама плачет! Альяш прочитал над бабой «Верую…». Муж вчера вез ее через Страшево домой. «Как воды целебной испила, – и легко мне, и хорошо. Есть сразу захотелось!»
– Это она теперь так говорит! – сказала Сахариха.
– Ну! «Видишь, а ты все упиралась, как маленькая, все не хотела ехать в Грибово!»
– А это ей муж отвечает!
– «Ей-богу, Серафим, ничего не помню!»
– Опять она!
– Покормила я их, сели оба на воз и поехали! – Кириллиха обвела всех торжествующим взглядом.
Старший сын у Кириллихи был тяжелобольным. Чтобы лечить его, не хватило бы всего хозяйства. Какая мать не воспользовалась бы случаем испытать счастья?!
Видя, что мама все еще сомневается, Кириллиха для эффекта хлопнула себя по бедрам.
– Поглядела бы ты, Манька, что там творится! Костылей всяких у церкви, что у твоего Ничипора дров! Даже тележек на велосипедных колесах брошена уйма! Синих очков, что слепцы набросали, целая горка!.. И вот диво: туда идешь – ноги свинцом наливаются, а оттуда как на крыльях летишь, истинный бог! Какой-то Рыжий Семен из-под Вилейки босиком по снегу шел в Грибовщину – и ничего, не отмерзли ноги! Данилюк из Рыбал возил старую мать, больную жену, тещу, трех дочерей. Всю ночь просидели они на корточках на снегу, всю ночь промолились – и хоть бы кто кашлянул потом!..
Кириллиха ни разу не была в Грибовщине, мама хотела напомнить ей это, но подумала о ее припадочном Василе и промолчала.
2
Пришло время, когда Альяш начал получать по нескольку тысяч злотых в день. Вечерами он запихивал выручку в конскую торбу, вез ее в Кринки, пересчитывал, а потом закапывал в горшках в хвойнике. Застав однажды пастушков, играющих его монетками в орла и решку, он стал прятать выручку в сарае. Но и это место оказалось ненадежным.
Два сельских сторожа однажды укрылись от дождя в сарае. Один из них откинул сноп, а под ним банкноты! Пока другой размышлял, брать или не брать, первый напихал в карманы семь тысяч злотых (хороший дом поставил в Соколке впоследствии!), а святой на следующий день даже и не заметил пропажи.
Жуликоватый племянник Альяша наворовал тысяч десять, поехал в столицу и прокутил их с компанией.
Церковным сторожем Альяш нанял Феликса Станкевича, сына хозяина, у которого некогда пас гусей Полторак. Хитрый Фелюсь однажды до смерти перепугал пророка чертом и заграбастал все, что за праздничный день насобирали от богомольцев.
Кринковские торгаши оптом скупали у Альяша приношения и подарки, телегами вывозили из села. Многие добивались должности учетчика при церкви. Студенты Гродненской учительской семинарии, Белостокской торговой школы зачастили в Грибовщину «на заработки», и это был самый выгодный для них источник наживы. Плата за учебу была очень высокой, и один мой знакомый благодаря Альяшу успешно окончил даже среднюю профессиональную школу – нечто вроде торгового техникума.
Денежные пожертвования богомольцы складывали в кучки перед иконами. Студент на коленях подползал к иконе, истово бил поклоны и при этом старался захватить губами как можно больше монет. Набив рот, парень выбирался наружу, скоренько перекладывал мокрые монеты в карманы и снова втискивался в толпу, норовил сделать второй, третий и четвертый заходы.
Но эти студенты были мелкой рыбешкой.
Со всех концов Польши хлынули в Грибовщину нищие и бродяги, воры и жулики, большие и малые комбинаторы.
– Икону обновить не требуется, матка? – приставали к хозяйкам такие типы, держа в одной руке бутыль с какой-то жидкостью, а в другой кисть. – Как жар будет гореть, и совсем дешево – за одно угощение!
– Обойдется! У нас своих чудес хватает, – выпроваживали мужики очередного лихоимца.
Может, только обновителям и не везло в Грибовщине. Остальным проходимцам было чем поживиться.
Как-то в Гуранах к Кастецкому Мирону зашел молодой и вертлявый полупанок из Белостока.
– Я Вацек, – представился он. – Мне нужна подвода до вечера. Дам пять злотых!
С полевыми работами Мирон как раз управился, конь стоял без дела, пять злотых на дороге не валяются.
– Можем договориться…
– Бочка какая-нибудь у тебя имеется? – бойко осведомился Вацек.
– Разве только кадка из-под огурцов, – полез пятерней в затылок Мирон. – Воняет, правда, еще и рассол не выливал, чтоб не рассохлась…
– Лишь бы не текла. Тащи! – энергично скомандовал гость.
Взвалили кадку на телегу и поехали. По пути Вацек начал расспрашивать Мирона про Полтораков клад, где он зарыт и не согласится ли Мирон за вознаграждение показать это место. Мирон уверял, что ничего об этом не знает, но Вацек не поверил.
Так они добрались до места.
В колодце у Острова набрали полную кадку воды. Полупанок вылил в нее бутылку сиропа, размешал веткой, горстью зачерпнул ядовито-малиновую жидкость, попробовал на язык и с отвращением выплеснул остатки назад.
– Гадость какая, фе!.. Ну ничего, будут лакать и такую! Поезжай к своей церкви!
Возле церковки повозку сразу обступила толпа.
– Пять грошей стакан! – объявил Вацек. – А ну, не сбиваться, как овцы! В очередь, в очередь!..
После трех заездов к Острову у Вацека сиропа не осталось, но люди все равно платили за воду и без сиропа.
В стороне от бойкой торговли колодезной водой развернул деятельность бродячий фотограф, друг Вацека. Он брал задаток, выписывал квитанцию со штампом несуществующей фирмы и щелкал затвором фотоаппарата, обещая снимки через неделю. К полудню «фотограф» внезапно сложил треногу, подошел к Вацеку и что-то ему шепнул. У того тоже отпала охота к торговле водой. Вытащив из кармана горсть монет, он объявил:
– Получай, хозяин, свою долю и мотай домой!
– Что так много! – опешил Мирон. – Мы ж договаривались…
– Ты заслужил. Хватай, когда дают!
Мирон отсчитал ровно пять злотых, остальное вернул Вацеку. Тот, пристально посмотрев на подвозчика, пожал плечами.
– Идиот!
Полупанки направились к церкви. Бесцеремонно растолкали старушек, добрались до главной иконы и на глазах молящихся спокойно стали набивать карманы бумажными купонами.
– Чего вытаращили бельма, дуры? Здесь все крадут! – еще больше поразил Вацек женщин богохульными словами. – Даже ваш этот Христос, – показал он на распятье, – брал бы, если бы ему руки к кресту гвоздями не приколотили!
Пока бабки обрели способность голосить, жулики уже были на улице. Поднялся переполох. Мужики вытащили из телег шворни, схватили дрючки и ринулись за ворами, но те скрылись в густом сосняке – только их и видели.
Случай этот был рядовым, и назавтра о нем уже никто не вспоминал.
3
Однако и после краж в распоряжении пророка оставались крупные суммы. С такими средствами Климович мог бы сделать много полезного для людей – построить школу, больницу, помочь бедным. Но от всего этого он был очень далек.
Если кто-либо из односельчан просил его одолжить денег на корову, потому что дети без молока сидят, или на коня, который сломал ногу, Альяш просителям отказывал.
– Сам думаю, где бы раздобыть. Строить надо столько всего! И колокола надо купить! Мои помощники колотят в било каждый день, как в имениях!
Его зятя отвезли в белостокскую больницу «удалять слепую кишку». Утром к Альяшу прибежала взволнованная дочь Ольга.
– Здравствуйте, тату! Ну как вы тут живете? – Она огляделась в бедной хатенке. – Хоть бы раз к нам заглянули!.. Ой, как у вас тут грязно! Даже не подметено…
Только теперь она заметила двух жен-мироносиц, притаившихся за отцовской кроватью. Там стоял сундук, и было видно, что обе только что копались в нем.
– Не могут ваши квартирантки хату вам подмести, руки у них отсохнут? – обиделась дочь.
У Альяша как раз жили наша Химка с племянницей Сахарихи.
– А если ваш тато не хотят, чтобы мы подметали и прибирали? – виновато оправдывалась Химка. – Сколько раз мы брались за веник, а они отбирают!
Ольга не захотела вступать с женщинами в спор.
– Ладно, как-нибудь нарочно приду навести порядок. А теперь я к вам по делу!
Она заговорила тише:
– Тату, дайте денег! Доктора требуют двести злотых! Говорят, если не заплачу вперед, к Олесю и не подойдут даже! А где мне взять такой капитал! Это же две коровы!..
В глазах у отца ни сочувствия, ни любопытства, хотя он дочь не видел давно. Из-под кустистых бровей глаза глядели с враждебной настороженностью.
– Никому не даю! – ответил он.
Дочь и не надеялась на скорое согласие, не обиделась. Решительно подсела к нему на лавку и продолжала свое:
– Был бы он хворый, а то такой здоровяк! Ничем не болел, как тот корч сосновый, вы же хорошо его знаете! Но и его взяло!.. Зимой не во что было одеться – и вот… У вас все равно крадут кому не лень. Не пожалейте на такое дело, тату! Докторам что! Помните Балейку из Городка? Не заплатил он, жена так и померла в приемном покое…
Старик сурово молчал.
– Умрет Олесь, сироты останутся, что мне с ними де-елать? У-гу-гу-гу-у!.. – попыталась она разжалобить отца слезами. – Вы же за мной ничего не дали в приданое, и от дяди Максима нам ничего не досталось! Пожалейте хоть сейчас-то… Что для вас двести злотых? У вас же тысячи…
– Не могу, Ольга! Церковные они, а не мои! Грех на мне будет! – Альяш тяжело вздохнул и минуту помолчал, будто всматривался в себя. – Даст бог, не помрет твой человек, не плачь, один господь владыка нашего живота и смерти. Волос не упадет с головы нашей без его воли!
Некоторое время Ольга, остолбенев, молча смотрела на отца, потом застывшие в уголках ее глаз слезинки засверкали холодными огоньками, и молодицу прорвало:
– А-а, вы все такой же!.. Так слушайте же теперь меня, тату! Я вам скажу, я вам всю правду выскажу! Сторож ваш, Феликс Станкевич, вор! Он обокрал вас! Никакого черта в церкви тогда не было! Он черного петуха в окно вам бросил! Вы из церкви побежали, а Фелюсь собрал деньги в мешок и передал шурину в Шудялово. А тот сразу купил молотилку, а остальные положил в банк. Смеется над вами, дурнем! Напьется в кринковском ресторане и хвалится, какую прибыль имеет от церкви! Ха-ха!.. Завели себе забаву такую, гуляете, как маленький, а что творится вокруг вас, не видите!.. Тату, вы слепой!..
Самолюбивый старик опешил – ее слова слышали богомолки.
– Ты как со мной говоришь?! Учить отца вздумала?! Для этого приперлась сюда?
Но присутствие богомолок только окрылило Ольгу. Она резко встала, отошла от лавки, крича:
– Слушайте, тату, слушайте, я еще не все сказала! Из-за своей блажи вы и маму свели в могилу! Вы ей даже ведра воды никогда не принесли! Мужики еще и теперь смеются, как вы когда-то всю хату со злости водой залили! А вы забыли, как кринковский фельдшер, гребень из маминой головы выдирал?.. Так вспомните! Они из-за этой раны вскоре и померли! И дядины пять тысяч вы на ветер пустили из-за церкви! Из-за нее и брат Толик из дому ушел! И я из-за нее веру в бога потеряла! Если бы он был на небе хоть какой, он не позволил бы вам вытворять все это, давно бы молнию наслал на вашу паршивую церковь!..
– Господи Иисусе! – с преувеличенным испугом закрестилась жена-мироносица из Мелешков. – Матерь божья, прости ее, грешную!
– Еще и богохульствуешь?! – рявкнул старик.
– Называйте как хотите, а я высказала все, что думала, я не могла иначе!
– Как с родным отцом говоришь, спрашиваю? Кощунствуешь?!
Дочь вышла из себя:
– Какой вы мне отец? Вы меня хоть одну зиму пустили в школу, как другие? Хоть раз свозили куда-нибудь, когда маленькой была? Хоть одну сказку рассказали? Да вы ни разу не приласкали, не пожалели меня, по голове даже не погладили, как другие…
– Попрекать меня вздумала?! Да я тебя! Ты руки и ноги целовать мне должна, до земли кланяться за то, что на свет тебя пустил! Давно крапивы не пробовала, шалава!
– Вот-вот, всегда так! Доброго словца от вас не услыхала за всю жизнь! Сладкого кусочка от вас не попробовала! Бублика ни разу не купили!..
– Вишь, про бублики заговорила! Вон о чем вспомнила, а о душе забыла, жрать бы ей только! – Разъяренный Альяш поднялся с лавки и пошел к дочери. – Отца хулить приволоклась? Родного отца? Разве посмел бы я на своего…
Вызывающе глядя на отца, дочь не тронулась с места. Альяш, поперхнувшись словом, огляделся, ища чего-нибудь взять в руки, но ничего подходящего на глаза не попадало.
– У-у-у, развратили вас всех города, распустили! Бога все забыли, сатане продались! Мало, мало я тебя порол, только теперь вижу!.. Вон из моей хаты, богохульница, марш отсюда, выродок!
– Да, вижу, вас не переделаешь, поздно! Горбатого могила исправит! – устало и неожиданно спокойно сказала Ольга. Голос ее сделался твердым: – Можете не гнать, сама уйду!
Она направилась к выходу.
– Поговорила с таточкой родным, побеседовала, ничего не скажешь! Уж та-ак файно побеседовала!..
– Еще и денег церковных дай, видали такую! – шипел старик, вне себя от злости.
– Да хватит вам, не нужно! Обойдусь, если вы настолько слепые! У кринковского Хайкеля попрошу!
– Иди, иди, богохульница, валяй к своим христопродавцам! Тебе это только и осталось, креста на тебе нет! Выродок антихристов! Больницы захотелось? Не надо было ему с косой к житу ходить летом! Доведут, доведут вас города со своими чертовыми выдумками, увидите еще – все в пекле будете! Еще и политикует в моем доме тут!..
Дочь остановилась у порога и пригрозила:
– И пойду! К чужим людям в Белосток подамся, служанкой наймусь! В Валилы – доски таскать на лесопилке! На самую грязную работу пойду, а Олеся все разно выручу! Пока жива, не допущу, чтобы мои дети сиротами остались, не будет этого!.. Но запомните, тату: внукам закажу, чтобы не признавали вас, за версту обходили! И даже тогда, как помирать станете…
Она сверкнула злыми глазами на богомолок.
– Оставайтесь тут со своими полудурками, играйте себе в святых и ангелов, ставьте свечки! Тьфу на вас за Олеся, за Толика, за маму несчастную! И будьте вы прокляты на веки вечные!
Она изо всей силы хлопнула дверью.
Химка, рассказывавшая впоследствии в нашем доме об этой сцене, осторожно посоветовала святому:
– Может, бог не обиделся бы, Альяшок, не покарал бы за такое?.. Все-таки дитя родное, своя кровь!.. Дал бы ты ей эти деньги! Где Ольге найти их сейчас?!
Пророк вызверился на нее:
– А вот эту дулю видела?! Я что, кринковский торгаш, по-твоему, процентщик? Ишь чего захотела! Дай взаймы одному – набежит голодранцев, казначеем у них на селе станешь вмиг! Один вернет, за другим походишь, третий скажет: «Не брал и знать тебя не хочу!..» Тут такое начнется, знаю я их!.. Грошика от меня не дождутся церковных денег!
– Правда твоя, Илья! – льстиво поддакнула Сахарихина племянница. – Расти-расти детей, а от таких потом ни помощи, ни уважения, только обида и срам! Лучше уж без них!
– Сама видишь, как они теперь своих отцов почитают – яйцо курицу учит!..
4
Грибовщинцы запомнили единственный случай, когда Альяш отступил от своего правила.
Старик ехал в лесничество Почепок, а Микола Чернецкий пахал у самой дороги. Как водится, Альяш бросил: «Помогай бог!», Микола ответил: «Слава богу!» – и хотел уже начинать другую борозду, но увидел, как что-то упало с Альяшова возка. Микола окликнул Альяша, вышел на дорогу и поднял конскую торбу.
– Ух ты-ы, какая тяжелая! – подивился Чернецкий, взвешивая торбу в руке. – Вы, дядька Альяш, буланчика своего, поди, чистым овсом кормите да еще и фунт соли подсыпаете, то-то он гладкий такой!
Старик слез с облучка, засуетился:
– Ты погляди!.. Как же это она, холера, вывалилась?! Под собой все время держал!.. А-а, в одну торбу маслят наклал оси смазывать и сел на них, а про эту забыл!..
Он развязал узел, и Чернецкий обомлел, увидев в торбе столько денег.
– В Вильно собрался, – разъяснил старик. – Надо в церковь на окна заказать эти… (хотел сказать: «витражи», да забыл слово). Двести верст туда. Долго придется тащиться – пять или десять дней…
Кажется, совсем просто поделить двести на пятьдесят верст, которые в сутки может сделать подвода, но ему эта арифметика была не по силам. Все еще пораженный содержимым мешка, Чернецкий заметил:
– А вы туда велосипедом, дядя, махнули б! За два дня наши хлопцы добираются.
– Нехай уже гицли[9]9
Гицель – жулик, бродяга (нем.).
[Закрыть] на нем ездят! – Альяш уже завязал узел да вдруг снова размотал веревки. – Бери себе три горсти за то, что сказал! – шепнул старик, будто их кто мог подслушать на поле.
Чернецкий растерялся:
– Что вы, дядя Альяш! Не нужны мне ваши деньги, что мне с ними делать?!
– Бери, бери, – тоже растерянно, пряча глаза, уговаривал Альяш, расчувствовавшись. – Хату покроешь гонтом. Иди черепицей… В Стоках, под Свислочью, теперь добрую делают, никакой ветер не страшен ей, дырочки специальные для проволоки проткнуты.
Случилось это уже после того, как Альяш вознесся на вершину славы и подобрел настолько, что характер его стал меняться.
Богатство его растрачивалось безалаберно. Закупались огромные распятья с позолоченными цепочками. У купцов Альяш набирал центнеры свечей, серебряные паникадила, всевозможную церковную утварь, всегда дорогостоящую. Накупал сотни молитвенников с аршинными буквами, чтобы их могли читать старики.
Была даже послана делегация в Почаев – купить в окладе из чистого золота икону Журовичской божьей матери на груше, а в чистом жемчуге икону Неопалимой Купины – против пожаров.
Монах пообещал за два пуза золотых царских монет доставить из Ерусалима один из гвоздей, которым был распят Христос, и старик начал собирать монеты для приобретения этой реликвии.
Глава II
АЛЬЯШ, НЮРКА И «ПОЛЗУНЫ» – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ1
Мне довелось видеть пророка. Встреча с ним оказалась для меня драматической, и это потребует подробного описания. Я повествую обо всей этой эпопее ретроспективно, смотрю на нее с высоты прожитых лет, трезвым взглядом взрослого человека. А тогда все воспринимал совершенно иначе.
Хотя рос я в семье атеиста и разделял взгляды отца, это не мешало мне верить в бога. Стоило кому-нибудь меня обидеть, как я уже прятался от людей и молил бога наказать обидчика. Что так оно будет, я нисколько не сомневался.
Я твердо верил в загробную жизнь. Земля представлялась мне чем-то вроде огромного экзаменационного зала, где бог испытывает людей, отбирая лучших из них для дальнейшей жизни. Плохие люди и воры пакостили хорошим людям, портили жизнь вообще, и я мысленно говорил им:
«Вытворяйте, вытворяйте, бог видит все, он для вас приготовил пекло, а для нас рай!»
Отец Владимир на уроках закона божьего красочно расписывал нам загробную жизнь, а у соседей наших – Клемусова Степана и маленького Рыгорулька – имелись библии, в которых эта жизнь представлена была в страшных рисунках, которые потом снились нам, если на них долго смотришь.
Я был уверен: в таком вот огромном котле со смолой будет кипеть учитель Янковский, высмеявший меня перед всем классом за то, что я не знал, как по-польски называется мотылек.
Будет там жариться и старый Тивонюк за то, что травил меня своим кудлатым Рексом за поломанную сливу, и полицейские, не раз забиравшие отца и увозившие куда-то, и тогда нам с Володькой нужно было каждый день очень рано вставать, самим резать солому на корм коровам и кобыле, колоть дрова…
Я хорошо представлял себе, как окруженные во́ронами черти в небесах, сцепившись для большей устойчивости хвостами, наваливают грешников на повозку, как снопы, пересыпают их солью, красными муравьями, змеями да черными пауками, а у ног их сторожат бешеные псы.
Вороны злорадно каркают, бешеные собаки норовят цапнуть какого-нибудь грешника за ягодицы, старый Тивонюк, полицейские, Янковский вопят и просят пощады, но черти неумолимы. Насобирав большущий воз негодяев, часть чертей остается на месте. Опершись на вилы, они выстроились вдоль забора, терпеливо чешут себе копытцами тонкие ноги и жадно глядят, кому броситься на подмогу. Остальные же рогатые погоняют коней к огромному жерлу, из которого дышит смолистым дымом и вырывается пламя и слепит глаза.
Перепачканные, взмокшие черти сбрасывают злодеев в кипящую круговерть – только летят обжигающие брызги! Так им и надо! Разве можно, чтобы на свете было так много несправедливости?! Чтобы один обижал другого только потому, что больше и сильнее его?!
Ого, на свете порядок! Укради даже несчастный грошик, и на страшном суде тебе положат его на висок, от адского огня металл потечет, польется тебе в мозги, чтобы ты знал в другой раз, как красть. А как же иначе?! Без бога и пекла на земле воцарится мрак, хаос, станет совершенно невозможно жить.
Еще я знал от тетки Химки: за мной неотступно следует мой невидимый ангел-хранитель. Я даже за стол садился с осторожностью – не прижать бы его нечаянно плечом.
Даже смерть меня не пугала. А чего бояться?
Меня после смерти ожидал рай – житье, как у дачников из Гродно или Белостока, что наезжают летом в село: ни тебе уроков, ни пастьбы коров, ходи себе в трусиках среди синеватых султанов глянцевитой куги у речки, лови улиток, гоняйся за кузнечиками с их блестящими крылышками из целлофана да ешь сколько хочешь шоколада и конфет в серебряных обертках.
Когда меня порой обижали родители, я мечтал поскорее умереть. Вот будут рыдать, вспоминая, как меня обидели, – и пусть!..
В Альяша я поверил с радостью.
В воображении мне рисовался хрустальный дворец. Он сверкал, как глыба льда морозным утром. В роскошном этом дворце я видел пророка – могучего Илью Муромца, справедливого и доброго. Он парил на ковре-самолете из комнаты в комнату, с одного этажа на другой. Над его головой сиял золотой венчик нимба, будто ловко пущенное дядей Николаем, братом мамы, колечко дыма из папиросы. Вокруг порхали голенькие ангелочки и горстями разбрасывали огненные искорки. Огоньки эти шипели и разлетались во все стороны.
Поэтому от новостей, пришедших из Грибовщины, жить стало куда интереснее.
2
Я жадно ловил слухи об Альяше. А говорили о нем у нас каждое утро, каждый день и каждый вечер.
Больше всех о событиях в Грибовщине знала Нюрка, которая ходила из дома в дом и всем ткала ковры – зарабатывала сестрам на приданое.
Родом Нюрка была из беловежского села Забагонники. В курных избах этого бедного села, где не продохнуть от чада, ни к чему не прикоснуться из-за копоти, быть бы Нюрке худой, как смерть, и черной, как трубочист. А она, наоборот, была на диво здоровой и краснощекой. Ее сатиновая кофта сияла снежной белизной и вышитыми, будто только что сорванными, васильками. Влажные белки ее синих-синих, как у мамы, но более крупных глаз блестели, точно вымытая эмаль на новой кастрюльке. Из-под берд, которыми она проворно дергала, легко, будто сами собой, рождались чудесные узоры – зеленые, желтые, бордовые олени, птицы, кубики, цветы…
Неземная белизна вышитой кофты, блеск эмалированных белков и смазанных коровьим маслом волос, ее мастерство постепенно убедили меня, что Нюрка святая. Я терялся в ее присутствии.
Чаще всего я забивался в темный угол и неотрывно глядел оттуда на девушку-ангела, упивался звуками ее голоса и ее обликом. А женщины, склонившись над кроснами, в это время говорили о рае.
– Мама моя говорят: «Пока перезимуешь, так промерзнешь, что летом не верится – неужели вытерпели?!» – монотонно тянула Нюрка. – А в раю всегда тепло, как у нас на Петра и Павла, зиму и лето можно без рукавов ходить. Только не каждый туда попадет, апостолы за этим следят строго.
– Говоришь, строго? – не то шутя, не то всерьез переспросила мама.
– А то как же! Туда каждому хочется! Мама моя обязательно попадут. Ни одного богослужения, ни одного поста не пропустят, плохого слова не сказали в жизни своей, ножа в руки не взяли в воскресенье!.. А я о-очень уже грешная! О-ой, какая грешница!.. Все хорошо у меня, хорошо идет, а потом и сама не знаю, как наемся без меры или обговорю девчат своих… Не, не вслух, никто не слышит, да ведь все равно!
– Так зачем ты так, Нюрочка?
Девушка с сожалением вздохнула:
– Верно, сатана подбивает, а я поддаюсь.
– И никак не можешь сдержать себя?
– Ох, ни в какую! И молюсь, и наказания себе придумываю, а все напрасно!
Я точно знал, за что попадают в рай. За убитую змею бог отпускает сразу четыре греха. За посеченную крапиву под забором – пять. За помощь старому – один. А не послушаешься родителей – прибавляется пять грехов. Напаскудишь в речку – два греха. Бросишь на землю кусок хлеба – три. Все грехи прощаются сразу, если убьешь полевую жабу. Но ведь она ведьма! Попробуй, убей! Пока ты целишься в нее камнем, она может наслать чары и умертвить твоего отца или мать…
Я вел точный учет своим промашкам. Учитывал каждого убитого в лесу гада, посеченную на селе крапиву и внимательно следил, чтобы сумма добрых поступков всегда превышала дурные. Такой баланс твердо выдерживался, и не пускать меня в рай у апостола Петра не было оснований.
Приятнее всего было фантазировать, как мы с Нюркой парим в облаках. Светит солнце, на высокой ноте звенят пчелы, озабоченные шмели задом выползают из цветков, клекочет аист на тополе у реки, а его аистята с еще черными клювиками пробуют крылья.
– …В прошлом году у нас тоже обновилась, – откусив нитку, говорила уже о другом Нюрка. – Спаситель обновился. Развесила я белье на заборе, вернулась домой – что-то на всю хату сияет!.. Мы с мамой глядь, а это икона горит на всю хату! Альяш их нам две подарил – маме и тату. Богатые такие, фа-айные, и под стеклом обе! Благословил и говорит: «Вот вам на всю жизнь: тебе спаситель, а тебе, Ганна, Заблудовский Гавриил…»
– А почему они все обновляются, скажи мне, Нюрка? – все так же полушутливо, полусерьезно поинтересовалась мама.
– Это, тетя, божья тайна! Такая есть сила господня!
– Есть, говоришь, сила?
– А как бы вы хотели?.. Все-таки святой лик! Или иногда на человека сойдет сила божья, и он сам тогда не знает, что говорить будет. Как на Альяша. Ему так дано, что он всех видит насквозь, всем на грехи указывает, аж жутко, как он предан богу и служит правде! Я сама видела! Какая-то городская молодка подошла под благословение, а Альяш ей: «Ты волосы не свои, подвитые, сними! И шпильки выкинь! Думаешь, обманешь кого, блудница?!» А она и правда косы чужие так файно подвила себе, что не сразу и разберешь… И так, тетя, он каждому в глаза прямо и скажет – кому про блуд, кому про обман какой…
Женщины помолчали.
– Что-то нашей Химки давно нет, – вспомнила мама. – Которую неделю в Грибовщине молится. И хозяйство запустила, картошка заросла, пришлось за нее окучивать… Неужели так там и останется?.. Кто же землю-то ее будет обрабатывать? Тут со своей едва управишься!
– У жен-мироносиц там работы хватает. Наши девчата из Забагонников тоже пошли! Одной наши парни марш сыграли на вечеринке, а другим некуда было себя девать…
Нюрка вздохнула, подняла голову над основой и задумалась.
– Альяш берет их в святые девы. Вот вытку вам ковры, тоже пойду…
– Неужели пойдешь и ты в Грибовщину? – встрепенулась мама и покачала головой не то с осуждением, не то с сочувствием.
– Как же не пойти, тетя Маруся! Нашим девчатам файно там! Только много псалмов надо разучивать да петь потом, но сами подумайте – разве это работа? Живут себе на всем готовеньком, в тепле всегда… Можно было бы и в Белосток или в Гродно идти служить к панам, но в Грибове все же легче и ближе к богу…
Меня будто обухом стукнули.
«А как же я?..» Ощущение невосполнимой утраты пронзило сердце.
Некоторое время только постукивало бердо да со свистом прошивал челнок натянутые нитки.
– Скоро, тетя Маруся, Илья будет проезжать через ваше Страшево.
– Серьезно? Откуда ты это взяла?
– Вот увидите. Я знаю, что говорю.
– Зачем же его черт понесет сюда?
– Так ему бог указывает! Господню тайну нам, грешным, не понять.
– Не понять?
– Куда там! Легче травинки, зерна мака и песка посчитать, а дел его не постигнешь вовек!
3
Село постепенно стало лихорадить от вести, что вот-вот сюда заявится сам Альяш. Бабы только и говорили об этом событии. Мужики грозились подстроить пророку какой-нибудь фокус.
– Пусть, пусть только припрется! – недобро блестели глаза отца.
– О-о, тут ему не какие-нибудь Праздники или Рыбалы! – поддакивали мужики. – Больше соваться в Страшево не захочет!
А жены их ждали святого, как архиерея. Даже собрались на совет. Тетка Кириллиха предложила устлать улицу полотном. Обсудив предложение, женщины сошлись на том, что и тут не обойдешься без мужей: не разрешат, не такие теперь пошли мужчины!
– Ах, да что мы говорим! Дети сбегают в ольшаник и наломают веток! – нашла выход Сахариха. – Верно, хлопцы?
– Налома-аем! – с радостной готовностью отозвались мы.
– Вот и хорошо!
– Листва еще молодая, пахнет!..
– Ну и ладно! – согласилась Кириллиха. – Выстелем дорогу зеленью, еще как файно будет!








