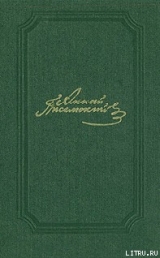
Текст книги "Тысяча душ"
Автор книги: Алексей Писемский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
V
Палагея Евграфовна что-то более обыкновенного хлопотала для приема нового гостя и, кажется, была намерена показать свое хозяйство во всем его блеске. Она вынула лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее снега и выкатанное так, хоть сейчас вези на выставку; вынула, наконец, граненый хрусталь, принесенный еще в приданое покойною женою Петра Михайлыча, но хрусталь еще очень хороший, который употребляется только раза два в год: в именины Петра Михайлыча и Настенькины, который во все остальное время экономка хранила в своей собственной комнате, в особом шкапу, и пальцем никому не позволила до него дотронуться. Обед тоже, по-видимому, приготовлялся не совсем заурядный. Приготовленные большая вилка и лопаточка из кленового дерева заставляли сильно подозревать, что вряд ли не готовилась разварная стерлядь. Настеньке Палагея Евграфовна страшно надоела, приступая к ней целое утро, чтоб она надела вместо своего вседневного холстинкового платья черное шелковое; и как та ни сердилась, экономка поставила на своем. Во всем этом старая девица имела довольно отдаленную цель: Петр Михайлыч, когда вышло его увольнение, проговорил с ней: «Вот на мое место определен молодой смотритель; бог даст, приедет да на Настеньке и женится».
– Ох, как бы это хорошо! Как бы это было хорошо! – отвечала экономка.
Она питала сильное желание выдать Настеньку поскорей замуж, и тем более за смотрителя, потому что, судя по Петру Михайлычу, она твердо была убеждена, что если уж смотритель, так непременно должен быть хороший человек.
В два часа капитан состоял налицо и сидел, как водится, молча в гостиной; Настенька перелистывала "Отечественные записки"; Петр Михайлыч ходил взад и вперед по зале, посматривая с удовольствием на парадно убранный стол и взглядывая по временам в окно.
– Что ж, папенька, ваш смотритель не едет? Скучно его ждать! – сказала Настенька.
– Погоди, душенька подъедет! Засиделся, верно, где-нибудь, – отвечал Петр Михайлыч. – Едет! – проговорил он, наконец.
Настенька, по невольному любопытству, взглянула в окно; капитан тоже привстал и посмотрел. Терка, желая на остатках потешить своего начальника, нахлестал лошадь, которая, не привыкнув бегать рысью, заскакала уродливым галопом; дрожки забренчали, засвистели, и все это так расходилось, что возница едва справил и попал в ворота. Калинович, все еще под влиянием неприятного впечатления, которое вынес из дома генеральши, принявшей его, как видели, свысока, вошел нахмуренный.
– Милости просим, милости просим, Яков Васильич, – говорил Петр Михайлыч, встречая гостя и вводя его в гостиную.
– Это вот-с мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя Анастасия, – прибавил он.
Капитан расшаркался... Настенька слегка привстала; Калинович отдал им вежливый, но холодный поклон.
– Не угодно ли вам водочки выпить? – продолжал Петр Михайлыч, указывая на закуску. – Это вот запеканка, это домашний настой; а тут вот грибки да рыжички; а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, превкусные.
– Позвольте мне лучше покурить, – проговорил Калинович.
– Сделайте милость! Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю; а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части господин капитан!
Капитан начал было выдувать свою коротенькую трубку.
– Благодарю вас: у меня есть с собой, – возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара.
Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремне гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар.
– Хорошая вещь; вероятно, кожаная, – проговорил он.
– Her, papier macha, – отвечал Калинович.
Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того.
– А! Вероятно, английского изобретения! – произнес он глубокомысленно.
– Не знаю, право.
– Английская, – решил капитан.
До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком.
– Где же вы изволили побывать?.. Кого видели? С кем познакомились? начал Петр Михайлыч.
– Я был не у многих, но... и о том сожалею! – отвечал Калинович.
– Это как? – спросил Петр Михайлыч с удивлением.
Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально; капитан тоже взглянул на него.
– Во-первых, городничий ваш, – продолжал Калинович, – меня совсем не пустил к себе и велел ужо вечером прийти в полицию.
– Ха, ха, ха! – засмеялся Петр Михайлыч добродушнейшим смехом. – Этакой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял. Что делать?.. Сим-то вот занят больше службой; да и бедность к тому: в нашем городке, не как в других местах, городничий не зажиреет: почти сидит на одном жалованье, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней – другой.
При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка.
– А семейство тоже большое, – продолжал Петр Михайлыч, ничего этого не заметивший. – Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко: ощипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похожи. Супруга, по несчастию, родивши последнего ребенка, не побереглась, видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось – теперь не в полном рассудке: говорят, не умывается, не чешется и только, как привидение, ходит по дому и на всех ворчит... ужасно жалкое положение! – заключил Петр Михайлыч печальным голосом.
Но молодой смотритель выслушал все это совершенно равнодушно.
– У этого городничего очень хорошенькая дочка, слывет здесь красавицей, – полунасмешливо заметила ему Настенька.
Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее.
– Что ж?.. Действительно хорошенькая! – подхватил Петр Михайлыч. – У кого же еще изволили быть? – прибавил он, обращаясь к Калиновичу.
– Еще я был у почтмейстера, – это чудак какой-то!
– Именно чудак, – подтвердил Петр Михайлыч, – не глупый бы старик, богомольный, а все преставления света боится... Я часто с ним прежде споривал: грех, говорю, искушать судьбы божий, надобно жить честно и праведно, а тут буди его святая воля...
– Он ужасный скупец, – заметила Настенька.
– Почем ты, душа моя, знаешь? – возразил Петр Михайлыч. – А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях.
– Да как же, папенька, только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном? – перебила Настенька.
– Что ж история его с сыном?.. Кто может отца с детьми судить? Никто, кроме бога! – произнес Петр Михайлыч, и лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение.
Настенька переменила разговор.
– У генеральши вы были? – отнеслась она к Калиновичу.
– Был-с, – отвечал он.
– Это здешний большой свет!
– Кажется.
– А дочь ее видели?
– Не знаю, видел какую-то девицу или даму кривобокую или кривошейку не разберешь.
– Совершенно без боку – ужасно! – подтвердила Настенька, – и вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз; и она с этакой наружностью и в бальном платье – невозможно видеть равнодушно.
– Господа! Молодые люди! – воскликнул Петр Михайлыч. – Не смейтесь над телесными недостатками; это все равно, что смеяться над больными – грех!
– Мы и не смеемся, – возразил с усмешкою Калинович, – а напротив, она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться.
– Кушать готово! – перебил Петр Михайлыч, увидев, что на стол уже поставлена миска. – А вы и перед обедом водочки не выпьете? – отнесся он к Калиновичу.
– Нет, благодарю, – отвечал тот.
– Как угодно-с! А мы с капитаном выпьем. Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил – не прикажете ли?.. Приимите! – говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только что тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся... Петр Михайлыч каждодневно делал с ним эту штуку.
– Ну, а уж теперь не обману, – продолжал он, наливая другую рюмку.
– Знаю-с, – отвечал капитан и залпом выпил свою порцию.
Все вышли в залу, где Петр Михайлыч отрекомендовал новому знакомому Палагею Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей; экономка сделала ему жеманный книксен.
– Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами, – говорил Петр Михайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего. – Любите ли вы потроха? – отнесся он к Калиновичу.
– Да, ем, – отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом. – Это очень хорошо, – проговорил он, – прекрасно приготовлено!
– Художественно-с! – подхватил Петр Михайлыч. – Палагея Евграфовна, честь эта принадлежит вам; кланяемся и благодарим от всей честной компании!
Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновение вставать из-за стола. За горячим действительно следовала стерлядь, которой Калинович оказал достодолжное внимание. Соус из рябчиков с приготовленною к нему подливкою он тоже похвалил; но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров.
У Палагеи Евграфовны от удовольствия обе щеки горели ярким румянцем.
После обеда все снова возвратились в гостиную.
– Скажите-ка мне, Яков Васильич, – начал Петр Михайлыч, – что-нибудь о Московском университете. Там, я слышал, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?
– Юрист.
– Прекрасный факультет-с!.. Я сам воспитывался в Московском университете, по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляков. Человек был с светлой головой. Бывало, начнет разбирать Державина построчно, каждое слово. "Вот такой-то, говорит, стих хорош, а такой-то посредственный; вот бы, говорит, как следовало сказать", да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения, – говорил Петр Михайлыч. – Любопытно мне знать, – продолжал он, подумав, – вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его, как следует.
– Очень, – отвечал Калинович, – особенно как профессора.
– Это делает честь молодому поколению: таких людей забывать не следует! – заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно-грустное расположение духа. – Вот мне теперь, на старости лет, – снова начал он как бы сам с собою, – очень бы хотелось побывать в Москве; деньгами только никак не могу сбиться, а посмотрел бы на белокаменную, в университет бы сходил... Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые; в студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, так полагаю, что если б я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною.
Калинович слушал Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлыч по крайней мере в миллионный раз рассказывал при ней о Мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это, она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней "Отечественные записки" и, надобно сказать, в эти минуты была прехорошенькая.
– Вы что-то такое читаете? – отнесся к ней Калинович.
– Нет, так, покуда перелистываю, – отвечала она.
– А вы любите читать?
– Очень; это единственное для меня развлечение. Нынче я еще меньше читаю, а прежде решительно до обморока зачитывалась.
– Что ж вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе.
– Больше журналы... – отвечала Настенька.
– Последние годы, – вмешался Петр Михайлыч, – только журналы и читаем... Разнообразно они стали нынче издаваться... хорошо; все тут есть: и для приятного чтения, и полезные сведения, история политическая и натуральная, критика... хорошо-с.
Калинович слегка улыбнулся.
– Вы несколько пристрастны к нашим журналам, – сказал он, – они и сами, я думаю, не предполагают в себе тех достоинств, которые вы в них открыли.
– Не знаю-с, – отвечал Петр Михайлыч, – я говорю, как понимаю. Вот как перебранка мне их не нравится, так не нравится! Помилуйте, что это такое? Вместо того чтоб рассуждать о каком-нибудь вопросе, они ставят друг другу шпильки и стараются, как борцы какие-нибудь, подшибить друг друга под ногу.
– В дельном и честном журнале, если б только он существовал, – начал Калинович, – непременно должно существовать сильное и энергическое противодействие прочим нашим журналам, которые или не имеют никакого направления, или имеют, но фальшивое.
– Так, так! – подтверждал Петр Михайлыч, видимо, не понявший, что именно говорил Калинович. – И вообще, – продолжал он с глубокомысленным выражением в лице, – не знаю, как вы, Яков Васильич, понимаете, а я сужу так, что нынче вообще упадает литература.
Калинович ничего не отвечал, а только вопросительно посмотрел на старика.
– Прежде, – продолжал Петр Михайлыч, – для поэзии брали предметы как-то возвышеннее: Державин, например, писал оду "Бог", воспевал императрицу, героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки да ножки... Помилуйте, что это такое?
Легкий оттенок насмешки пробежал по лицу Калиновича.
– За нынешней литературой останется большая заслуга: прежде риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу говорить правду, – проговорил он и мельком взглянул на Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой.
– Я этих од решительно читать не могу, – начала она. – Или вот папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения, русская княжна, которых держали взаперти, едет в лагерь к Донскому – как это правдоподобно!
Калинович только усмехнулся. Петр Михайлыч начал колебаться.
– Я моего мнения за авторитет и не выдаю, – начал он, – и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают больше в форме сатирической повести – это в своем роде хорошо.
– Даже, полагаю, очень хорошо: гораздо честнее отстаивать слабых, чем хвалить сильных, – сказал Калинович.
– Именно так! – подтвердила Настенька с сияющим в глазах удовольствием.
– Да коли с этой целью, так конечно: кто с этим будет спорить? согласился и Петр Михайлыч, окончательно разбитый со всех сторон.
– Нынче есть великие писатели, – начала Настенька, – эти трое: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, о которых Белинский так много теперь пишет в "Отечественных записках".
– А вы и критику читаете? – спросил ее Калинович.
– Да, – отвечала она с некоторою гордостью.
– Горячая и умная голова этот господин критик Белинский! – заметил Петр Михайлыч.
– Вы согласны с его взглядом? – спросила Настенька.
– Почти, – отвечал Калинович, – но дело в том, что Пушкина нет уж в живых, – продолжал он с расстановкой, – хотя, судя по силе его таланта и по тому направлению, которое принял он в последних своих произведениях, он бы должен был сделать многое.
– Многое бы, сударь, он сделал! Вдохновенный был поэт!.. Сам Державин наименовал его своим преемником! – подхватил Петр Михайлыч каким-то торжественным тоном.
– Вот как Гоголь... – стал было он продолжать, но вдруг и приостановился.
– Что ж Гоголь?.. – возразила ему дочь.
– Гоголя, по-моему, чересчур уж захвалили, – отвечал старик решительно. – Конечно, кто у него может это отнять: превеселый писатель! Все это у него выходит живо, точно видишь перед собой, все это от души смешно и в то же время правдоподобно; но...
Калинович слегка усмехнулся этому простодушному определению Гоголя.
– Гоголь громадный талант, – начал он, – но покуда с приличною ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает в "Мертвых душах", и проведет ли славянскую деву и доблестного мужа – это еще сомнительно.
– Неужели вам Лермонтов не нравится? – спросила Настенька.
– Лермонтов тоже умер, – отвечал Калинович, – но если б был и жив, я не знаю, что бы было. В том, что он написал, видно только, что он, безусловно, подражал Пушкину, проводил байронизм несколько на военный лад и, наконец, целиком заимствовал у Шиллера в одухотворениях стихий.
– Нет, неправда; Лермонтов для меня чудо как хорош! – сказала Настенька.
– Да, – продолжал Калинович, подумав, – он был очень умный человек и с неподдельно страстной натурой, но только в известной колее. В том, что он писал, он был очень силен, зато уж дальше этого ничего не видел.
Настенька отрицательно покачала головой; она была с этим решительно не согласна.
– Кроме этих трех писателей, мне и другие очень нравятся, – проговорила она после минутного молчания.
– Кто же именно? – спросил Калинович.
– Например, Загоскин[15]
[Закрыть], Лажечников[16]
[Закрыть], которого «Ледяной дом» я раз пять прочитала, граф Соллогуб[17]
[Закрыть]: его «Аптекарша» и «Большой свет» мне ужасно нравятся; теперь Кукольник[18]
[Закрыть], Вельтман[19]
[Закрыть], Даль[20]
[Закрыть], Основьяненко[21]
[Закрыть].
При этом перечне лицо Петра Михайлыча сияло удовольствием, оттого что дочь обнаруживала такое знакомство с литературой; но Калинович слушал ее с таким выражением, по которому нетрудно было догадаться, что называемые ею авторы не пользовались его большим уважением.
– Много: всех не перечтешь! – произнес он.
– О, да какой вы, должно быть, строгий и тонкий судья! – воскликнул Петр Михайлыч.
Калинович ничего не отвечал и только потупил глаза в землю.
– А сами вы не пишете ничего? – спросила его вдруг Настенька.
– Почему же вы думаете, что я пишу? – спросил он, в свою очередь, как бы несколько сконфуженный этим вопросом.
– Так мне кажется, что вы непременно сами пишете.
– Может быть, – отвечал Калинович.
Петр Михайлыч захлопал в ладоши.
– Ага! Ай да Настенька! Молодец у меня: сейчас попала в цель! – говорил он. – Ну что ж! Дай бог! Дай бог! Человек вы умный, молодой, образованный... отчего вам не быть писателем?
– Что же вы пишете? – спросила опять Настенька.
Но Калинович не отвечал.
– Это, сударыня, авторская тайна, – заметил Петр Михайлыч, – которую мы не смеем вскрывать, покуда не захочет того сам сочинитель; а бог даст, может быть, настанет и та пора, когда Яков Васильич придет и сам прочтет нам: тогда мы узнаем, потолкуем и посудим... Однако, – продолжал он, позевнув и обращаясь к брату, – как вы, капитан, думаете: отправиться на свои зимние квартиры или нет?
– Нет, я посижу-с, – отвечал тот.
В продолжение года капитан не уходил после обеда домой в свое пернатое царство не более четырех или пяти раз, но и то по каким-нибудь весьма экстренным случаям. Видимо, что новый гость значительно его заинтересовал. Это, впрочем, заметно даже было из того, что ко всем словам Калиновича он чрезвычайно внимательно прислушивался.
– Ну, и добре; а я так прошу у нашего почтенного гостя позволение отдохнуть: привычка, – говорил Петр Михайлыч, вставая.
– Сделайте одолжение, – отвечал Калинович.
– Вас, впрочем, я не пущу домой, что вам сидеть одному в нумере? Вот вам два собеседника: старый капитан и молодая девица, толкуйте с ней! Она у меня большая охотница говорить о литературе, – заключил старик и, шаркнув правой ногой, присел, сделал ручкой и ушел. Чрез несколько минут в гостиной очень чувствительно послышалось его храпенье. Настеньку это сконфузило.
– Не хотите ли в сад погулять? – сказала она, воспользовавшись тем, что Калинович часто брался за голову.
– Очень бы желал освежиться, – отвечал тот, – ваши наливки бесподобны, но уж очень скоро ведут к цели.
Все вышли.
Сад Годневых, купленный вместе с домом у бывшего когда-то предводителем богатого холостяка и большого садовода, отличался некогда большими запотроями. Палагея Евграфовна постоянно обнаруживала сильное поползновение разбить в нем всюду огородные плантации. "Вон лес-то растет, а моркови негде сеять", – брюзжала она, хотя очень хорошо знала, что морковь было бы где сеять, если б она не пустила две лишние гряды под капусту; но Петр Михайлыч, отчасти по собственному желанию, отчасти по настоянию Настеньки, оставался тверд и оставлял большую часть сада в том виде, в каком он был, возражая экономке:
– Не все, мать, хлопотать о полезном; позаботимся и о приятном. В жизни надо мешать utile cum dulce[55]55
полезное с приятным (лат.).
[Закрыть].
Выход в сад был прямо из гостиной с небольшого балкончика, от которого прямо начиналась густо разросшаяся липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где посредине стояла полуразвалившаяся китайская беседка. От этой беседки, в различных расстояниях, возвышались деревянные статуи олимпийских богов, какие, может быть, читателям случалось видать в некогда существовавшем саду Осташевского, который служил прототипом для многих помещичьих садов. Из числа этих олимпийских богов осталась Минерва без правой руки, Венера с отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а от прочих уцелели одни только пьедесталы. Все эти остатки богов и богинь были выкрашены яркими красками. Место это Петр Михайлыч называл разрушенным Олимпом.
– Надобно бы мне мой Олимп реставрировать; мастеров только здесь не найдешь! – часто говорил он, ходя около статуй.
За газоном следовал довольно крутой скат к реке, с заметными следами двух или трех фонтанов и с сбегающими в разных направлениях дорожками. Кроме того, по всему этому склону росли в наклоненном положении огромные кедры, в тени которых стояла не то часовня, не то хижина, где, по словам старожилов, спасался будто бы некогда какой-то старец, но другие объясняли проще, говоря, что прежний владелец – большой между прочим шутник и забавник нарочно старался придать этой хижине дикий вид и посадил деревянную куклу, изображающую пустынножителя, которая, когда кто входил в хижину, имела свойство вставать и кланяться, чем пугала некоторых дам до обморока, доставляя тем хозяину неимоверное удовольствие. Противоположный, низовый берег реки возвышался отлогою покатостью и сплошь был покрыт как бы подстриженным мелким ельником. С горизонтом сливался он в полукруглой раме, над которой не возвышалось ни деревца, ни облака, и только посредине прорезывалась высокая дальнего села колокольня. День был, как это часто бывает в начале сентября, ясный, теплый; с реки, гладкой, как стекло, начинал подыматься легкий туман. Все это, освещенное довольно уж низко спустившимся солнцем, которое то прорезывалось местами в аллее и обозначалось светлыми на дороге пятнами, то придавало всему какой-то фантастический вид, освещая с одной стороны безглавую Венеру и бездланную Минерву, – все это, говорю я, вместе с миниатюрной Настенькой, в ее черном платье, с ее разбившимися волосами, вместе с усевшимся на ступеньки беседки капитаном с коротенькой трубкой в руках, у которого на вычищенных пуговицах вицмундира тоже играло солнце, – все это, кажется, понравилось Калиновичу, и он проговорил:
– Как здесь хорошо! Какое прекрасное местоположение!
– Для приезжающих! – подхватила Настенька. – Впрочем, это единственное место, где мне легче живется, – прибавила она и попросила у Калиновича папироску, которую и закурила в трубке у дяди.
Капитан покачал ей головой и проговорил:
– Смотрите, папаша увидит.
Настенька очень любила курить, но делала это потихоньку от отца: Петр Михайлыч, балуя и не отказывая дочери ни в чем, выходил всегда из себя, когда видел ее с папироской.
– Гусар, сударь, Настасья Петровна, гусар! После этого дамам остается только водку пить, – говорил он.
Но капитан покровительствовал в этом случае племяннице и, с большим секретом от Петра Михайлыча, делал иногда для нее из слабого турецкого табаку папиросы, в производстве которых желая усовершенствоваться, с большим вниманием рассматривал у всех гостей папиросы, наблюдая, из какой они были сделаны бумаги и какого сорта вставлен был картон в них.
– Вы видели портрет Жорж Занд? – спросила Настенька, ходя по аллее с Калиновичем.
– Видел, – отвечал тот.
– Хороша она собой? Молода?
– Нет, не очень молода, но хороша еще.
– А правда ли, что она ходит в мужском платье?
– Не думаю, на портрете она в амазонке.
– Как бы я желала иметь ее портрет! Я ужасно люблю ее романы.
– А который вы из них предпочитаете?
– Все чудо как хороши! "Индиану" я и не знаю сколько раз прочитала.
– И, конечно, плакали над ее участью, – сказал Калинович. В голосе его слышалась скрытая насмешка.
– Что ж плакать над участью Индианы? – возразила Настенька. – Она, по-моему, вовсе не жалка, как другим, может быть, кажется; она по крайней мере жила и любила.
Калинович слегка улыбнулся и молчал.
– Неужели же, – продолжала Настенька, – она была бы счастливее, если б свое сердце, свою нежность, свои горячие чувства, свои, наконец, мечты, все бы задушила в себе и всю бы жизнь свою принесла в жертву мужу, человеку, который никогда ее не любил, никогда не хотел и не мог ее понять? Будь она пошлая, обыкновенная женщина, ей бы еще была возможность ужиться в ее положении: здесь есть дамы, которые говорят открыто, что они терпеть не могут своих мужей и живут с ними потому, что у них нет состояния.
– Причина довольно уважительная! – заметил Калинович.
– Только не для Индианы. По ее натуре она должна была или умереть, или сделать выход. Она ошиблась в своей любви – что ж из этого? Для нее все-таки существовали минуты, когда она была любима, верила и была счастлива.
– Ей бы следовало полюбить Ральфа, – возразил Калинович, – весь роман написан на ту тему, что женщины часто любят недостойных, а людям достойным узнают цену довольно поздно. В последних сценах Ральф является настоящим героем.
– Ральф герой? Никогда! – воскликнула Настенька. – Я не верю его любви; он, как англичанин, чудак, занимался Индианой от нечего делать, чтоб разогнать, может быть, свой сплин. Адвокат гораздо больше его герой: тот живой человек; он влюбляется, страдает... Индиана должна была полюбить его, потому что он лучше Ральфа.
– Чем же он лучше? Он эгоист.
– Нет, он мужчина, а мужчины все честолюбивы; но Ральф – фи! – это тряпка! Индиана не могла быть с ним счастлива: она попала из огня в воду.
Все это Настенька говорила с большим одушевлением; глаза у ней разгорелись, щеки зарумянились, так что Калинович, взглянув на нее, невольно подумал сам с собой: "Бесенок какой!" В конце этого разговора к ним подошел капитан и начал ходить вместе с ними.
– Вон дяденьке так очень нравится Ральф, – продолжала Настенька, указывая на дядю, и потом отнеслась к нему:
– Дяденька, вам нравится Ральф – помните, этот англичанин... третьего дня читали?
– Нравится.
– Чем же?
– Человек солидный-с, – отвечал капитан.
Слушая "Индиану", капитан действительно очень заинтересовался молчаливым англичанином, и в последней сцене, когда Ральф начал высказывать свои чувства к Индиане, он вдруг, как бы невольно, проговорил: "а... а!"
– Что, капитан, не ожидали вы этого? – спросил Петр Михайлыч.
– Да-с, не предполагал, – отвечал капитан.
Таким образом молодые люди гуляли в саду до поздних сумерек. Разговор между ними не умолкал. Калинович, впрочем, больше спрашивал и держал себя в положении наблюдателя; зато Настенька разговорилась неимоверно. Она откровенно высказала, как удивилась, услышав, что Калинович поехал делать визиты, и потом описала в карикатуре всю уездную аристократию. Очень мило и в самом смешном виде рассказала она, не щадя самое себя, единственный свой выезд на бал, как она была там хуже всех, как заинтересовался ею самый ничтожный человек, столоначальник Медиокритский; наконец, представила, как генеральша сидит, как повертывает с медленною важностью головою и как трудно, сминая язык, говорит.
Капитан, слушая ее, только покачивал головой.
"Бесенок!" – опять подумал про себя Калинович.
Между тем Петр Михайлыч проснулся, умылся, прифрантился и сидел уж в гостиной, попивая клюквенный морс, который Палагея Евграфовна для него приготовляла и подавала всегда собственноручно. В настоящую минуту он говорил с нею вполголоса насчет молодого смотрителя.
– Ах, боже мой, боже мой! Лучше бы этого человека желать не надобно для Настеньки, – говорила Палагея Евграфовна.
Калинович очень понравился ей опрятностью в одежде, деликатностью своей, а более всего тем, что оказал должное внимание приготовленным ею кушаньям.
– Все в руце божией! – замечал Петр Михайлыч.
Когда молодые люди вернулись, экономка сейчас же скрылась, а Настенька, по обыкновению, села разливать чай.
– Чем же мы вечер займемся? – начал Петр Михайлыч. – Не любите ли вы, Яков Васильич, в карточки поиграть? Не тряхнуть ли нам в преферанс?
Это предложение почему-то сконфузило Калиновича.
– Если вам угодно... впрочем, я по большой не играю, – ответил он.
– У нас огромная игра: по копейке.
– Извольте.
– Господин капитан, – обратился Петр Михайлыч к брату, – распорядитесь о столе!
Капитан с заметным удовольствием исполнил эту просьбу: он своими руками раскрыл стол, вычистил его, отыскал и положил на приличных местах игранные карты, мелки и даже поставил стулья. Он очень любил сыграть пульку и две в карты.
Настенька, никогда прежде не игравшая, сказала, что и она будет играть. Таким образом, уселись все четверо. Хотя игра эта была почти шалостью, но и в ней некоторым образом высказались характеры участвующих. Капитан играл внимательно и в высшей степени осторожно, с большим вниманием обдумывая каждый ход; Петр Михайлыч, напротив, горячился, объявлял рискованные игры, сердился, бранил Настеньку за ошибки, делая сам их беспрестанно, и грозил капитану пальцем, укоряя его: "Не чисто, ваше благородие... подсиживаете!" Настенька, по-видимому, была занята совсем другим: она то пропускала игры, то объявляла ни с чем и всякий раз, когда Калинович сдавал и не играл, обращалась к нему с просьбой поучить ее. Что касается последнего, то он играл довольно внимательно и рассчитывал, кажется, чтоб не проиграть, – и не проиграл. Выиграл один только капитан у брата и племянницы. Затем последовал ужин, и при прощанье Настенька спросила Калиновича, любит ли он читать вслух.
– Да, читаю, – отвечал он.
– Когда будете опять у нас, мы попросим вас прочесть что-нибудь.
– Если вам угодно, – проговорил Калинович и начал откланиваться.
– Непременно, мы вас будем ждать, – повторила Настенька еще раз, когда Калинович был уже в передней.
– Славный малый, славный! – сказал Петр Михайлыч по уходе его.
– Он очень умный человек, – присовокупила Настенька.
– Да, голова здоровая, – продолжал старик. – Хорошо нынче учат в университетах: год от году лучше.
– Вы завтра, папенька, позовете его к нам обедать? – спросила Настенька.
– Позову; где ему теперь покуда приютиться, – отвечал Петр Михайлыч и потом, подумав, прибавил: – Меня теперь заботит: у кого ему квартирку приискать.








