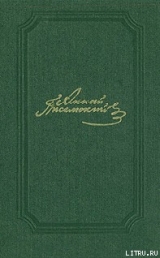
Текст книги "Тысяча душ"
Автор книги: Алексей Писемский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
– Как же это?.. Досадно!.. – говорил Петр Михайлыч.
Калинович тоже желал найти капитана, но Настенька отговорила.
– Где ж его искать? Придет еще сегодня, – сказала она.
Но капитан не пришел. Остаток вечера прошел в том, что жених и невеста были невеселы; но зато Петр Михайлыч плавал в блаженстве: оставив молодых людей вдвоем, он с важностью начал расхаживать по зале и сначала как будто бы что-то рассчитывал, потом вдруг проговорил известный риторический пример: "Се тот, кто как и он, ввысь быстро, как птиц царь, порх вверх на Геликон!" Эка чепуха, заключил он.
Чувства радости произвели в добродушной голове старика бессмыслицу, не лучше той, которую он, бог знает почему и для чего, припомнил.
Возвратясь домой, Калинович, в первой же своей комнате, увидел капитана. Он почти предчувствовал это и потому, совладев с собой, довольно спокойно произнес:
– А, Флегонт Михайлыч! Здравствуйте! Очень рад вас видеть.
Капитан молчал.
– Садитесь, пожалуйста, – присовокупил Калинович, показывая на стул.
Капитан сел и продолжал молчать. Калинович поместился невдалеке от него.
– Где это вы были? – начал он дружелюбным тоном.
– Так-с, у знакомых, – отвечал капитан.
– Это жаль, тем более, что сегодня был знаменательный для всех нас день: я сделал предложение Настасье Петровне и получил согласие.
Капитан выпучил глаза.
– Вы изволили получить согласие? – произнес он, сам не зная, что говорит.
– Да, – отвечал Калинович, – искали потом вас, но не нашли.
У капитана то белые, то красные пятна начали выходить на лице.
– В Петербург, стало быть, не изволите ехать? – спросил он, с трудом переводя дыхание.
При этом вопросе Калинович вспыхнул, однако отвечал довольно равнодушным тоном:
– Нет, в Петербург я еду месяца на три. Что делать?.. Как это ни грустно, но, по моим литературным делам, необходимо.
Капитан бессмысленно, но пристально посмотрел ему в лицо.
– Теперь по крайней мере, – продолжал Калинович, – я еду женихом и надеюсь, что зажму рот здешним сплетникам, а близких Настасье Петровне людей успокою.
Капитан начал теряться.
– Что я люблю Настасью Петровну – этого никогда я не скрывал, и не было тому причины, потому, что всегда имел честные намерения, хоть капитан и понимал меня, может быть, иначе, – присовокупил Калинович.
Капитан был окончательно уничтожен. По щекам его текли уже слезы.
– Я очень рад, – проговорил он, протягивая Калиновичу руку, которую тот с чувством пожал.
Затем последовала немая и довольно длинная сцена, в продолжение которой капитан еще раз, протягивая руку, проговорил: "Я очень рад!", а потом встал и начал расшаркиваться. Калинович проводил его до дверей и, возвратившись в спальню, бросился в постель, схватил себя за голову и воскликнул: "Господи, неужели в жизни, на каждом шагу, надобно лгать и делать подлости?"
IX
Чем ближе подходило время отъезда, тем тошней становилось Калиновичу, и так как цену людям, истинно нас любящим, мы по большей части узнаем в то время, когда их теряем, то, не говоря уже о голосе совести, который не умолкал ни перед какими доводами рассудка, привязанность к Настеньке как бы росла в нем с каждым часом более и более: никогда еще не казалась она ему так мила, и одна мысль покинуть ее, и покинуть, может быть, навсегда, заставляла его сердце обливаться кровью. Но, все это затаив на душе, Калинович по наружности казался еще холоднее и мрачнее. Он чувствовал, что если Настенька хоть раз перед ним расплачется и разгрустится, то вся решительность его пропадет; но она не плакала: с инстинктом любви, понимая, как тяжело было милому человеку расстаться с ней, она не хотела его мучить еще более и старалась быть спокойною; но только заняться уж ничем не могла и по целым часам сидела, сложив руки и уставя глаза на один предмет. Зато неусыпно и бодро принялась хлопотать Палагея Евграфовна: она своими руками перемыла, перегладила все белье Калиновичу, заново переделала его перину, выстегала ему новое одеяло и предусмотрела даже сшить особый мешочек для мыла и полотенца. О подорожниках она задумала еще дня за два и нарочно послала Терку за цыплятами для паштета к знакомой мещанке Спиридоновне; но тот сходил поближе, к другой, и принес таких, что она, не утерпев, бросила ему живым петухом в рожу. Петр Михайлыч, в сопровождении капитана, тоже все возился с извозчиками и выходил из себя.
– То есть, этакой плут этот русский народец, вообразить себе невозможно! – говорил он. – Прихожу я к этому подлецу, Афоньке Беспалому: "Что до Москвы?.." – "Пятьдесят серебром!.." – "Как, шельма: пятьдесят серебром? В двадцать четвертом году ты меня же за пятьдесят ассигнациями с женой возил..." Смеется. "Тогда-ста, говорит, четверик овса по десяти копеек покупали, да тарантас, может, не проходный был". – "Ладно, говорю, что ты за тарантас кладешь?" – "Десять целковых". – "Ладно, говорю, бери за тарантас десять, а лошадей мы возьмем почтовых". – "Не хочу, говорит, почто работу из рук отпускать?" – "Так вот же тебе!.." – говорю, и пошел к Никите Сапожникову. Не тут-то было: эта нагайская кобыла, супруга этого шельмы Афоньки, огородами туда уж марш... Прихожу – "Ни копейки меньше"! – А? Каков народец?.. Немец этого не сделает... нет... никогда!
– Дать им, что просят, – отвечал Калинович, которого все эти хлопоты о нем заставляли еще более терзаться.
– Не дам, сударь! – возразил запальчиво Петр Михайлыч, как бы теряя в этом случае половину своего состояния. – Сделайте милость, братец, – отнесся он к капитану и послал его к какому-то Дмитрию Григорьичу Хлестанову, который говорил ему о каком-то купце, едущем в Москву. Капитан сходил с удовольствием и действительно приискал товарища купца, что сделало дорогу гораздо дешевле, и Петр Михайлыч успокоился.
Накануне своего отъезда Калинович совершенно переселился с своей квартиры и должен был ночевать у Годневых. Вечером Настенька в первый еще раз, пользуясь правом невесты, села около него и, положив ему голову на плечо, взяла его за руку. Калинович не в состоянии был долее выдержать своей роли.
– Послушай, – начал он, привлекая ее к себе и целуя, – просидим сегодня ночь; приходи ко мне...
– Хорошо, когда?.. Как все заснут?
– Да; я желаю с тобой быть.
– Хорошо, и я желаю, – отвечала Настенька, – это в последний раз!.. прибавила она таким грустным голосом, что у Калиновича сердце заныло.
"Боже мой, боже мой! И я покидаю это кроткое существо!" – подумал он и поскорей встал и отошел.
На другой день предполагалось встать рано, и потому после ужина, все тотчас же разошлись. Калинович положен был в зале. Оставшись один, он погасил было свечку и лег, но с первой же минуты овладело им беспокойное нетерпение: с напряженным вниманием стал он прислушиваться, что происходило в соседних комнатах. Прошло полчаса; Петр Михайлыч все еще покашливал, и раздавались по коридору досадные шаги Палагеи Евграфовны. Наконец, пропала на лугу полоса света, отражавшаяся из окна кабинетика, где спал старик, и среди глубокого молчания только мерно отщелкивал маятник стенных часов. Но вот что-то стукнуло... Калинович вскочил и взглянул в гостиную, откуда должна была прийти Настенька. Там было пусто и темно, так что ему сделалось как будто немного страшно, и он снова лег; но кровь волновалась и, казалось, каждый нерв чувствовал и слушал. Опять что-то стукнуло... Нет, это крыса возится с костью. "Неужели она не придет?" – мучительно подумал он, садясь в изнеможении. Однако опять шелест... "Ты здесь?" – послышался шепот. Калинович вздрогнул, и в полумраке к нему уж склонилась, в белом спальном капоте, с распущенною косою Настенька... Все было забыто: одною предстоявшая ей страшная разлука, а другим – и его честолюбие и бесчеловечное намерение... Блаженству, казалось, не будет конца... Но время, однако, шло, и начинало рассветать. Все предметы стали обозначаться ясней и ясней. На дворе закопошились: кухарка выгнала за ворота корову, послышав, что пастух трубит; Терка, согнанный Палагеей Евграфовной с печки, проехал за водой.
– Прощай! – проговорила, наконец, Настенька.
– Прощай! – сказал Калинович.
Простившись еще раз слабым поцелуем, они расстались, и оба заснули, забыв грядущую разлуку. Напрасно проснувшийся потом Петр Михайлыч спрашивал Палагею Евграфовну:
– Что, спят еще?
– Спят, – отвечала та.
– Экой беспечный народ, – говорил старик и, не утерпев, пошел и поднял Калиновича. Настенька тоже вскоре встала и вышла. Она была бледна и с какими-то томными и слабыми глазами. Здороваясь с Калиновичем, она немного вспыхнула.
Последние тяжелые сборы протянулись, как водится, далеко за полдень: пока еще был привезен тарантас, потом приведены лошади, и, наконец, сам Афонька Беспалый, в дубленом полушубке, перепачканном в овсяной пыли и дегтю, неторопливо заложил их и, облокотившись на запряг, стал флегматически смотреть, как Терка, под надзором капитана, стал вытаскивать и укладывать вещи. Петр Михайлыч, воспользовавшись этим временем, позвал таинственным кивком головы Калиновича в кабинет.
– Есть у меня к вам, Яков Васильич, некоторая просьбица, – начал он каким-то несмелым голосом. – Это вот-с, – продолжал он, вынимая из шифоньерки довольно толстую тетрадь, – мои стихотворные грехи. Тут есть элегии, оды небольшие, в эротическом, наконец, роде. Нельзя ли вам из этого хлама что-нибудь сунуть в какой-нибудь журналец и напечатать? А мне бы это на старости лет было очень приятно!
Калинович мысленно улыбнулся этому простодушному желанию.
– Отчего же?.. С большим удовольствием, – отвечал он.
– Сделайте милость, – подхватил старик, – только Настеньке не говорите; а то она смеяться станет, – шепнул он, выходя.
В зале они нашли приказничиху, которая, как ни мало была довольна своим постояльцем, но все-таки считала себя обязанною проводить его. Пришел также товарищ купец, в аккуратно подпоясанном тулупе, в котором он уж достаточно согрелся. Палагея Евграфовна расставила завтрак по крайней мере на двух столах; но Калинович ничего почти не ел, прочие тоже, и одна только приказничиха, выпив рюмки три водки, съела два огромных куска пирога и, проговорив: "Как это бесподобно!", – так взглянула на маринованную рыбу, что, кажется, если б не совестно было, так она и ее бы всю съела.
– Закусите! – попотчевал Петр Михайлыч купца.
– Благодарим покорно: закушено грешным делом! – отвечал тот, дохнув луком.
– Ну, так, значит, поприсядемте! – продолжал Петр Михайлыч, и на глазах его навернулись слезы. Все сели, не исключая и торчавшего в дверях Терки, которому приказала это сделать Палагея Евграфовна.
– Ну! – снова начал Петр Михайлыч, вставая; потом, помолившись и пробормотав еще раз: "Ну", – обнял и поцеловал Калиновича. Настенька тоже обняла его. Она не плакала...
– Прощайте, желаю благополучного пути туда и обратно, – проговорил с какими-то гримасами капитан.
У Палагеи Евграфовны были красные, наплаканные пятна под глазами; даже Терка с каким-то чувством поймал и поцеловал руку Калиновича, а разрумянившаяся от водки приказничиха поцеловалась с ним три раза. Все вышли потом проводить на крыльцо.
– С богом! – произнес купец, крестясь и усевшись. Афонька тронул. Во все время Калинович не проговорил ни слова; но выражение лица его было чисто мученическое: обернувшись назад, он все еще видел в окне бледную и печальную Настеньку. Дома Годневых стало, наконец, не видать. Миновалось и училище, куда он, наводя такой страх на подчиненных, ходил каждый день. Серебристые главы собора блестели на солнце так ярко и красиво, что будто они никогда так не блестели. Остались сзади и присутственные места, на крылечке которых спокойно сидели два сторожа, и направо пошел вал, с видневшеюся на нем беседкой, где Калинович в первый раз вызвал Настеньку на признание в любви. Как он был счастлив и доволен в этот вечер! А теперь бежал этого счастья, чтоб искать другого... какого – бог знает! В Солдатской слободке, на поросшем травой тротуаре, коза почтмейстера, от которой он пил молоко, щипала траву. В остроге сквозь железные решетки выглядывали бритые, с бледными, изнуренными лицами головы арестантов, а там показалось и кладбище, где как бы нарочно и тотчас же кинулась в глаза серая плита над могилой матери Настеньки... "Как все это знакомо, и все – прощай! Увидится ли когда-нибудь все это опять, или эти два года, с их местами и людьми, минуют навсегда, как минует сон, оставив в душе только неизгладимое воспоминание?.." Невыносимая тоска овладела при этой мысли моим героем; он не мог уж более владеть собой и, уткнув лицо в подушку, заплакал!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Два дня уже тащился на сдаточных знакомый нам тарантас по тракту к Москве. Калинович почти не подымал головы от подушки. Купец тоже больше молчал и с каким-то упорством смотрел вдаль; но что его там занимало – богу известно. В Серповихе, станций за несколько от Москвы, у них ямщиком очутилась баба, в мужицких только рукавицах и шапке, чтоб не очень уж признавали и забижали на дороге. Купец заметил было ей:
– Страмота, тетка, и ехать-то с тобой, хоть бы к ноче дело-то шло, так все бы словно поскладнее было.
– Не все, батька, дело-то делается ночью; важивала я вашу братью и днем. Не ты первой!.. – возразила баба и благополучнейшим манером доставила их на станцию, где встретила их толпа ямщиков.
– А, чертова перечница, опять в извоз пустилась! – заметил один из них. – Хорошо ли она вам, господа, угождала? А то ведь мы сейчас с нее спросим, прибавил он, обращаясь к седокам.
– Ты поди девкам-то своим угождай и спрашивай с них, а уж мужчинке тебе против меня не угодить! – возразила баба и молодцевато соскочила с передка.
Когда новые лошади были заложены, на беседку влез длинновязый парень, с сережкой в ухе, в кафтане с прорехами и в валяных сапогах, хоть мокреть была страшная; парень из дворовых, недавно прогнанный с почтовой станции и для большего форса все еще ездивший с колокольчиком. В отношении лошадей он был каторга; как подобрал вожжи, так и начал распоряжаться.
– Н-н-у! – крикнул он и вытянул всю тройку плетью.
Коренная вздумала было схитрить и села в хомуте.
– О черт! Дьявол! – проговорил извозчик и начал ее хлестать не переставая.
Лошадь, наконец, заскакала. Ему и это не понравилось.
– О проклятая! Заскакала! – промычал он и передернул вожжи, а сам все продолжал хлестать. Тарантас, то уходя, то выскакивая из рытвин, немилосердно тряс. У Калиновича, как ни поглощен он был своими грустными мыслями, закололо, наконец, бока.
– Что ж ты сломя голову скачешь? – проговорил он.
– Сердит я ездить-то, – отвечал извозчик, потом, вскрикнув: "О вислоухие!" – неизвестно за что, дернул вожжу от левой пристяжной, так что та замотала от боли головой.
– Тише, говорят тебе! – повторил Калинович.
– Ничего! Сидите только, не рассыплю! – возразил извозчик и, опять крикнув: "Ну, вислоухие!", понесся марш-марш. Купца, несмотря на его тяжеловесность, тоже притряхивало, но ему, кажется, это было ничего и даже несколько приятно.
– Лошадь ведь у них вся на ногу разбитая: коли он вначале ее не разгорячит, так хуже, на полдороге встанет, – объяснил он Калиновичу.
– Не встанет у меня! Не такое мое сердце; нынче в лихорадке лежал, так еще сердитее стал, – ответил на это ямщик, повертывая и показывая свое всплошь желтое лицо и желтые белки.
Станции, таким образом, часа через два как не бывало. Въехав в селение, извозчик на всем маху повернул к избе, которая была побольше и понарядней других. Там зашумаркали; пробежал мальчишка на другой конец деревни. В окно выглянула баба. Стоявший у ворот мужик, ямщичий староста, снял шляпу и улыбался.
– Кто очередной? – спросил извозчик, слезая с передка.
– Старик, – отвечал староста.
– Наряжай, любезный, наряжай, нечего тут проклажаться! – проговорил купец.
– Наряжено, хозяин, наряжено, – отозвался староста и, обходя сзади тарантас, проговорил: "Московский, знать... проходной, видно".
– Проходной, до Москвы, – отвечал извозчик. – Тетка Арина! Дай-ка огонька, – прибавил он глядевшей из окна бабе и, вынув из-за пазухи засаленный кисетишко и коротенькую трубчонку, набил ее махоркой.
Баба скрылась и через минуту высунула из окна обе руки, придерживая в них горящий уголь, но не вытерпела и кинула его на землю.
– Ой, чтобы те, и с огнем-то твоим... Все рученьки изожгла, проговорила она.
– Больно уж хлипка, – как на том-то свете станешь терпеть, как в аду-то припекать начнут? – сказал извозчик, поднимая уголь и закуривая трубку.
– Угорели же, паря, – говорил староста, осматривая тяжело дышавшую тройку.
Извозчик вместо ответа подошел к левой пристяжной, более других вспотевшей, и, проговорив: "Ну, запыхалась, проклятая!", схватил ее за морду и непременно заставил счихнуть, а потом, не выпуская трубки изо рта, стал раскладывать.
– Что ж, любезный, скоро ли будет? Аль не сегодня надо, а завтра? отнесся к старосте купец.
– Коли хошь, так и завтра, – отвечал с полуулыбкой староста.
– А деньги не хошь завтра? – возразил купец с ожесточением.
В это время подошел мужик с ребенком на руках.
– Пошто деньги завтра? Деньги надо сегодня, – вмешался он.
– То-то, деньги сегодня! Деньги вы брать охочи, – проговорил купец, сурово взглянув на него.
– Сейчас, хозяин, сейчас! Не торопись больно: смелешь, так опять приедешь, – успокаивал его староста, и сейчас это началось с того, что старуха-баба притащила в охапке хомут и узду, потом мальчишка лет пятнадцати привел за челку мышиного цвета лошаденку: оказалось, что она должна была быть коренная. Надев на нее узду и хомут, он начал, упершись коленками в клещи и побагровев до ушей, натягивать супонь, но оборвался и полетел навзничь.
– Смотри, паря, каменья-то не ушиби, – заметил ему все еще стоявший около мужик с ребенком.
Парень окрысился.
– Поди ты к дьяволу! Стал тоже тут с пострелом-то своим! – проговорил он и, плюнув на руки, опять стал натягивать супонь.
Одна из пристяжных пришла сама. Дворовый ямщик, как бы сжалившись над ней, положил ее постромки на вальки и, ударив ее по спине, чтоб она их вытянула, проговорил: "Ладно! Идет!" У дальней избы баба, принесшая хомут, подняла с каким-то мужиком страшную брань за вожжи. Другую пристяжную привел, наконец, сам извозчик, седенький, сгорбленный старичишка, и принялся ее припутывать. Между тем старый извозчик, в ожидании на водку, стоял уже без шапки и обратился сначала к купцу.
– Мелких, любезный, нет, – отвечал тот равнодушнейшим тоном.
– И мелких не стало, – повторил извозчик, почесывая в голове, купечество тоже, шаромыжники! – прибавил он почти вслух, обходя тарантас и обращаясь к Калиновичу. Тот бросил ему с досадой гривенник. Вообще вся эта сцена начала становиться невыносима для него, и по преимуществу возмущал его своим неподвижным, кирпичного цвета лицом и своей аляповатой фигурой купец. Ему казалось, что этому болвану внутри его ничего не мешает жить на свете и копить деньгу. За десять целковых он готов, вероятно, бросить десять любовниц, и уж, конечно, скорей осине, чем ему, можно было растолковать, что в этом случае человек должен страдать. "Сколько жизненных случаев, – думал Калинович, – где простой человек перешагивает как соломинку, тогда как мы, благодаря нашему развитию, нашей рефлекции, берем как крепость. Тонкие наслаждения, говорят, нам даны, боже мой! Кто бы за эту тонину согласился платить такими чересчур уж не тонкими страданьями, которые гложут теперь мое сердце!" На последней мысли он крикнул сердито:
– Скорей вы, скоты!
– Сейчас, батюшка, сейчас, – отозвался старикашка-извозчик, взмащиваясь, наконец, на козлы. – О-о-о-ой, старуха! – продолжал он. Подь-ка сюда, подай на передок мешок с овсом, а то ишь, рожон какой жесткий, хошь и кожей обтянут.
Старуха подала.
– Ты, старец любезный, и живой-то не доедешь, послал бы парня, заметил купец.
– О-о-о-ой, ничего! Со Христом да с богом доедем.
– Еще как важно старик-то отожжет... Трогай, дедушка, – подхватил староста.
Старик тронул. Сама пришедшая пристяжная обнаружила сильное желание завернуть к своему двору, в предупреждение чего мальчишка взял ее за уздцы и, колотя в бок кулаком, повел. Стоявшие посредине улицы мужики стали подсмеивать.
– Выводи, выводи жеребца-то! Ишь, как он голову-то гнет, – сказал между ними мужик с ребенком, а прочие захохотали.
Калиновичу сделалось еще досаднее.
"И этим, дурачье, могут веселиться", – подумал он с завистью. Выбравшись за деревню, старикашка пустил лошадей маленькой рысцой. В противоположность прежнему извозчику он оказался предобродушный и тотчас же принялся рассуждать сам с собой: "Ну-ка, паря, вожжей пожалел. Да, мошенник, говорю я; я тебя лошадкой, живой тварью, ссужал, а ты на-ка! Веревки жадничаешь. Не удавлюсь на твоем мочале, дурак – сусед еще!" Проговоря это, старик остановился на некоторое время в раздумье, как бы все еще рассуждая о жадности соседа, а потом вдруг обратился к седокам и присовокупил:
– Плут, батюшки, господа честные, у нас по деревне народ!
– Плут?.. – отозвался купец.
– Плут!.. И какой же, то есть, плут на плуте, вор на воре. Я-то, вишь, смирный, не озорник, и нет мне от них счастья. На-ка, вожжей пожалел!.. Да что я, с кашей, что ли, их съем? Какие были, такие и ворочу, пес!
Пока старик бормотал это, они въехали в двадцативерстный волок. Дорога пошла сильно песчаная. Едва вытаскивая ноги, тащили лошаденки, шаг за шагом, тяжелый тарантас. Солнце уже было совсем низко и бросало длинные тени от идущего по сторонам высокого, темного леса, который впереди открывался какой-то бесконечной декорацией. Калинович, всю дорогу от тоски и от душевной муки не спавший, начал чувствовать, наконец, дремоту; но голос ямщика все еще продолжал ему слышаться.
– Нечем, батюшки, господа проезжие, – говорил он, – не за что нашу деревню похвалить. Ты вот, господин купец, словно уж не молодой, так, можо, слыхал, какая про наше селенье славушка идет – что греха таить!
– То есть, примерно, насчет чего же? – спросил купец.
– А насчет того, батюшка, что по дорогам пошаливали, – отвечал таинственным полушепотом старик.
Купец откашлянулся.
– Что ж, и понониче этим занимаются? – спросил он с расстановкою.
– Ну, понониче, – продолжал старик, – где уж! Против прежнего ли?.. Начальство тоже все год от году строже пошло. Этта окружной всю деревню у нас перехлестал, и сами не ведаем за что.
– Перехлестал? – спросил купец с каким-то удовольствием.
– Перехлестал, – отвечал извозчик, – а баловство то же все происходит. Богу ведомо, на кого и приходит? Помекают на беглых солдатиков, а неизвестно!
Купец опять откашлянулся.
– И частые баловства? – спросил он.
– Бывают, батюшка!.. Этта, в сенокос, нашли женщину убитую, и брюхо-то вострым колом все разворочено, а по весне тоже мужичка-утопленника в реке обрели. Пытал становой разыскивать: сам ли как пьяный в воду залез, али подвезли кто – шут знает. Бывает всего!
Что-то вроде вздоха послышалось из груди купца.
– Может, чай, и тройки останавливают? – произнес он.
– Коли злой человек, батюшка, найдет, так и тройку остановит. Хоть бы наше теперь дело: едем путем-дорогой, а какую защиту можем сделать? Ни оружия при себе не имеешь... оробеешь... а он, коли на то пошел, ему себя не жаль, по той причине, что в нем – не к ночи будь сказано – сам нечистой сидит.
Купцу, кажется, не хотелось продолжать разговор в этом роде.
– Что про то и говорить! – подтвердил он.
– Что говорить, батюшка, – повторил и извозчик, – и в молитве господней, сударь, сказано, – продолжал он, – избави мя от лукавого, и священники нас, дураков, учат: "Ты, говорит, только еще о грехе подумал, а уж ангел твой хранитель на сто тысяч верст от тебя отлетел – и вселилась в тя нечистая сила: будет она твоими ногами ходить и твоими руками делать; в сердце твоем, аки птица злобная, совьет гнездо свое..." Учат нас, батюшка! "Дьявола, говорят, надо бояться паче огня и меча, паче глада и труса; только молитва божья отгоняет его, аки воск, тает он пред лицом господним".
– Так, так, верно, – подтвердил купец, – потрогивай однако. Что вон около лесу за народ идет, словно с кольями? – прибавил он.
– И то словно с кольями. Ишь, какие богатыри шагают! Ну, ну, сердечные, не выдавайте, матушки!.. Много тоже, батюшка, народу идет всякого... Кто их ведает, аще имут в помыслах своих? Обереги бог кажинного человека на всяк час. Ну... ну! – говорил ямщик.
Калиновичу невольно припомнилось его детство, когда и он боялся домовых и разбойников. "Мила еще, видно, и исполнена таинственных страхов жизнь для этих людей, а я уж в суеверы не гожусь, чертей и ада не страшусь и с удовольствием теперь попал бы под нож какому-нибудь дорожному удальцу, чтоб избавиться, наконец, от этих адских мук", – подумал он и на последней мысли окончательно заснул. Между тем старикашка-извозчик переменился на маленького мальчишку, которого в темноте совсем уж было не видать, и только слышалось, что он всю станцию, как птичка, посвистывал. Мальчишку потом заменил большой извозчик, с широчайшей спиной; но и того почти было тоже не видать и совсем не слыхать; зато всю станцию пахло от него овчинным тулупом и белелась его серая в корню лошадь. К рассвету, наконец, их перенял, на здоровеннейшей тройке, московский извозчик, молодцеватый малый, с перетянутой тальеи и в поярковой шляпе, перевитой лентами. На половине станции Калинович проснулся. Вдали виднелась Москва с своими золотыми главами церквей. Из тысячи труб вился дым прямыми столбами. Дорога шла по гладкому, бойкому шоссе. Прозябшие на утреннем холоде лошади и с валившим от них паром несли так, что удержу не было. Скоро пришлось им обогнать шедший батальон. Впереди всех ехал на вороной лошади, с замерзшими усами, батальонный командир, а сзади его шли кларнетисты и музыканты, наигрывая марш, под который припрыгивали и прискакивали с посиневшими щеками солдаты и с раскрасневшимися лицами молодые юнкера. Немного подальше шел, скрипя колесами, неуклюжий обоз с хлопчатой бумагой, и на таком количестве лошадей, что как будто бы и конца ему не было. На весь этот оживленный вид герой мой смотрел холодным и бесчувственным взором, и только скакавший им навстречу, совсем уж на курьерской тройке, господин средних лет, развалившийся в бричке и с владимирским крестом на шее, обратил на себя некоторое внимание его. "Может быть, и я поеду когда-нибудь с таким же крестом", – подумал Калинович, и потом, когда въехали в Москву, то показалось ему, что попадающиеся народ и извозчики с седоками, все они смотрят на него с некоторым уважением, как на русского литератора. Это чувство, впрочем, значительно в нем понизилось, когда он, по денежным своим средствам, остановился на подворье в Зарядье, в маленьком грязном нумере. Чисто с целью показаться в каком-нибудь обществе Калинович переоделся на скорую руку и пошел в трактир Печкина, куда он, бывши еще студентом, иногда хаживал и знал, что там собираются актеры и некоторые литераторы, которые, может быть, оприветствуют его, как своего нового собрата; но – увы! – он там нашел все изменившимся: другая была мебель, другая прислуга, даже комнаты были иначе расположены, и не только что актеров и литераторов не было, но вообще публика отсутствовала: в первой комнате он не нашел никого, а из другой виднелись какие-то двое мрачных господ, игравших на бильярде. Калинович сел на диван и решился по крайней мере с половым поговорить о самом себе.
– А что, у вас есть журналы? – спросил он.
– Как же-с.
– Есть июльская книжка? – и Калинович назвал тот журнал, в котором была помещена его повесть.
– Сейчас... за буфетом спросить надо, – сказал половой и, очень скоро возвратившись, подал совершенно почти новую книжку.
Калинович не без волнения развернул свою повесть и начал как бы читать ее, ожидая, что не скажет ли ему половой что-нибудь про его произведение. Но тот, хоть и стоял перед ним навытяжку, но, кажется, более ожидал, что прикажут ему подать из съестного или хмельного.
– Книжка-то нова, не растрепана, – проговорил Калинович с едва скрываемою горькою улыбкою.
– Да ведь-с это тоже как... – отвечал половой, – иную, боже упаси, как истреплют, а другая так почесть новая и останется... Вот за нынешний год три этакие книжки сподряд почесть что и не требовала совсем публика.
Калинович только вздохнул: три эти книжки были именно те, где была напечатана его повесть.
Уязвленный простодушными ответами полового, он перешел в следующую комнату и, к большому своему удовольствию, увидал там, хоть и не очень короткого, но все-таки знакомого ему человека, некоего г-на Чиркина, который лет уже пятнадцать постоянно присутствовал в этом заведении. В настоящую минуту он ел свиные котлеты и запивал их кислыми щами.
Калинович решился подойти к нему и напомнить о себе.
– А ну вот! Здравствуйте, – произнес тот тоном вовсе небольшого уважения.
Несмотря на это, Калинович подсел к нему.
– Что вас давно не видать? – спросил Чиркин, как будто бы не видал его всего только каких-нибудь месяца три.
– Я жил в провинции года с полтора.
– А, вот что, – произнес и на это Чиркин совершенно равнодушно.
– Сделался литератором и еду теперь в Питер, – добавил с улыбкою Калинович.
– Вот как! – сказал Чиркин, и опять самым равнодушнейшим тоном.
Калинович только из приличия просидел еще несколько минут с подобным невежей и отошел от него, а потом и совсем вышел из трактира. Он решился походить по Москве, чтобы предаться личным и историческим воспоминаниям. Прежде всего он подошел к университету и остановился перед старым зданием. Вот и крыльцо, на котором он некогда стоял, ожидая с замирающим сердцем поступительного экзамена, перешел потом к новому университету, взглянул на боковые окна, где когда-то слушал энциклопедию законоведения, узнал, наконец, тротуарный столбик, за который, выбежав, как полоумный, с последнего выпускного экзамена, запнулся и упал. Все это припомнилось и узналось, но и только! От университета прошел он в Кремль, миновал, сняв шапку, Спасские ворота, взглянул на живописно расположенное Замоскворечье, посмотрел на Ивана Великого, который как будто бы побелел. По-прежнему шла от него высокая решетка, большой колокол и царь-пушка тоже стояли на прежних местах, и все это – увы! – очень мало заняло моего героя. С какими-то беспорядочными мыслями возвратился он в свой нумер, который показался ему еще грязней, еще гаже. Из соседней комнаты слышались охриплые пьяные голоса мужчин и взвизги тоже, должно быть, пьяных женщин. Свободная, кочующая жизнь холостяка, к которой Калинович стремился, с такой болью отрывая себя от связывающей его женщины, показалась ему отвратительна. Не зная, как провести вечер, он решился съездить еще к одному своему знакомому, который, бог его знает, где служил, в думе ли, в сенате ли секретарем, но только имел свой дом, жену, очень добрую женщину, которая сама всегда разливала чай, и разливала его очень вкусно, всегда сама делала ботвинью и салат, тоже очень вкусно. Бывши студентом, Калинович каждое воскресенье ходил к ним обедать, но зачем он это делал – и сам, кажется, хорошенько того не знал, да вряд ли и хозяева то ведали. Все времяпрепровождение его в этом доме состояло в том, что он с полуулыбкою выслушивал хозяйку, когда она рассказывала и показывала ему, какой кушак вышила отцу Николаю и какие воздухи хочет вышить для церкви Благовещенья. С мужем он больше спорил и все почти об одном и том же предмете: тому очень нравилась, как и капитану, "История 12-го года" Данилевского, а Калинович говорил, что это даже и не история; и к этим-то простым людям герой мой решился теперь съездить, чтобы хоть там пощекотать свое литературное самолюбие. Он нашел тот же совершенно домик, только краска на нем немного полиняла, – ту же дверь в лакейскую, то же зальцо, и только горничная другая вышла к нему навстречу.








