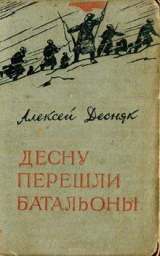
Текст книги "Десну перешли батальоны"
Автор книги: Алексей Десняк
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Ответ всех интересовал. Бровченко, будто нарочно, не спешил с ответом и долго размешивал ложечкой сахар в стакане. Все наблюдали за ним.
– Некому наводить порядок, – сказал он, наконец.
– Как так некому?.. – подхватил Соболевский. – А Временное правительство?
– Никто не хочет его слушать!.. Рабочий люд и солдаты слушают большевиков в Советах. В Петрограде теперь два правительства, и…
– А вы, господа офицеры, куда смотрите? Время взяться за ум! Пулеметами порядок наводите! В штыки большевиков! – захлебываясь, сжимал кулаки Владимир Викторович.
Бровченко чуть-чуть усмехнулся.
– А солдаты говорят: Временное правительство взять в штыки, чтобы порядок установить. Вы, может быть, знаете, третьего июля была демонстрация в Петрограде. Рабочие и солдаты требовали прекращения войны, требовали, чтобы Советы взяли всю власть! И что ж вы думаете?.. Временное правительство прибегло к методам царя: расстреляло демонстрацию.
– И правильно поступило! – ударил кулаком по столу кавалерийский офицер.
– Поддерживаю! – выкрикнул Платон Антонович. – А вы? – резко повернулся он к пехотному офицеру. Петр Варфоломеевич поднял голову и, отчеканивая каждую букву, громко ответил:
– Не поддерживаю!
Соболевский, Владимир Викторович и Глафира Платоновна вскочили.
– То есть как?
– Слушайте… – У Бровченко нервно задергались брови. – Нужно три года просидеть в окопах, чтобы знать и понимать ненависть солдата к тем, кто погнал его на убой. Пришло время, и солдат понял, ради чего он гнил в окопах, ради чего миллионы солдат похоронены в чужой земле. Кто же теперь пойдет воевать? Я? – неожиданно спросил он и закрыл глаза. – Довольно с меня! За что меня ранили в бою?
Соболевский упал в кресло и закрыл лицо руками. Женщины потупились. И только Муся с восторгом смотрела на отца. Ей нравилось, что он рассердил деда и Владимира Викторовича.
– Вы забываетесь, Петр Варфоломеевич! Вы – офицер! Ваш священный долг помочь Временному правительству навести порядок в России и победоносно закончить войну с немцами! – Владимир Викторович поднялся из-за стола, ушел с веранды. Через минуту он вернулся, держа в руках скомканную газету. Он рывком отодвинул чашку и положил перед собой на стол газету. – Слушайте, господин офицер! Это – к вам! Слушайте!
– Вы напрасно волнуетесь. Успокойтесь! Я это воззвание Керенского к солдатам и офицерам читал. Скажу откровенно: глупо он агитирует! Какая перспектива скрывается за этой агитацией? Опять война? Пусть дамы извинят, опять – вши, смерть и сумасшествие в окопах! Скажу прямо: дураком будет тот, кто послушается Керенского!
Побледнев, как полотно, кавалерийский офицер рванул газету и подскочил к Бровченко:
– Так говорят только… из-мен-ники! А еще – офи-и-цер!..
Бровченко с поразительным спокойствием ответил:
– Да-а, меня сделали офицером на войне. Но поймите, что мне надоело в окопах гнить, как последней твари! Я возненавидел титулованную сволочь, которая продала народ. Вот там ищите изменников!..
– Вы изменили принципам!
– Перестаньте! Я ведь не дурак. Принципы Терещенко – его сахарные заводы, Родзянко – его поместья в Белоруссии, а у меня таких, – он нарочно подчеркнул «таких», – принципов нет!
– Удивляюсь! Удивляюсь, господа, почему он не ходит по улицам Петрограда вместе с восставшей солдатней и не н-носит к-красного флага!..
– Это мое дело, а не дело кадрового офицера Владимира Рыхлова! – отрезал Бровченко.
– Боже, что вы? – всплеснула руками Глафира Платоновна. Ее глаза от испуга сделались большими и круглыми.
– Он психически болен! – заорал Рыхлов. – Вас надо в лечебницу отправить.
Глафира Платоновна заплакала. Татьяна Платоновна сжалась в комочек. Ксана уткнулась в книгу. Нина Дмитриевна выбежала на кухню. Муся смело подошла к отцу и обняла его за шею.
– Папа ранен на фронте, а вы, Владимир Викторович, во время войны к тете в отпуск приехали. Вот!..
– Правильно, Муся! Я человек вполне нормальный, только душа моя исстрадалась и пуля покалечила руку.
С кресла тяжело поднялся бледный Платон Антонович. Нижняя губа обвисла, руки дрожали.
– Чтобы я вас в этом доме не видел! – и он снова упал в кресло, закрыл руками лицо.
…Семья Бровченко переехала в маленький домик, который стоял на противоположной стороне улицы и был отписан в наследство Татьяне Платоновне.
Глава четвертая
В конце июля в Боровичах началась уборка хлеба. Дни были тревожными для всех. У кого была засеяна полоска земли, тот тяжело вздыхал над ней и думал о голодной зиме, исподлобья поглядывая на низину, где буйно дозревали хлеба на полях Соболевского и Писарчука. А те видели и хорошо понимали эти взгляды, помня ночи первой революции, тревожные, охваченные заревом пожара… Писарчук и сам не спал по ночам, и сыновьям не давал. Караулили поле, боялись. Теперь надеяться было не на кого.
Почти половина боровичан вот уже с десяток лет работала на карьерах в лесу, грузила балласт – сыпучий песок для железной дороги, строящейся где-то в болотистой Белоруссии, и с этих заработков жила. Заработки были мизерные, работа тяжелая. День целый бросаешь балласт лопатой в вагон, а к вечеру и спины не разогнешь. А летний день – как год. Люди приносили домой копейки, на эти копейки и перебивались. Теперь карьеры были закрыты – прекратились и эти нищенские заработки. Говорят: нынче не до железных дорог. Куда же людям податься, где хлеба кусок найти? Нужен людям заработок, ведь от зимы не убежишь. Да тут разве заработаешь? Дает Писарчук по рублю на жнеца да еще договаривается, чтобы каждый не меньше чем полторы копны поставил за день. Люди кинулись к Соболевскому – и этот по рублю дает, а полторы копны поставь. Ведь это не шутка – полторы копны! Не каждому по силам такая норма. Да и не о деньгах люди думали, хотели жать за сноп – хлебца нужно. Не соглашаются хозяева за сноп.
Через несколько дней пошел по селу слух: Писарчук согласился – предлагает за девятый сноп. Боже, за девятый сноп! День целый, не разгибая спины, жни, да еще на своих харчах. Да и какие это харчи! Но что поделаешь? Хоть бы за пятый согласился. Ну и жила! Видано ли, слыхано ли, чтобы так над своими односельчанами издеваться? Уж лучше с голоду пухнуть, чем идти к Писарчуку! Пусть пропадает хлеб, ни ему, ни нам! – решали, собираясь по вечерам, соседи. Росла, как ком, черная и страшная человеческая злоба на богачей. До крови сжимались кулаки, хотелось размахнуться и ударить, и так ударить, чтобы пыль столбом поднялась до самого неба.
А тут новый слух: Писарчук берет жнецов из Макошина. Забурлили Боровичи. Все знали, что в Макошине люди только с заработков живут. На лесопилке, на пристани, на путях работали, на водочном заводе. Теперь все закрылось, так куда людям деваться? Погонит их голод к Соболевскому и Писарчуку. Что ж тут делать? Собирались кучками, соседи с соседями, и совещались-советовались… Голова болела от бессонницы, тяжелых мыслей. Надвигающаяся зима тяжелым грузом висела за спиной каждого. Когда б хоть ты один был, а то еще и дети кушать хотят…
Раскололись Боровичи на разные лагери. Одни с болью в душе пошли на поля Писарчука и Соболевского, другие, знавшие какое-нибудь ремесло, искали работу в соседних селах, а некоторые остались дома, надеясь на лучшие времена. Но все затаили в душе ненависть и злобу на хозяев, затаили до поры до времени.
* * *
Еще и светать не начинало, а жнецы Федора Трофимовича уже идут в поле. По одному, по двое, по трое идут, перебросив серп через плечо. Идут молча, горькую думу думают. Тут и Свирид Сорока с женой, вечный пастух чужого стада, и Харитина Межова – мать Марьянки, сгорбленная, маленькая, изнуренная работой. И Мирон Горовой с невесткой вышли на заработки. Пришлось и фронтовику Якову Кутному пойти с женой на чужое поле. Его изрытое оспинами лицо, обычно веселое, сегодня было мрачным. Яков никогда не падал духом, но больно было сегодня ему, исстрадавшемуся в окопах, идти работать за девятый сноп.
Писарчук тоже не сидел дома: надо присмотреть за жнецами. А то смотри, чего доброго какая-нибудь баба намнет себе колосков в подол… Сам Писарчук приезжал на лошадях, а сыновья – Никифор и Иван – на волах. Писарчуки жали, вязали и сразу домой свозили, – боялись, чтобы ночью кто-нибудь не украл копен.
Мало в Боровичах хорошей земли. То болота – «Большое», «Дедовское», «Крачковое», то пески сыпучие, то заросшие вереском выгоны. Где поле похуже – это бедняцкое, где получше – это Соболевского, Писарчука, Орищенко. Самая лучшая земля – в урочище Степках между железной дорогой и речкой. Хорошая там земля – жирная и плодородная. Прежде она вся принадлежала Соболевскому, но после тысяча девятьсот пятого, когда он стал понемногу распродавать землю, так и этой половину продал Писарчуку. Вот сюда, в урочище, и набирал жнецов Федор Трофимович. Десятин с тридцать здесь было под пшеницей и рожью. Не любит пшеница песка, ей плодородную почву давай, а земля такая только у помещика и кулаков. Пшеница в этом году у Писарчука прекрасная, как стена стоит. И стебель крепкий, и колос крупный. А подует ветер – побегут по ней волны, как по морю. И рожь – рядом, в рост человека. Колос тяжелый до земли кланяется. Не то, что на полосках у бедняков возле леса – колос в небо смотрит. Не у одного боровичанина, проходившего мимо полей Федора Трофимовича, сердце обливалось кровью. Будет у Писарчука хлеб и к хлебу, закрома трещать будут. Богач!.. А все чужим горбом сделано, руками батраков и бедняков!
Но хоть как ни богаты были кулаки в Боровичах, а машин не знали. Пахали простым плугом, бороновали деревянной бороной, а убирали серпом и косой. Где лучше уродило – там серпом жали, где плохо – там брали косу… Вывел Федор Трофимович своих жнецов, расставил их, сказал: «С богом!», и замелькали серпы в натруженных руках. Постоял хозяин, посмотрел, как работают, наказал не мять хлеба и колоски старательно подбирать. Сыновей рядом поставил, чтобы наблюдали. Никифор – тот, как медведь, работает. Писарчук специально вызвал его от воинского начальника из Сосницы. Иван – в тени под копною. Глаз у него зоркий, это отец знает. Склоняются спины жнецов до самой земли. Умело ловит рука стебли, собирает в пучок, и весь день одна мысль – побольше, побольше бы заработать. Болит спина, ноют руки, исколотые жнивьем, щемит сердце от несправедливости, от обиды. На ряды полукопен у Писарчука посмотрит жнец и зубы от боли стиснет.
Молча жнецы возвращаются домой. Идут гурьбой, идут по одному, несут свое горе в убогие жилища. Одну только песню слышат жнецы. Берет эта песня за сердце, тоскливо от нее на душе.
Поет фронтовик Яков Кутный, возвращаясь с чужого поля.
Ой, боже, мій боже,
Що ви наробили:
На самого Спаса
Війну об’явили…
Ой, під Перемишлем
Висока могила,
Ой, там пропадає
Вся наша родина…
Привез эту песню Яков с фронта. Пел ее тайком в окопах. Вспомнил о ней в Боровичах и теперь, идя через конопляники, печально выводит:
Якби мати знала,
Яка мені біда,
То й передала би
Горобчнком хліба,
Синичкою солі.
Якби мати знала,
В якій я неволі…
Катилась песня по полю, через Гнилицу, эхом отдавалась на лугах. Пел Яков с большим чувством, голос его шел из глубины души. К последним словам его песни прислушивалась не одна молодица и не у одной из них от горя сжималось сердце.
Якби мати знала,
Яке мені горе,
То й переплила би
Через Чорне море…
Замолкал Яков, и еще грустнее становилось в поле. Тихо-тихо в селе. Притаилось оно и молчит, мрачное, как небо в грозовых тучах перед бурей.
* * *
Послушался Григорий Дмитра и не пошел к Писарчуку наниматься в жнецы. Запретил и Наталке. Запрягли они кобылку, выехали в поле, убрали хлеб на своей полоске – поставили две копны и полукопну. Перевез Григорий снопы на гумно, взял косу и отправился за Лошь – там был у него клочок сенокоса. Переехал Григорий реку на лодке, посмотрел на помещичий луг, а там косарей-косарей. Любил Григорий косить вместе со всеми – померяться силами. А кто у них атаманом? Наверно, Ананий Тяжкий. Любит Григорий быть атаманом. Подошел к косарям, засмотрелся. Ананий остановился, взял горсть травы и отер косу. Провел бруском. Дзинь-дзинь!.. Дзинь-дзинь!.. Покатилось эхо над Лошью, перезвонами откликнулось ближнее пастбище. Тоскливо стало Григорию. Кому косят?.. Косари пошли заходить новый ряд. Ананий шел впереди, большой, сутулый, потный, бородатый, и грудь покрыта черным мхом.
– Чего стоишь, Григорий? Приставай к нам, – подошел Ананий.
– Хорошо бы с вами косить, да не пойду я к пану.
– Что ж поделаешь, Григорий! Давно сказано: сила солому ломит. Ведь жевать-то что-нибудь надо?
– Правду сказали, Ананий Петрович. Сила солому ломит, но сила у нас, а не у пана. У нас, видишь, какие сильные руки!
В глазах Анания блеснули огоньки. Ясно было, что о том же и он думал-передумывал, когда шел атаманом на панском сенокосе.
– Я здесь, а баба рожь жнет ему же, пану. Авось что-нибудь заработаем… – сказал он, подумал и совсем тихо добавил: – Мало в Боровичах землицы, а если бы панскую поделить, то хватило бы на всех. Так дальше жить нельзя. Правильно я думаю, Григорий? – глянув в глаза Бояра, осторожно высказал Ананий свою затаенную мысль. Григорий не успел ответить – подошло еще несколько косарей, поздоровались, приглашали в свою компанию.
– Мы, Ананий Петрович, поговорим в другой раз. Приходите ко мне, или лучше к Надводнюку, – сказал Григорий и взял свой котелок с бруском. Переходя по мостку через ров, Григорий услышал, как косари допытывались у Анания: что Бояр обещал рассказать? Может быть, есть какие-нибудь новости о земле?.. Ананий отвечал уклончиво.
Придя на свой сенокос, Григорий наломал ольховых веточек и отметил межу, чтобы не врезаться в участок соседа. Наострил косу, сбросил гимнастерку, поплевал на руки и начал первый ряд…
…Управившись с покосом, Григорий полез на чердак, нашел под стропилами кельму, брезентовый передник, уровень, осмотрел все это и сказал Наталке:
– Пойду в Бутовку. Может, где печку сложу. Люди панский лес тайком возят, хаты строят… Отнесешь Надводнюку хлеба. Он идет в Сосницу – старику передаст.
Уже в воротах Григорий крикнул:
– Если Дмитро опросит, где я, скажешь.
Шел Григорий на заработки и думал: «Что скажет Надводнюку тот человек из большевистской партии?»
* * *
По ночам неспокойно стало в Боровичах. В сад к Соболевским, где прежде никто из крестьян не бывал, приходили хлопцы, обрывали яблоки, груши-скороспелки. Нина Дмитриевна хотела однажды подстеречь этих хлопцев, но ее забросали палками, и она еле живая убежала. Выходил Сидор дежурить с ружьем, но хлопцы поймали его в саду, поломали ружье и велели молча лежать в будке.
Соболевские слышали, как по ночам скрипели колеса по песчаной дороге. Вдоль улицы ехали груженые возы. Нина Дмитриевна припадала к щелям в заборе, пыталась узнать, кто из крестьян едет. И если узнавала, то приходила в комнату и записывала их имена. Никто в Боровичах не думал о том, берут или не берут его на заметку, и старался ночью забрать с полей Соболевского все то, что пан не успел за день перевезти к себе в усадьбу. Крестьяне ездили на поле целыми семьями. Жали, вязали, накладывали на возы и свозили домой. Кто первым начал – никто не знал. Возили все, друг с друга пример брали. У кого не было тягла, тот приходил с мешками, переносил снопы на плечах, просил лошадей у соседа.
С поля перешли на луга, свозили и прятали копны по овинам, раскидывали стога, забирали сено домой. Всю ночь, спускаясь с горки, тарахтели пустые возы. Всю ночь скрипели колеса тяжело нагруженных возов.
– Началось… – шепотом говорили в усадьбе Соболевского.
Сразу стало тревожно. Всех охватило чувство страха перед наступающим днем. Затихли песни в липовых аллеях, не слышно было музыки. По ночам дом оставался темным. Усадьба казалась мертвой, только господский Трезор испуганно нарушал тишину, становился передними лапами на заборчик, поднимал голову и выл:
– Гу-у-в-в… Гу-у-в-в… Гу-у-в-в…
Прислушивались женщины к тревожному вою и шептали одна другой:
– Это не к добру собака воет… Все погибнет на этом дворе!..
Платон Антонович закрывал ладонями уши, натягивал на голову одеяло, только бы не слыхать собаки. За последние дни Платон Антонович исхудал, стал трястись, ноги его не слушались. Владимир Викторович ночи напролет просиживал на кровати у Глафиры. Она, перепуганная, плакала и молила его куда-нибудь уехать. Он слушал ее, ласкал, успокаивал, обещал, что через день-два власть возьмется за ум и везде наведет порядок. Но дни проходили, власть за ум не бралась, тревога нарастала.
Глава пятая
Надводнюку не пришлось расспрашивать людей, он легко нашел паровую мельницу на окраине Сосницы. Дмитро вошел через ворота в широкий, заставленный подводами двор и, увидев табличку: «Вход посторонним воспрещен», открыл двери в машинное отделение. Здесь было двое. Один, помоложе, возился у топки, а пожилой смазывал машину.
– Михайла Воробьева можно видеть? – спросил Надводнюк. Оба подняли головы. В пожилом Надводнюк узнал того, кого искал. Воробьев был среднего роста, широкоплечий, с короткими ногами. Его лицо было в машинном масле. Небольшая бородка лоснилась. Пытливые глаза смотрели на Дмитра, улыбались ласково и приветливо.
– Нашел? Вот и хорошо! – Воробьев подошел к Надводнюку, прошептал: – Есть новости. Интересные новости. Ночуешь ты у меня. Я живу в крайнем домике на этой улице слева, возле площади… Найдешь?.. Поговорим.
Выйдя от Воробьева, Дмитро пошел в город. За годы войны город изменился, облупилась штукатурка некогда желтых и серых домов, деревянные тротуары развалились, на немощеных улицах стояли лужи. Только церкви и тюрьма на площади не подверглись влиянию военных лет, сияли на солнце, словно их только что выстроили.
Надводнюк ощупал под рукой узелок, переданный Бояром для Кирея. Надо было найти деда. Дмитро направился к каменному двухэтажному зданию бывшей земской управы, где теперь заседал уездный комитет Временного правительства. Присев в тени под тополем, он вытащил из кармана кусок хлеба. Изредка через площадь пробегали озабоченные люди. У колодца собралось несколько женщин. Их беспокоило резкое повышение цен на хлеб. Они советовали друг другу запасаться продуктами на зиму. Надводнюк тихо выругался. «Их, кроме собственной шкуры, ничто не интересует»…
Вдруг Дмитро увидел Кирея. Старик шел с двумя ведрами к этому же колодцу. Полотняные брюки были закатаны, ноги – грязные.
– Дед!
Кирей остановился и, заметив Надводнюка, подошел к нему.
– Возьмите, дед, ваши передали хлеб. Кому воду носите?
– Поблагодаришь их… Черт его побери… Ночью сижу в погребе, под замком, а днем полы мою в присутствии, начальству воду ношу, поить лошадей заставляют.
– И долго вам придется полы мыть?
– Говорят, долго… Управится ли Григорий один?.. Привелось, сынок, на старости лет, привелось при народной власти. Народная!.. Тьфу!.. Черт его побери. И до каких пор будут они над людьми издеваться? Куда вы, молодые, смотрите? На фронте были, а умней не стали.
Надводнюк рассказал деду, что Григорий уже управился с уборкой хлеба и с сенокосом. Теперь пошел на заработки. Настроение Кирея понравилось Дмитру. Эх, побольше бы таких людей в Боровичах.
– Если б вы были молодым, дед, что бы вы сделали? – тихо выспрашивал Дмитро.
– Черт его побери, что. Силы надо собирать. Соболевскому можно петуха пустить, – шепотом сказал Кирей. – В Гнилицу их всех сразу… Настрадался народ. Землю всю, – и панскую, и кулацкую – разделить бы подушно! Живут ведь они на нашей шее. Вот за что я, к примеру, страдаю? Григорий тоже, как и ты, на фронте страдал.
Дмитро рассказал деду, как Писарчук нанимал жнецов за девятый сноп, как по ночам люди возят помещичий хлеб и сено. Кирей жалел, что его не было в Боровичах, отплевывался и чертыхался.
– Вы, дед, присмотритесь, как оно тут, да и уходите домой. Теперь властям не до вас. Дома будем панскую землю делить.
– А будем?.. – загорелись глаза у деда.
– Будем! – многозначительно подмигнул Надводнюк.
– Ты скажешь Григорию, что я уж как-нибудь да уйду… – Кирей попрощался и пошел к колодцу. Надводнюку больно было смотреть на старика, терпевшего такую обиду на восьмом десятке своей жизни.
Дмитро сходил на речку Убедь, искупался. Дожидаясь вечера, прилег на крутом берегу реки, думал о Михаиле Воробьеве. Ему хотелось заранее угадать те новости, которые обещал рассказать Воробьев; а они, верно, интересные – Михайло попусту говорить не станет. Он не такой. Дмитро вот уже два года знает его как серьезного человека и хорошего товарища. Познакомились они после памятного боя у реки Курляндки, где три батальона 117 пехотного полка, в котором служил Дмитро, полегли в атаке. Прибыло пополнение. С этим пополнением пришел в полк и Михайло Воробьев. Мало знал Дмитро о жизни Воробьева. Сошлись и сдружились они, как земляки. Однажды Михайло рассказал, что до войны он работал механиком на конотопском паровозо-вагонном заводе, а потом переехал в Сосницу. Зачем он переехал в Сосницу, где не было механических мастерских, он так и не сказал. Дмитро понял из его рассказов только то, что переехать Михайлу нужно было для какой-то другой работы. Очевидно, кто-то руководил его жизнью… На фронте они держались вместе. Когда их взвод после боев отводили на отдых, Михайло исчезал, а потом украдкой рассказывал Дмитру о новостях в центре России – в Петрограде, в Москве, приносил вести о Черниговщине. Откуда-то Воробьев знал о забастовках рабочих на Путиловском заводе в Петрограде и о выступлениях ткачей в Иваново-Вознесенске. Рассказывал и о дороговизне в уездах Полесья.
Михайло Воробьев осторожно, но зло высмеивал верховное командование, генералов называл «бездарными тупицами», а солдат – серыми героями, бесцельно гибнущими на фронте. Михайло совсем не так, как он, Надводнюк, смотрел на войну. А когда Воробьев поближе сошелся с Дмитром, то рассказал, хоть и осторожно, почему возникла и кому выгодна война. Михайло приводил факты, как наживались на войне фабрикант Морозов, изготовлявший сукно для солдатских шинелей, и Потапов, заводы которого выпускали орудия смерти. И Дмитро впервые понял, что их, солдат, обманывают… Воробьев приносил с собой газеты и листовки и читал их солдатам. Не все в этих газетах было понятно Дмитру. Но Воробьев умно и терпеливо разъяснял, и Надводнюк начал понимать, что жизнь может быть совсем иной, без царя и без Морозовых.
– Слушай, Надводнюк, большевиков, только они правду говорят! – объяснял шепотом Воробьев. От него Дмитро впервые услышал это новое слово – большевики – и понял его значение.
После одного случая Воробьев стал еще больше доверять Надводнюку. Как-то Воробьева целый день не было в части. Вернулся он молчаливый и настороженный. Лег спать молча. Дмитру в ту ночь не спалось, он получил письмо из дому, в котором отец писал о голоде. Лежал Дмитро и смотрел в потолок, вспоминал родные Боровичи. Что-то зашелестело. Он повернул голову и увидел Воробьева, который вытаскивал из кармана листовки и клал их солдатам под шинели. Глаза Надводнюка и Воробьева встретились. Воробьев на мгновение опустил руки, посмотрел на Дмитра пытливо, настороженно.
– Чего не спишь? – и с тревогой наклонился над ним.
– О деревне думаю, – ответил Дмитро и посоветовал: – Ты будь поосторожней, не то попадешься.
На следующий день – в роте тревога. Ротный коршуном налетает на фельдфебеля. Выстроил взвод во дворе.
– Такие бумажки, – фельдфебель показал смятую листовку, – разбрасывают немецкие шпионы, предатели и изменники. Истинно русский солдат должен выйти вперед и сказать, кто это делает…
Напрасно говорил фельдфебель. «Истинных» не нашлось. Тогда фельдфебель стал с правого фланга.
– Цветков, шаг вперед, марш!
Солдат сделал шаг вперед и замер.
– Ты – честный солдат, Цветков, верой и правдой служишь царю-батюшке. Скажи, кто разбросал эти бумажки.
– Не знаю.
– На место, марш! Идио-от!
Так фельдфебель опросил всех.
Дошла очередь до Надводнюка.
– Надводнюк, шаг вперед, марш!
Дмитро вышел и ест глазами начальство, а сам чувствует на своем затылке острый, пронизывающий взгляд Михайла.
– Я вижу по твоим глазам, Надводнюк, что ты знаешь, кто разбросал бумажки, – воскликнул фельдфебель.
«Неужели и впрямь видит! – испуганно подумал Дмитро. – Сказать правду?» – И Дмитро сразу представил себе полевой суд и приговоренного к смертной казни Воробьева. Такие случаи уже были у них в полку. Воробьев, верный друг, идет на смерть и проклинает его, как братоубийцу. Дмитро побледнел и отрицательно покачал головой. Отчеканил нервно и слишком громко:
– Не видел!
– На место, марш! Мерзавец!
Так фельдфебель ничего и не добился.
После этого Воробьев, пожимая руку Дмитра, сказал:
– Молодец, Надводнюк, не подвел товарища.
Воспользовавшись случаем, Дмитро спросил Воробьева, где он достает эти листовки и газеты. Михайло ответил уклончиво и неопределенно. Дмитро даже обиделся было за такое недоверие, но Воробьев дружески похлопал его по плечу и сказал:
– Поживешь – увидишь. Будет такое время – все скажу…
Почти с полгода пришлось Дмитру ждать «такого времени». Когда царя прогнали и в частях начался разброд, Воробьев неожиданно сообщил, что он – член РСДРП большевиков и действовал по указаниям партийного комитета. О Февральской революции Воробьев говорил, что это совсем не то, что нужно рабочему люду, беднейшему крестьянству и солдатам, потому что Родзянко, как имел прежде в соседней с Черниговщиной Белоруссии свыше 60 тысяч десятин земли, так они у него и остались. Были у Гучкова заводы, и теперь они у него. Были у Терещенко сахарные заводы, и теперь он капитал наживает.
– Надо, Надводнюк, дальше действовать, чтобы капиталистов к чертовой матери!.. Когда ты, Надводнюк, своим умом до этого дойдешь и разберешься, что к чему, приходи в мою партию, будем вместе бороться с ними, – говорил Воробьев.
Оставляя фронт, Дмитро спросил у Воробьева, почему же они дальше не действуют.
Воробьев ответил, что действуют.
– А почему же мы не при деле? – допытывался Дмитро.
– Подожди! Придет время! – успокаивал его Воробьев.
«Может быть, уже пришло это время?» – думал теперь Надводнюк, нетерпеливо ожидая встречи с Михаилом.
Лишь только солнце скрылось за городом, Дмитро отправился разыскивать квартиру Воробьева. Он ее быстро нашел и в ранних сумерках постучал в двери деревянного домика. Навстречу вышел сам Михайло, в синей косоворотке, уже умытый и причесанный. Он ввел Дмитра в маленькую комнатку.
– Раиса, поставь нам самовар, – попросил он жену, худенькую, подвижную и приветливую женщину. Сели за стол, закурили. Несколько минут молча смотрели друг на друга.
– Рассказывай, Дмитро, о деревне, о настроениях. Сперва я тебя послушаю, а уж потом ты меня будешь слушать.
Надводнюк стал рассказывать об уборке хлеба в Боровичах, о тех, кто разрабатывал карьер, о фронтовиках. Воробьев, подперев подбородок ладонью, внимательно слушал, часто переспрашивал, старался не пропустить ни малейшей подробности из жизни в Боровичах. Особенно его интересовало мнение крестьян о земле кулаков и помещиков. Дмитро рассказал о том, как крестьяне увозят помещичий хлеб, о Кирее. Когда Дмитро закончил, Михайло довольно долго молчал, что-то обдумывая, а потом подсел к Дмитру поближе. Глаза его искрились, он был доволен рассказом.
– Так оно и должно быть. И в деревне созревает новая революция. Это революция жестокая и неумолимая: она везде предъявит свои права. Это будут законные права беднейшего крестьянства на землю, а рабочих – на фабрики и заводы. Мы, большевики, поднимем весь трудящийся народ, сметем помещичьи гнезда, прогоним заводчиков, фабрикантов и прочую сволочь. Это будет наша революция, Дмитро! – Воробьев опустил свою тяжелую руку на стол.
Слушая горячие, полные уверенности слова Михайла, Надводнюк опять, как на фронте, почувствовал в Воробьеве удивительную силу. Вот он, Надводнюк, подкову руками разгибает, а Воробьев сильнее его. У Михайла есть какая-то такая сила, что ее в руки не возьмешь, на земле не распластаешь. В чем она, – присматривался Дмитро к Воробьеву, – где она?
– Вот уже пришло то время, когда надо и нам действовать, – сказал Воробьев. Пододвинув чай, хлеб и масло Дмитру, он продолжал: – Теперь, Дмитро, мы переживаем такой момент: Временным правительством заправляет буржуазия во главе с Керенским, а в Советах рабочих и солдатских депутатов засели меньшевики и эсеры. Слушай меня внимательно и разберись в том, что я тебе скажу. Правительство Керенского говорит: воевать с немцами до победного конца. Меньшевистская и эсеровская сволочь в Советах хвостом вертит, поддерживает Керенского. А наша большевистская партия говорит: довольно воевать, конец войне, потому что трудящимся она, кроме горя, ничего не дала!.. Правительство Керенского обещало крестьянам дать землю, но не дало, не дает и не даст, потому что это правительство и по плоти, и по крови своей буржуазное, значит, защищает интересы буржуазии и помещиков. Меньшевики и эсеры в Советах поддерживают Керенского. А Ленин, и с ним все большевики такое требование выдвинули: помещичью, монастырскую и всю прочую землю немедленно отдать крестьянам, а фабрики и заводы – рабочим. Вот, Надводнюк, какой мы переживаем момент. С кем ты пойдешь?
Воробьев испытующе посмотрел на Дмитра. Надводнюк, забыв о чае, слушал. Хотя он и сам кое-что понимал в создавшейся политической обстановке, но слушал Воробьева внимательно, хотел сказанное им навсегда запомнить. Михайло спрашивает, с кем он пойдет? Ясно, с кем.
– Ты бы, Воробьев, мог меня и не спрашивать! Разве ты и до сих пор не знаешь? Я с вами, с большевиками, иду.
Михайло схватил руку Дмитра, крепко пожал ее, придвинулся ближе.
– Я о тебе так и думал, но проверить лишний раз – никогда не помешает.
Надводнюк интересовался, что нужно сейчас на местах, в деревне делать. Воробьев, угадывая его мысли, продолжал:
– За большевистской партией идут рабочие, фронтовики, крестьяне, потому что большевистская программа – это их программа, и недалек тот час, когда Керенский со своими министрами полетит к чертовой матери! А из Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов мы выгоним меньшевиков и эсеров. Авторитет большевиков среди трудящихся растет с каждой минутой, потому что у большевиков слово не расходится с делом и трудящиеся воочию в этом убеждаются.
Воробьев рассказал, что Керенский, видя в большевиках, а особенно в Ленине, свою гибель, начал их преследовать. Рассказал о решении большевистской конференции немедленно отобрать землю у помещиков и о выступлении Ленина на Первом съезде Советов. Всего этого Дмитро еще не знал и потому слушал эти известия, как прекрасное художественное произведение. Напрасно Михайло, прерывая рассказ, просил Надводнюка пить чай. Дмитро тут же забывал о чае.








