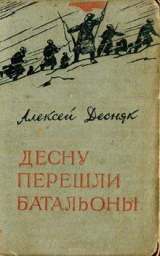
Текст книги "Десну перешли батальоны"
Автор книги: Алексей Десняк
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Глава четвертая
В погребе раздаются стоны – глухие и прерывистые. На охапке соломы – исполосованный Надводнюк. Вокруг него – Бояр, Малышенко и Дорош. Песковой забился в дальний угол, проклиная себя, немцев. Но никто не обращает на него внимания – четверо делают вид, что Логвина Пескового нет в погребе.
За окошечком затих вечерний шум. Немцы улеглись спать. Только шаги часового отдаются в погребе. Часовой тихонько мурлычет себе под нос какую-то песенку. О чем поет немец-часовой, арестованные не знают. Может быть, он вспомнил свою любимую девушку в далекой Пруссии?.. Может быть, это песенка о родной матери, которая где-то там в каменистую землю сажает картофель? Одно только чувствуют арестованные, что песенка часового невесела, тосклива.
– Хло-о-опцы, прости-и-те меня! – вдруг загудело под сводами сырого погреба.
Надводнюк, быть может, и не слышал кощунственной просьбы Логвина.
Бояр вздрогнул и прижался плотнее к Малышенко. Дорош сплюнул куда-то в угол. Снова в памяти каждого промелькнул вчерашний день. Немцы втаскивают в погреб избитого Логвина. Следом за ним с видом победителя входит Шульц. Офицер осклабился. Переводчик выкрикивает::
– Песковой все сказал! Ты, – ткнул пальцем в Надводнюка, – ты – коммунист! Ты, – и показал на Бояра, – его первый помощник. Ты, – и обернулся к Малышенко, – второй помощник! Вы делали революцию! Вы – большевики!
Офицер весело захохотал и вышел из погреба. Он праздновал победу.
Логвин упал на колени. Молил, плакал, но его никто не слушал. Никто с ним не говорил. Для них, четверых – он, пятый, умер.
Надводнюк, едва шевеля избитыми плечами, прохрипел товарищам:
– Шульц нас расстреляет… И вас, Логвин… Вы себя не спасли.
Песковой стонал, плакал. Но остальные четверо были глухи к его страданиям.
Вечером им не передали хлеба. Арестованные слышали, как молили Наталка и Ульяна, но немцы женщин не впустили и передачи не приняли.
Надводнюк еще раз прохрипел, обращаясь к друзьям:
– Это наша последняя ночь…
Жутью веяло от этих слов, тихо отдававшихся под сводами погреба. Песковой забился еще глубже в угол, остальные трое придвинулись поближе к Надводнюку. Так они просидели весь вечер. Говорить было о чем, но никто не хотел говорить. Думали о деле и не могли примириться с тем, что его немцы окончательно затопчут своими сапогами. Думали о Павле, который было подал о себе весточку и умолк. Зачем было писать эту записку? Чтобы ободрить, поднять дух?..
Над Боровичами нависла глухая ночь. В окошечко видно, как мерцают звезды. Высоко, высоко. В погреб просачивается струйка свежего воздуха. Он пахнет тополиными почками. Во дворе жуют лошади…
Услышать бы, как пахнет земля! Поднятый пласт блестящий, блестящий. Дымится на солнце. Над пашней летают грачи. Они падают в свежую борозду и идут один за другим вслед за пахарем… Жаворонок звенит высоковысоко! Как пахнет земля! – и арестованным почудилось, будто к ним в погреб ворвался запах свежевспаханной земли.
Грозно закричал часовой, и марево исчезло. Часовому ответил спокойный и уверенный голос Шульца. Мимо окошечка тяжело протопали ноги. Шаги стихли. Двери погреба распахнулись. Через порог переступили переводчик с фонарем в руке, Шульц и капрал, приземистый, с огромными рыжими усами. Его короткие, как обрубки, руки вытянулись вдоль толстого туловища. Капрал напоминал жука.
– Встать! – приказал переводчик.
Все повернули головы, но никто не встал. Офицер развернул лист бумаги, стал громко читать.
– Приговор, – процедил сквозь зубы Надводнюк.
Шульц читал долго, но арестованные поняли только одно слово «большевик», которое часто повторялось в приговоре.
– Просим пояснить! – сказал Малышенко.
Переводчик, проглатывая слова, объяснил, что большевики Надводнюк, Бояр, Малышенко, Песковой и Яковенко делали в Боровичах революцию, разоряли усадьбу помещика, подбивали мирное население против власти, о чем рассказал на допросе Логвин Песковой, и поэтому командование N-ской роты N-ского полка приговорило их к расстрелу…
Логвин упал Надводнюку в ноги:
– Прости, перед смертью…
Ему не – ответили.
Шульц отдал команду. В погреб вбежало несколько солдат с веревками. Ревкомовцам связали руки и всех – выволокли во двор. На дворе – их связали попарно. Надводнюка с Бояром, Малышенко с Яковенко, Логвину скрутили руки за спину. Приговоренных окружили немцы. Надводнюк сосчитал: десять. Шульц отдал какое-то приказание капралу. Капрал щелкнул каблуками, подбежал к отряду и тоненьким, пискливым голоском скомандовал. Отряд двинулся со двора.
На развилке тишину ночи охранял патрульный. Он стал перед капралом навытяжку. На плоском штыке горел отблеск луны. Глаз патрульного не было видно – их прикрывала горбатая каска. Отряд быстро прошел мимо его окаменевшей фигуры… На улицу смотрели слепые окна хатенок. Вязы и тополя отбрасывали тень. Все здесь было знакомым еще с детства. На глазах у Надводнюка и его товарищей выросли эти тополя и вязы, состарились и покосились хаты… На поваленном дубе вечером под воскресенье и в воскресенье собирались соседи, чтобы о своем потолковать… Здесь вот они, ревкомовцы, рассказывали о войне. Теперь – они уже никогда, никогда больше не будут рассказывать. О них только останется печальное воспоминание у многих крестьян. И останутся сироты. И, может быть, у этого дуба прольются сиротские слезы. У своих ворот Григорий – внезапно остановился, обвел грустным взглядом убогое жилище. Губы тихо произнесли: «Прощайте!», ноги налились свинцом, и он не мог их сдвинуть с места. Немец больно толкнул прикладом в спину. Григорий еще больше, еще сильнее сгорбился и пошел вперед. Потом он еще раз оглянулся: из-за вербы виднелась соломенная крыша хаты: «Прощайте!..»
Дмитро шел выпрямившись, с высоко поднятой головой. Он смотрел вперед на покосившуюся хатенку с окошечками, вросшими в землю.
Поровнявшись с окошечками, он крикнул:
– Прощайте!
У берега откликнулось эхо:
– …айте!
Немец ударил прикладом. Дмитро упал. Его подняли, поставили на ноги и снова толкнули. Хатенка скрылась за деревьями.
Возле церкви, посреди улицы застыл еще один патрульный. Он стоял спиной к церкви, лицом к луне. Холодные глаза спокойно смотрели на арестованных. Отряд свернул в узенькую улочку. Навстречу простер огромные руки-крылья ветряк, принадлежавший Орищенко. За ветряком чернели вербы и кусты акаций на кладбище. Вокруг кладбища шла высокая насыпь. Чернели кресты. Двое немцев распахнули дощатые ворота, и отряд пошел среди могил. В стороне, за железными решетками, стояли мраморные памятники и чугунные кресты – это были могилы предков Платона Соболевского. В глубине кладбища торчали огромные дубовые кресты. Под ними лежали Писарчуки и Орищенко, а затем шли кресты помельче. За могилами чернела ветвистая сосна. Отряд обошел ее и остановился на открытом месте. От могил и до насыпи – шагов пятьдесят. Насыпь заросла красноталом и вишнями. Капрал отдал команду. Отряд построился полукругом – спинами к насыпи. Арестованным развязали руки. Переводчик выставил лопаты.
– Копайте!
Никто не решался первым копать могилу своим товарищам.
– Ну! – капрал ударил Григория рукояткой револьвера.
Надводнюк поднял тяжелую немецкую лопату, посмотрел на нее, затем на насыпь, вздохнул и вонзил лопату в песчаную почву. Бояр стал рядом с Дмитром, Гордей и Дорош – спинами к ним. Логвин был посередине. Он плакал.
По бокам вырастали желтые холмики. За ними полукругом, с поблескивающими штыками, стояли солдаты. Капрал курил сигару. Желтые холмики пахли весной. С поля подул ветерок и принес запах навоза и прелой полыни. Ревкомовцы вдыхали его полной грудью. Это был тот запах земли, который донесся к ним в погреб. Луна спряталась за облака. На кладбище стало темно. В селе пропел петух. За ним второй, третий… И опять стало тихо. Ревкомовцы уже по пояс стояли в яме.
Надводнюк позвал переводчика.
– Дайте перед смертью покурить!
Переводчик обернулся к капралу. Тот колобком подкатился к могиле и всем подал сигары. Затем он чиркнул спичкой и поднес ее Надводнюку. Руки капрала дрожали. Все, даже Бояр, который никогда не курил, задымили сигарами. Надводнюк уселся на дно ямы. Рядом с ним устроились остальные.
«Где же Павло?» – подумал Надводнюк и словил себя на том, что еще перед приходом на кладбище думал о Клесуне. Надводнюку казалось, что из-за угла выскочат хлопцы и спасут их. А разве нельзя устроить засаду на кладбище, на этой насыпи?.. Эх, Павло, зачем было писать записку?..
– Копай! – закричал переводчик.
– Вы еще успеете нас расстрелять! – Дмитро выпустил струю дыма прямо в лицо переводчику. Капрал отдал приказ. Плоские штыки нависли над ямой.
– Копай!
Громом ударили выстрелы.
В яму на Дмитра соскользнул капрал, вниз головой упал переводчик. На желтом холмике корчился еще один немец и сталкивал землю ревкомовцам на головы.
– Пли!
Еще двое упало. Отряд в мгновение рассыпался, ноги в тяжелых кованых сапогах затопали между могил.
– Бери винтовки, бей! – Дмитро выхватил из рук мертвого переводчика винтовку и выстрелил врагам вдогонку. Немцы с перепугу и не думали отстреливаться.
– Забирай оружие, вылазь! – кричал Павло.
Это произошло так внезапно, что Дорош и Логвин не успели даже прийти в себя. Их силой вытащили из ямы.
Освобожденные попали в горячие дружеские объятия Павла, Анания, Якова Шуршавого, Сороки. Надводнюку было стыдно перед Павлом. Целуя его, Дмитро нежно погладил плечо Павла.
– Айда в лес, там посоветуемся, а то немцы сейчас всей ротой прибегут сюда!
– В лес, хлопцы!
Они быстро собрали винтовки, сумки с патронами, перепрыгнули ров и один за другим направились через поле в лес. У одной разбросанной кучи навоза Павло остановился и сказал Бояру:
– Дед Кирей вывез сюда винтовки и патроны. Благодарите старика!
– И Марьянку?
– И ее, – тихо ответил Павло.
Из облаков выплыла луна, весело улыбнулась и спряталась снова.
Вдали чернел лес.
* * *
В маленькой уютной комнате раскрыто окно. Под окном цветут акации. В лунном свете серебром поблескивают листочки осокорей. Они тихо шумят. Из сада Соболевского долетает песня соловья. Соловей поет о любви и весне.
Шульц снял френч, погасил свечу и сел в мягкое кресло у окна. Он машинально достал из ящичка ароматную сигару, откусил кончик, закурил, пуская кольца дыма в окно. Кольца расплывались и таяли в лунном сиянии. Шульц закрыл глаза…
Он еще немного обождет. Вскоре тишину этой дивной украинской ночи вспугнет дружный залп. Затем пробежит еще несколько минут, напоенных ароматами весны и песней соловья, и в двери постучат. На пороге появится капрал. Он отрапортует, что приказ господина офицера Шульца выполнен. Завтра он, Шульц, напишет рапорт в штаб, и, возможно, ему, Шульцу, дадут награду… Разве не пора ему носить погоны полковника?.. Шульц мечтательно улыбнулся. Он даже привстал и выпятил грудь. Он будет бравым полковником. Тогда можно будет написать милой Эльзе, что он с этой дивной Украины привезет хлеб, сало и чин полковника. О-о, в Берлине перед ним раскроются двери лучших домов!.. Погоны полковника сделают свое. Разве тогда нельзя будет мечтать и о генеральских эполетах?
Шульц откинул голову на спинку кресла, вслушивался в шум осокорей за окном. Луна спряталась в облаках. Стало темнее. Соловей еще сильнее защелкал. По саду катились его трели.
– Он замечательно поет! – офицер лежал в кресле еще несколько минут, затем поднялся и стал шагать по комнате. Он усердно сосал сигару и вслушивался в шорохи, в шелест ночи.
– Почему так долго не слышно выстрелов?
Где-то пропел петух, за ним второй – в другом конце села. Над Гнилицей прокатилось эхо. Шульц посмотрел на часы. Стрелка показывала два. Уже два часа капрал на кладбище. Шульц не удовлетворится рапортом капрала, он прикажет…
За селом раздались отдельные выстрелы. Еще… еще… Эхо разрозненных, беспорядочных выстрелов гулко катилось по селу. Шульц не отрывался от окна. Кто дал право капралу нарушить приказ командира стрелять одним залпом?!
Офицер быстро надел френч, закурил новую сигару и выбежал на крыльцо. Он сдерживал раздражение, собираясь в разговоре с капралом быть строгим, но выдержанным, как всегда. На перекрестке стоял патрульный. Плоский штык поблескивал сурово в грозно. Шульц спустился с крыльца и прошел вдоль высокого забора. Луна снова выплыла из-за облаков. Патрульный увидел офицера, вытянулся, тверже затопал, меряя шагами перекресток. Шульц удовлетворенно кивнул.
Из темноты донесся топот. Затем на развилку выбежало несколько вооруженных.
– Стой! Пароль? – патрульный щелкнул затвором.
– Кайзер! – запыхавшись крикнул один.
– Разбудите господина офицера! – добавил другой. Шульц подскочил к ним и исступленно закричал:
– Смирно! Где капрал?
Солдат вытянулся и, посмотрев в помертвевшее лицо офицера, испуганно выпалил:
– Расстреляли большевики!
Шульц со всего размаху ударил солдата в лицо.
– Что ты болтаешь? – и, вспомнив одиночные, беспорядочные выстрелы, заломил руки. – Ну?..
Солдат, приложив руку к каске, дрожащим голосом рассказал все, что произошло на кладбище. Шульц все глубже втягивал голову в плечи, стал маленьким, в зубах погасла сигара. Кто посмел стрелять в отряд армии кайзера?! Большевики на свободе, а вместо них расстреляны солдаты кайзера!.. Разве может быть больший позор для офицера Шульца?
Он постоял, опустив голову. Спало село, и соловей уже затих в саду. Солдаты стояли навытяжку. Шульц быстро обернулся:
– Тревогу!
Солдат щелкнул каблуками и побежал к зданию школы. Через минуту во дворе тревожно завыл горн. Из школы выбегали вооруженные немецкие солдаты, торопливо строились. Вынесли два пулемета. Офицер стоял с правого фланга. Шеренга замерла в ожидании приказа. Шульц подошел ближе:
– Солдаты кайзера! – голос Шульца хрипел. – Большевики убили ваших товарищей! Ваши товарищи зовут отомстить за них! Приказываю: немедленно задержать большевиков! Командовать экспедицией буду я!.. Направо, шагом марш!
Два взвода, ритмически покачиваясь, пошли вдоль улицы.
– Бе-го-ом! – Шульц, поблескивая желтыми крагами, побежал сбоку. От топота двух взводов дрожала, тряслась земля.
У кладбища Шульц приказал рассыпаться цепью. Немцы быстро миновали кладбище, перебежали по песку и остановились перед густым лесом. Солдаты в нерешительности замедлили бег. Страшно было идти в лес – из-за каждого дерева их поджидала смерть. Шульц оставил возле себя пятерых. Остальным приказал углубиться в чащу и искать беглецов. Немцы неохотно пошли между деревьями.
Лес стоял молчаливой стеной. То тут, то там спросонок вскрикивала одинокая сорока. В селе пели петухи. На востоке гасли звезды, приближался рассвет. Шульц стоял на опушке, жевал кончик сигары и прислушивался к малейшему шороху. Но, кроме стрекотанья сороки, из лесу не долетало никаких звуков… Шульц не двинулся, пока на востоке не сверкнул первый луч солнца. Лес сразу ожил. Каркали вороны, свистели синицы, дружно стрекотали сороки.
– Горнист, сбор! – со злобой крикнул Шульц своему горнисту.
Над сосняком поплыли звуки трубы. Через несколько минут из лесу стали выходить немцы. Они тяжело дышали и подозрительно посматривали на офицера. Шульц отвернулся. Немцы оглядывались друг на друга, становились в строй. Офицер, конечно, не знал, что его солдаты дальше чем на двадцать шагов от опушки не отходили.
* * *
У ворот Надводнюков Шульц остановил первый взвод, второй направился в штаб. Офицер ударил ногой в калитку и забарабанил в окошечко. Из хаты вышел Тихон. Шульц сразу же кинулся к старику и, размахнувшись, ударил его по лицу. Тихон упал возле порога. Из носа брызнула кровь.
Тихониха выбежала из хаты.
– За что вы его так? За что?
Шульц выхватил шомпол из рук солдата и ударил старуху по сгорбленной спине. Тихониха упала рядом с мужем. Офицер заорал на высокого, тонкого, как жердь, солдата. Тот как бы переломился надвое и крикнул Тихону:
– Господин офицер спрашивает, где сын?
Старик медленно поднялся на ноги и сел, по бороде катились капли крови и падали на грудь.
– Я не знаю, куда вы дели моего сына, – выплевывая кровь, прохрипел он.
Шульц снова гаркнул на длинного, и тот спросил:
– Господин офицер хочет знать, кто помогал твоему сыну бежать?
Старуха быстро поднялась и перекрестилась:
– Бежал? Слава тебе, господи!
Солдат перевел ее слова Шульцу. Крупные красные пятна выступили на щеках офицера. Он откусил кончик сигары, отвернувшись, бросил:
– Шомполов!
Солдаты выдернули из своих винтовок шомполы, повалили стариков на землю и стали бить. Тихон раздирал ногтями землю, хрипло вскрикивал:
– А-а-а… а-ах…
Старуха совала в рот кончик платка. От каждого нового удара ее сухое, сгорбленное тело подскакивало, как мяч.
Шульц считал удары. Десять… Пятнадцать… Махнул рукой. Длинный снова спросил:
– Скажете?
Старики молчали. С минуту Шульц раздумывал, затем выплюнул сигару, выхватил шомпол из рук солдата, откинул концом шомпола край окровавленной юбки старухе на голову и начал сечь.
– Пан офицер будет бить, пока ты не скажешь! – выкрикнул солдат.
Старуха сжималась в комок, вытягивалась, хватала руками воздух, землю, жевала беззубым ртом платок и со стоном твердила:
– Не знаю… не знаю…
Вдруг она затихла. Ее окровавленное худое тельце утонуло в луже крови. Вспотевший Шульц, закрыв глаза и высунув кончик языка, уже машинально опускал шомпол на комок мяса. Тихон попытался подняться, но, обессиленный, упал, сгребая в ладонь горсть мокрой от крови земли. Офицер сплюнул, отбросил шомпол и, рванув с гвоздя тряпку, стал вытирать красные пятна с краг. Солдаты принесли из сеней ведро воды, облили старуху. Она, посиневшая, лежала, скрючив под собой руки. Солдат тронул ее за плечо и тихо прошептал:
– Мертвая…
Шульц гадливо поморщился, кивнул на Тихона и ушел со двора. Тихона схватили подмышки и поволокли на улицу…
Взвод остановился возле Бояров. Отдав приказание, Шульц быстрым шагом пошел к зданию школы. Солдаты вытащили из хаты Кирея в полотняной рубахе, крашеных синих брюках, босого. Увидев Тихона, Кирей всплеснул руками:
– Ч-черт побери, так вот избить человека!..
Переводчик ударил Кирея прикладом в спину. Кирей упал, сплюнул кровью. Его подхватили и вслед за Тихоном поволокли по улице.
* * *
В маленькой комнате перед офицером стоял Писарчук. Шульц, медленно отхлебывая, глотками пил кофе. У дверей замер переводчик.
– Что прикажет пан офицер? – изогнулся Федор Трофимович.
Шульц бросил несколько фраз переводчику. Тот в тон офицеру сказал:
– Пан офицер приказывает созвать всех крестьян. Срок: тридцать минут.
– Не успею за тридцать.
Шульц рывком поднялся на ноги. Писарчук выбежал из комнаты.
Ровно двадцать пять минут офицер ходил по комнате, затем в сопровождении ординарца и переводчика направился к церкви. На погосте еще никого не было. Он обошел вокруг церкви, постоял возле мраморных надгробий, посмотрел на позолоченные надписи и снова поднялся на паперть. По одному на погост приходили крестьяне. Поклонившись, к паперти подошел Рыхлов.
– Выражаю вам свое сочувствие, господин Шульц. Уверен, что вы, как следует, накажете негодяев.
Офицер молча пожал холодную руку Владимира Викторовича и посмотрел на часы.
– Почти час я вынужден ожидать! Р-россия! Некультурный дикий народ, скоты!
Рыхлов угодливо улыбнулся.
Офицер сделал еще несколько шагов по паперти.
– За разграбленное они уплатили господину Соболевскому?
– Попрошу вас, господин офицер, повлиять на них вашими методами.
Шульц кивнул.
Крестьяне сбились в кучку. Пришла Марьянка. В толпе быстро распространилась новость: ревкомовцы бежали из-под расстрела, да еще нескольких немцев застрелили. Немцы убили старуху Надводнюк, избили Тихона и Кирея, арестовали Марка Клесуна и мать Гордея Малышенко.
К паперти торопливо прошли Писарчук, Маргела и Варивода.
– Можно начинать, – шепнул Писарчук Рыхлову.
Тот передал слова Писарчука Шульцу. Офицер что-то быстро сказал Рыхлову. Рыхлов шагнул вперед:
– Господин офицер велел мне передать вам, что если вы до завтрашнего утра не приведете к нему всех большевиков, он наложит на вас контрибуцию: пять тысяч пудов хлеба, пятьдесят коров, столько же свиней и расстреляет тех, кого арестовал сегодня. Слышали?
Крестьяне молчали.
– И еще господин офицер велел передать вам, что если вы в течение двух дней не вернете награбленного в нашей усадьбе и не уплатите денег, у вас деньги отберут силой, а у кого найдут наше имущество – того расстреляют! Слышали?
И теперь крестьяне молчали. Рыхлов сошел с паперти, ткнул пальцем на Гната Гориченко:
– Ты сейчас пойдешь на кладбище рыть могилу для убитых немецких солдат. И ты! – обернулся Рыхлов к рыжему с бородавкой на большом носу крестьянину. – И ты… И ты… И ты – тоже… – указывал он на стоявших поближе крестьян. – Разойдись!
Крестьяне бросились к воротам, теснились, стремясь поскорее вырваться на улицу.
– Доигрались с большевиками! Доигрались! – злорадно кричал им вслед Писарчук.








