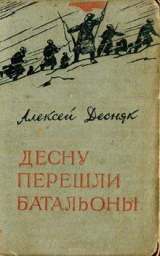
Текст книги "Десну перешли батальоны"
Автор книги: Алексей Десняк
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Глава вторая
Гневный и злой возвращался Григорий Бояр домой. Работы на станции не нашлось. Карьеры в лесу тоже закрывались. Дома его поджидала еще одна неприятность – пока он ходил на станцию, пришли сотские и арестовали Кирея. На завалинке голосила одинокая Наталка.
– Писарчук? – сквозь зубы процедил Григорий.
– А кто ж другой?.. В Сосницу угнали.
Бритое лицо Григория почернело. Он сразу выпрямился, сжал кулаки и опрометью кинулся со двора. Остановился он лишь возле хаты Маргелы, в которой заседал недавно избранный комитет. Григорий влетел в хату и осмотрелся. Здесь он никогда еще не был. В углу, под потемневшими иконами, сидел Писарчук, без шапки, в легкой, добротной, из синей шерсти чемерке и в начищенных сапогах «бутылками». У стола в военной гимнастерке сидел писарь – однолеток Григория – Прохор Варивода. Он делал вид, что не замечает Бояра. Такая встреча покоробила Григория. Он посмотрел на третьего. Опершись спиной об угол печки, стоял Маргела. Он курил трубку. Высокий, черный, с длинным, жирно намазанным чубом и небольшими масляными глазками, Маргела был похож на старую лису.
– Защитникам отечества наше почтение! – Маргела низко поклонился Григорию и повел бровью в сторону Писарчука. Тот поднял голову от стопки воззваний Временного правительства.
– Чего хочешь? – не спросил он, а выкрикнул.
– Правды! – рубанул Григорий, обдергивая гимнастерку, и без того аккуратно облегавшую его крепкие и широкие плечи.
– Правды?.. Хе-хе-хе!.. Ты ее когда-нибудь пробовал? Хе-хе-хе!.. – масляные глаза Маргелы быстро забегали в орбитах. Григорий побагровел. На висках вздулись жилы.
– Л плакать не придется?
– Но-но! – Писарчук ударил кулаком по столу. – Говори, чего явился?
– Не стучите! Фельдфебелей видели… Отца зачем потащили в Сосницу?
– По закону!.. Платона Антоновича побил. Палку его поломал. Бунтовал против власти.
– Это не отец хотел бить пана, а пан – моего отца.
– Ты знаешь, или мы знаем?
– Я!
– Ну и знай! – нагло выкрикнул Писарчук.
– Знаю… Это вам не Николкин режим, не забывайте!
Писарчук выпрямился под иконами, провел рукой по недавно подстриженному ежику и еще наглее крикнул:
– Наш режим!
– Чей это «наш»?
– Народный.
– На-родный?.. Платона Соболевского и ваш?
– Против власти агитируешь? За отцом в Сосницу хочешь?
– Поскользнетесь! – Григорий изо всех сил хлопнул дверью и вышел на улицу.
«Зачем я пришел сюда? – неожиданно спросил себя Григорий. – Правды искать? Разве я заранее не знал, кто сидит в этих комитетах? И фронтовик Варивода с ними заодно… Верховодят в селе… Подождите, подождите! – он сжал кулаки и посмотрел на них. – Не тут ли, не в них ли правды искать, в своих кулаках?».
Ему захотелось рассказать близкому товарищу о своей обиде и своих мыслях. Дмитро – фронтовик, он поймет его и посоветует. Третий день Григорий дома, а все еще не виделись. Друзьями ведь были они до войны. Григорий поспешно направился к Надводнюкам.
У калитки дымил самосадом старый Тихон.
– Дмитро дома?
– Да, дома, – недовольно буркнул старик, идя вслед за Григорием. Бояр, не бывший здесь года три, заметил, что хатка Надводнюков еще больше покосилась, прямо по окна осела в землю. Не успел Григорий повернуть щеколду, как дверь потащила его за собой и он очутился в сенях. Тихон и Бояр вошли в хату. Григорий понял, почему старик недоволен. Дмитро сидел на колоде возле скамьи и чинил сапоги, а сегодня ведь было воскресенье.
– Здорово, друг!
Дмитро поднялся, высокий, как отец, и протянул Григорию большую, перепачканную варом руку.
– Здорово, Григорий!.. Рад встретиться на этом свете.
Он снова уселся и потянул в обе стороны концы дратвы. Григорий заметил перемены в Дмитре. В его когда-то буйные, непослушные волосы начала закрадываться седина. Большой, с горбинкой нос заострился. В серых глазах уже не было прежнего юношеского задора, который так любили товарищи. Вместо него, где-то в глубине поблескивали огоньки неудовлетворенности. В углах губ залегла новая морщина, свидетельствовавшая об упорстве и внутренней силе.
– Изменился ты, Дмитро, – сказал Григорий, довольный своими наблюдениями, и подумал: «Этот себе в тарелку не даст наплевать!»
– Да-а… Изменился. Жизнь, брат, наша такая. Да и ты постарел, – сказал Надводнюк, посмотрев в открытое лицо Григория с маленькими клинушками лысины, которые с годами ползли на темя. – На западном был? Я тоже был там… Вот сапоги чиню соседу. Хлеба нет, денег нет! Зарабатываю. Не забыл за три года своего ремесла… Ты сам ушел?
– Дали на три дня отпуск, вот я и смылся.
– А у нас взвод отвели с позиций в тыл на отдых, мы и разбежались. Взводный пример подал!.. – засмеялся Дмитро, показав два ряда крепких, пожелтевших от табака зубов. – Георгия не привез? – снова Дмитро засмеялся. Григорий тоже усмехнулся.
– Георгия у меня нет, но лычку одну имею.
– A-а… За что?
– Пулемет немецкий притащил во время боя. А ты?
– Я тоже имел лычку. Аэроплан сбили. Потом сняли ее, еще и на «губе» сидел.
Дмитро отбросил сапог, взял из деревянной коробки клочок бумаги и скрутил козьюыо ножку.
– Повели нас в церковь в одном селе. Ну, стоим. Длинноволосый курит фимиам за благословенное воинство… – Тихон при слове «длинноволосый» сплюнул и вышел из хаты. – Был у нас такой чудак – Цветков. Я стоял первым, правофланговым, а он позади меня. Накупил этот Цветков копеечных свечек и решил поставить перед каждым угодником. Выйти из строя нельзя, так он положит мне свечу на левое плечо и похлопает: «Божьей матери»… «Тройце единосущной»… «Георгию победоносцу»… Я передавал свечи и его наказ дальше, передним. Нам уже надоело, а он все передает и передает… Вот снова по плечу хлопает. Я поворачиваю к нему голову и говорю:
– Слушай, Цветков, квартиры святых не только в правом углу!
Солдаты покатились со смеху. Полковник тоже услышал, побелел весь. Дернул себя за крашеный ус и давай греть ротного… Девять дней просидел я на «губе»!
Фронтовики несколько минут хохотали.
– Знаешь, Дмитро, моего старика Писарчук с Соболевским в Сосницу угнали.
– Что ты?
Григорий рассказал о стычке Кирея с Соболевским на плотине.
– Я был в их комитете.
– Ну и что? – лукаво поднял брови Дмитро.
– Писарчук угрожал мне. Вслед за отцом в Сосницу не прочь был отправить.
– Что же ты теперь будешь делать? – Надводнюк долго не сводил с Григория испытующего взгляда.
– Как подумаю, сколько пришлось выстрадать в окопах…
– А они здесь и горя не знали, – добавил в тон ему Дмитро.
– …то хочется пойти к Соболевскому и Писарчуку, шею им свернуть!
Довольный этим ответом, Надводнюк отбросил сапог и хлопнул Григория ладонью по плечу.
– Идем искупаемся в Лоши!
За огородами, над Лошью, был котлован, откуда водонапорная башня брала воду и гнала ее по трубам на станцию. Берег здесь песчаный, чистый и крутой. Это было излюбленным местом купания семьи Соболевских. Сюда вот и пришли фронтовики. На песке лежали двое: мужчина и женщина. Ода подняла крик:
– Не для вас, не для вас!
– Куда лезут? – возмущался мужчина.
Дмитро отошел за вербу и стал раздеваться. Берег зарос крапивой. Дмитро разбежался и прыгнул в воду. Вынырнул он сажени за четыре от берега на открытом месте, расправил плечи и крепко ударил сильными руками по воде.
Бояр быстро его догнал. Они вышли на противоположный, покрытый травой берег. Здесь начинался луг. Роскошный и яркий полесский луг, весь в ромашке, шалфее, синих колокольчиках и диком клевере. Фронтовики легли в траву. Им видна была их одежда, развешанная на кустах, котлован, женщина и мужчина, греющиеся на песке.
– Зять Соболевского, говорят, кадровый кавалерийский офицер, – кивнул Дмитро в сторону котлована и добавил: – Из тех, кто считал зубы нашему брату. – Дмитро перекусил травинку, пожевал и сплюнул. – Позвал я тебя сюда, по душам поговорить. Может быть, об одном думаем. Ты был в их комитете, видел, кто там засел. Да и я уже поинтересовался. Писарчук – первый богач в селе, с Соболевским соперничать начинает, Орищенко – на Писарчука равняется, поп Маркиан, Маргела да Варивода. Варивода в эсеры записался. Меня вчера приглашал в свою партию. Да разве я не знаю, кто они? Это – пособники Писарчука. Вот кто этот комитет, Григорий. От таких Керенскому подмога и Центральной раде. А все они вместе против нашего брата.
– Центральная рада в своих универсалах что-то о земле писала?
– Слушай, Григорий! Вот сюда, – и Дмитро показал на свою шею, – пока мы воевали в окопах, нам эту раду помещики с Писарчуком и фабрикантами посадили. Мы ее не выбирали, значит, она и не наша власть! Народ повсюду недоволен, голоден, войной измучен. Вот рада и вертится, как вьюн в проруби. Универсалы написала, а ничего не дала. Как же пойдет она против своих хозяев, сидящих в комитетах и вон там греющих бедра на песке? Разве Кирея забрали бы в Сосницу, если бы эта власть была за нас, а не за панов? Так, дружище?
Григорий и сам много думал об этом. Теперь Дмитро те же мысли высказал. Не сказал только, как быть в дальнейшем. Невтерпеж больше.
Словно читая его мысли, Надводнюк продолжал:
– Они крепко сплотились в своем комитете. В селе верховодят. Народ еще не знает, где правда. А мы, фронтовики, хорошо знаем. Вот давай и начнем работу. Я, ты, Малышенко Гордей, Клесун Павло, Тяжкий Ананий, Кутный Яков да и другие фронтовики найдутся. Бедноту вокруг себя сплотить нужно, глаза людям раскрыть. Вот такое будет начало. – Надводнюк посмотрел вокруг и зашептал тише. – Нам дорогу потом укажут.
– Кто?
– О большевиках слышал в полку?
Григорий кивнул.
– Так вот был в одном взводе со мной мой друг. Уже много лет в партии. Рабочий… Теперь он в Сосницкой организации. Я с ним связь поддерживаю, на днях его увижу…
Григорий взволнованно пожал руку Дмитру. В этом пожатии была благодарность за то, что Дмитро ему открылся, за то, что знал, с чего начинать, и теперь привлекает Григория к общему делу. Григорий почувствовал, что их дружба после трехлетней разлуки стала еще крепче. Он внимательно слушал Дмитра и был готов идти за ним.
Глава третья
Марьянка устала. Вчера весь день прибирала в комнатах. Натирала воском паркеты, чистила посуду, крутила мороженицу: мороженое так любит барышня Муся, которая сегодня должна приехать из Сосницы, где она учится в гимназии. А еще пришлось Марьянке, по распоряжению барыни Нины Дмитриевны, выбирать клубнику в саду. Потом пекли пироги с ягодами, с сыром, с яйцами, готовили всевозможные блюда. Разве справится у печи с этим одна кухарка! Потом на станцию за газетами и письмами для господ пришлось бежать Марьянке. К вечеру она с трудом волочила ноги, так устала, а ночь – моргнуть не успеешь, как уже время вставать.
Еще вчера господа послали лошадей в Сосницу. Муся должна быть сегодня к раннему обеду. Платон Антонович оделся по-праздничному – тонкая батистовая сорочка, серый жилет. Аккуратно в обе стороны расчесал бороду, взял черную с широкими полями шляпу. Он гоголем подходил к Нине Дмитриевне, высокой и очень худой, которую заглаза все называли «щукой», вертелся на больных ногах и спрашивал, хорошо ли одет? Нина Дмитриевна находила туалет мужа безукоризненным. Платон Антонович не удовлетворялся похвалами жены. Он пошел на обвитую диким виноградом веранду, где в кресле-качалке сидел зять, красивый полный брюнет.
– Владимир Викторович, как вы меня находите?.. О-о-о, я и не заметил! Завидую вашему вкусу! – сказал Соболевский, увидев серый костюм зятя.
– У вас, папа, тоже неплохой вкус. Сразу виден опытный кавалер.
– Шутите?
– Нет, я серьезно! – зять вынул из бокового кармана золотые часы. – Папа, уже двенадцатый час. Муся должна скоро приехать.
– Нина, Глафира, Таня, Ксана! Собирайтесь!
Через несколько минут на веранде собрались женщины. Внимание к себе привлекала Ксана: высокая и стройная, с гордо поднятой головой и правильными чертами лица. Выражение уверенности в том, что она неотразима, не сходило с лица Ксаны. Белое шелковое платье плотно облегало ее талию, большое декольте обнажало белую шею и полные плечи. Умение держаться Ксана приобрела в институте, где учились дочери аристократов. Она, как и ее сестра Муся, которую ожидали сегодня, была дочерью скромного сельского учителя, теперь, в военное время пехотного офицера Бровченко, и потому для нее были закрыты двери аристократического института. Но на помощь подоспели бездетные тетя Глафира и ее муж – Владимир Викторович. Они имели большие связи в Москве, и им удалось устроить Кеану в институт. В институте она сразу поняла, что от нее требуется, прекрасно переняла и усвоила манеры и повадки окружавших ее генеральских дочек, своих подруг. Теперь она держала себя, как аристократка, иногда даже с презрением относилась к своим родственникам-провинциалам.
Выйдя на веранду, Ксана грациозно, но с чувством собственного достоинства поклонилась. Владимир Викторович быстро поднялся и поцеловал ее оголенную полную руку. Платон Антонович удовлетворенно кашлянул.
– Наша Ксана – просто чудо! – любуясь ею, говорила мягким и манерно-нежным голосом старшая дочь Соболевского – Глафира Платоновна. Глафира Платоновна – среднего роста, круглолицая, с медлительными движениями – взяла свою племянницу об руку. Глафира Платоновна была в роскошном шелковом костюме сестры милосердия, на голове – белая косынка, спадавшая на плечи, а на высокой груди красовался большой красный крест. В начале войны она действительно была сестрой милосердия в Риге, где стояла воинская часть Владимира Викторовича – ее мужа. Пока раненых было немного, Глафира Платоновна ездила в госпитали, раздавала подарки «солдатикам» и иногда даже делала перевязки. Когда же госпитали заполнились искалеченными на фронте солдатами и вид раненых и их нечеловеческие страдания стали действовать на ее нервы, когда стало ясно, что война требует большого самопожертвования, Глафира Платоновна сразу забыла о своем патриотизме и перестала посещать «солдатиков». В дни приближения немцев к Риге она благополучно эвакуировалась в Москву, а летом приехала к отцу в Боровичи и мужа вызвала сюда в отпуск. Она любила всем рассказывать, как заботилась о «солдатиках», и сама верила в то, что рассказывала, и, расчувствовавшись, плакала. В деревне она продолжала игру в милосердную сестрицу, носила форму (которая была ей так к лицу) и время от времени собирала среди крестьян пожертвования для окопных героев.
– Пойдем, чтобы не запоздать, – тихо попросила Татьяна Платоновна, мать Ксаны и Муси.
Татьяна Платоновна – полная противоположность сестре. Тихая, скромная и трудолюбивая женщина, без капризов и чрезмерных требований. Еще в гимназии она перечитала множество книг, которые оказали на нее большее влияние, чем родители. Окончив гимназию, Татьяна Платоновна пошла работать в школу народной учительницей. Там она встретила молодого способного учителя из крестьян Петра Варфоломеевича Бровченко. Ей понравился высокий, стройный и серьезный Бровченко. Он сделал предложение. Татьяна Платоновна ему не отказала, хоть и предвидела, что отец не даст согласия на этот брак. Обвенчались они тайком. Соболевский принужден был примириться со свершившимся фактом, но отказался что бы то ни было дать в приданое дочери и Петра сыном не называл. Непримиримая вражда навсегда осталась между тестем и зятем. Когда началась мировая война, Бровченко мобилизовали на фронт, и Соболевский забрал дочь и внучек к себе.
…Соболевские вышли на улицу. Впереди, опираясь на палку, волочил ноги Платон Антонович, за ним шел Владимир Викторович, взяв под руку Глафиру и Ксану, за ними – Татьяна Платоновна и Нина Дмитриевна, приподнявшая, чтобы не запылить, край своего платья. Они свернули вправо, к плотине и, спускаясь с горы, всматривались в дорогу, пролегавшую через луг.
– Господа, в лесу, в холодке подождем! – предложил Владимир Викторович. Все согласились. Офицер стал рассказывать о неутешительном положении на фронте, о массовом бегстве солдат из окопов. Глафира Платоновна умело поддерживала разговор мужчин и в то же время восхищалась пейзажем. Восхищаться, действительно, было чем: справа от дороги, в низине, на лугах, принадлежавших отцу, росла густая высокая трава, слева – отцветали цветы на пригорках. Впереди, маня прохладой, зеленела дубовая рощица, белели нарядные березки. Глафира Платоновна оглянулась. Над Гнилицей поднималась гора. На ней – село. Слева от плотины начинался их сад – там роскошная аллея, еще в молодости названная ею «Аллеей вздохов». Глафира Платоновна видит даже увитую диким виноградом беседку. Сколько там передумано в молодые годы!
– Люблю наши Боровичи! В них столько поэзии. Луга, леса, поля, река Лошь! Куда ни пойдешь – душа радуется. Всю зиму – в Москве, и весело, кажется, жить в таком большом городе, а как придет весна – не могу! Тянет меня в Боровичи! – восхищенно тараторила Глафира Платоновна.
– Действительно, флора Полесья чрезвычайно богата. Прекрасный колорит! – поддерживал жену Владимир Викторович.
– Общества здесь нет подходящего, – с грустью проронила Ксана.
– О-о, я тебя, Ксана, понимаю, – многозначительно улыбнулся Владимир Викторович. – Офицерские погоны, шпоры, музыка, песни, развлечения!.. – и вздохнул.
Они вышли на опушку. Дорога, вырвавшись из леса, снова запетляла по лугу к соседней деревне.
Ксана взобралась на пенек.
– Наши лошади!
Все поспешили навстречу. Офицер стал торопливо собирать букет луговых цветов. На дорогу вырвалась пара серых, в яблоках, лошадей. Хоть дочери еще не было видно, Татьяна Платоновна первая замахала платочком. Платон Антонович азартно махал шляпой. Блеснули белые бретели гимназического передника, над бричкой покачивалась соломенная шляпка. Муся сияла счастливой улыбкой. Кучер круто остановил лошадей. Татьяна Платоновна кинулась к бричке. Муся повисла на шее у матери. Глафира Платоновна привлекла гимназистку к себе, не преминув выдавить из своих холодных глаз пару слезинок. Когда мать и тетка выпустили Мусю, она очутилась в объятиях Нины Дмитриевны, затем к ней неторопливо подошла Ксана и, склонившись, поцеловала в щеку. Платон Антонович подставил голову. Муся чмокнула его и протянула руку Владимиру Викторовичу. Он прикоснулся губами к ее пальчикам и, протянув букет ромашек и синих колокольчиков, просил не быть слишком требовательной и принять скромные цветы родного края.
– Ах, как я по вас соскучилась! Вы понимаете: я в Боровичах!.. Я в Боровичах!.. Лес, поле, луга – для меня!.. Нет противной математики! Нет немки!.. – Свобода!.. – Муся подпрыгивала, болтала без умолку, забегала вперед, пританцовывала, скакала на одной ноге.
Ей было лет шестнадцать. Полненькая, живая и веселая, с серыми быстрыми глазками, с ямочками на щеках и двумя каштановыми косами – она производила приятное впечатление, хоть и не была так красива, как старшая сестра.
– Господа, пойдем пешком? Доставьте мне удовольствие.
Лошадей пустили вперед. В центре шла Муся, рядом – мать, бабушка, тетя, за ними Ксана и мужчины.
– Что у вас нового слышно в гимназии? – спросил Владимир Викторович, когда женщины немного угомонились.
– Все говорят о свободе! – выпалила гимназистка. Соболевский сердито кашлянул. – У нас тоже свои ораторы. Катя Гребницкая вылезет на стол, когда воспитательницы нет, и давай, и давай ораторствовать. И о равенстве, и о братстве! Ах, как она говорит! Где только она слова берет? Настоящий оратор.
– Черт знает, что она говорит!.. Розгой некому вас…
– Розгой?.. Шутите!.. А однажды мы штукенцию подстроили нашей монархистке… Воспитательница у нас, Лидия Аполлоновна, монархистка.
– Ты в этом что-нибудь понимаешь, Муся? – спросил офицер, насупив густые брови.
– Все говорят в гимназии… Послушайте. Сделали мы красивый красный бант, понимаете, красный, и положили в ее журнал. Приходит Лидия Аполлоновна, манерно поджала губы, обвела лорнетом весь класс. Мы притаились, молчим. Раскрыла она и: «Ах-ах! бунт в гимназии!.. Ах… ах!..» и упала на стул. Крик на всю гимназию подняла. Начальница прибежала, топает, страшная стала… Допрашивала, допрашивала, а мы, – словно воды в рот набрали… Так мы и победили! – удовлетворенно засмеялась гимназистка.
– И ты, Муся, не понимаешь, как непристойно то, что вы сделали? – не пряча иронической улыбки, спросил Владимир Викторович.
– Что тут непристойного?.. – удивилась девушка. – Теперь не монархический произвол! – повторила она, очевидно, кем-то в гимназии или на улице сказанные слова.
– Господи, боже мой!.. Муся! – женщины всплеснули руками.
– Ну и времена!.. Розги нужны, шомпола нужны! Боже, дай твердую руку и чистый разум для спасения России!.. – прошел вперед Владимир Викторович. – Вакханалия!..
Татьяна Платоновна украдкой дергала Мусю за платье. Глафира Платоновна стала быстро говорить о купальне. Ксана прищуренными глазами удивленно, словно на какого-то зверька, смотрела на сестру… Разговор оборвался. Радость встречи неожиданно испортила та, которую так торжественно встречали.
* * *
На следующий день Муся обежала весь сад, побывала у реки, на лугу. Радости ее не было предела. Занятые своими делами, домашние не обращали на Мусю внимания, у девушки было много свободного времени. Правда, Глафира Платоновна, вспоминая встречу в лесу, заводила длинные и скучные разговоры о выдержанности и поведении молодой девушки, но Муся легкомысленно отмахивалась и спешила в лес или на луг. Если у Марьянки выдавалась свободная минута, то Муся, чтобы не было страшно одной в лесу, брала ее с собой. Вскоре Муся привыкла к этой простой и ласковой девушке, певшей прекрасные украинские песни.
Больше всего любила Муся плескаться в воде, но купалась не там, где вся семья, а выбрала себе местечко на Глубокой луке, поодаль от деревни, на лугу, где можно и в Лоши искупаться, и по траве побегать, и на солнце полежать – никто не помешает. Муся не умела плавать. Марьянка ее научила, сделав из сухого ситника поплавки. Муся весело проводила свободное время.
Но иногда и Мусе бывало грустно. Иногда по ее подвижному лицу пробегала тень. Ляжет тогда Муся на траву и думает, напрягает память, хочет восстановить в своем представлении дорогой образ отца. Вот стоит отец перед ней, готовый к походу: высокий, по-военному стройный, целует ее на прощанье. Слезы бегут по гладко выбритым щекам. Силится Муся представить себе выраженье отцовских глаз, но не может. Дорогое лицо расплывается в пятно, остаются только длинные усы.
– Отчего вы такая грустная, Муся? – спрашивает Марьянка, сплетая венок из ромашки.
– Три года отца не видела.
– Соскучилась?
– Очень! Он один меня любил и любовь свою не скрывал, как скрывает мама. А тебя, Марьянка, любил твой отец?
Встрепенулась девушка, низко-низко склонила голову над венком. Любил ли ее отец? Не знает Марьянка, не помнит этой любви. Пять лет ей было. Отец ходил на заработки в экономию Мусина-Пушкина. Всегда возвращался без сил и на кого-то сердитый. Что произошло в этой экономии – не знает Марьянка. Мать рассказывала, что прискакали казаки, забрали отца и долго били его нагайками. В Сосницу его угнали. Там, говорят, тоже били… Да кого казаки не избивали в те страшные годы? Вернулся отец домой, надрывно кашлял, слег и вскоре умер. Внутренности ему отбили… Уже больной, он, бывало, приподнимется, сядет на скамейке, возьмет ее, Марьянку, на колени, гладит потрескавшейся ладонью, а у самого слезы из глаз катятся. Обросший весь, волосы спутанные, а сам желтый, желтый, как воск. «Хотел, чтобы хоть тебе лучше жилось, моя девочка…» Таким помнит своего отца Марьянка. И грустно ответила Мусе:
– Наверно, любил меня отец… – и на длинных ресницах засверкали росинки. Муся посмотрела на нее, что-то подкатилось к горлу, стало нечем дышать. Упала она лицом в траву и заплакала. У каждой и горе свое, и слезы – свой. Поплакали девушки, умылись в Лоши и молча пошли домой…
Ходили они и в сосновый лес за грибами. Сосняк густой, еще не расчищенный. Выберет Муся место где-нибудь в глубине сосняка, возле молоденьких березок, ляжег в траву и глядит в небо. Где-то высоко-высоко плывут облака. Тихо гудят сосны, свистят синицы. Смотрит Муся в небо и просит Марьянку что-нибудь спеть. Марьянка начинает старинную, еще от матери слышанную песню:
Дівчинонько, шумить гай,
Кого любиш – забувай…
Тихо льется песня, и никому не слышно ее из лесу. Поет Марьянка о злой свекрови и несчастных молодоженах, не имеющих своей хаты.
Постав хату з лободи,
А в чужую не веди…
Когда она умолкла, Муся неожиданно поднялась на локте и спросила:
– Марьянка, сколько этой сосне лет?
– Семнадцать.
– Откуда ты знаешь?
– Ее посадили в тот год, когда я родилась. Рассказывала мать, как трудно было ей на работу ходить и за мной присматривать…
Муся растерялась, потому что такого ответа не ожидала. Помолчав, протянула руку и погладила колено Марьянки.
– А я по сучкам высчитала, что сосне семнадцать лет. Так в книжках написано.
– Книги не для меня писаны, – в голосе Марьянки звенит печаль и зависть к гимназистке. – Вы, Муся, учитесь, знать все будете, и мне хотелось быть грамотной, да не для меня, несчастной, были школы. Вот и живу в прислугах у господ, темная, забитая. Почему это так на земле: одному все счастье, а другому ни крошки?
Муся опустила голову, не выдержав взгляда черных глаз. Никогда она об этом не думала. Не глядя на Марьянку, она спешила оправдаться. Она не виновата, что Марьянка неграмотна. Судьба ее, верно, такая.
– Научите меня, Муся, читать книги, а я вам буду всякие-всякие песни петь и вас научу! – черные глаза молили.
– Что тебя интересует в книгах?
– Может быть, они мне скажут, почему одним все счастье, а другие его не видят?
– Таких книг нет, Марьянка.
– Есть! Они должны быть! Я их найду, только научите меня!
Муся пообещала. Марьянка выпросила у Татьяны Платоновны букварь. Когда девушки снова пошли к реке, Муся познакомила Марьянку с азбукой. Девушка набросилась на занятия, как голодный на кусок хлеба.
* * *
Однажды Муся попросила Нину Дмитриевну:
– Бабушка, родненькая, отпусти Марьянку со мной на станцию, может быть, письмо от папы есть.
– Подумаешь, подружку нашла!
– Бабушка, дорогая, я боюсь одна! – Муся сумела состроить такое грустное лицо, что вызвала у бабушки жалость.
– Ну, идите уже, идите… Ох, испортишь ты мне прислугу, придется другую брать.
Но Муся уже не слушала, довольная своей победой, и побежала одеваться.
От усадьбы Соболевских до станции километра три. Полдороги идти через село, а затем – по полю. Минут через сорок девушки были на станции.
Пришли чуть ли не за час до прихода поезда из Гомеля. У знакомого телеграфиста забрали газеты для Соболевских: писем не было.
«А вдруг с этим поездом будут! – думала, нервничая, Муся. Долгое отсутствие писем от отца волновало девушку. – Может быть, с отцом случилось что-нибудь, теперь такое делается на свете. Может быть, он раненый лежит где-то, помощи просит… А может быть… Нет-нет, об этом думать не надо. Вот с этим поездом придет письмо, отец сообщит, что он жив, здоров… Поскорее бы поезд!» – Нервными шагами Муся мерила перрон, Марьянка едва поспевала за ней.
Наконец, из лесу вырвался клубок белого дыма и растаял в небе. Из-за сосен показался паровоз, а за ним на повороте выгнулась цепочка вагонов. Пассажирский быстро несся к станции… Вот паровоз уже у перрона. Муся бросилась к почтовому вагону, откуда человек в синем переднике передавал письма дежурному по станции.
– А нам есть? – Мусин голос дрожал. Дежурный пересмотрел пачку газет и покачал головой. Муся повисла на руке у Марьянки.
– Идем…
Марьянка подвела ее к скамье. Девушка в изнеможении оперлась о спинку. Марьянка смотрела на поезд.
Из последнего вагона кондуктор вытащил чемодан и поставил его на землю. После третьего звонка на ступеньке появился военный. Забинтованная рука висела на белой перевязи.
Поезд тронулся.
– Верно, раненый солдат, – прошептала Марьянка, беря Мусю за руку. Девушки медленно приближались к военному, который был в форме пехотного офицера, но без погонов. Он все еще стоял возле чемодана, разглядывая станцию и людей на перроне. Не сводя глаз с профиля офицера, Муся внезапно остановилась. «Высокий, такие же усы…» Сердце у нее застучало, стало душно. Муся потянула вслед за собой Марьянку. Военный обернулся. Муся вскрикнула и зашаталась. Сильная рука офицера подхватила ее.
– Папа, любимый! Приехал!..
Он прижимал ее к себе здоровой рукой и целовал ее полосы, лоб, лицо. Марьянка смотрела на чужую радость, смахнула непрошенные слезы: отец ее так не обнимет, не скажет ей ласковых слов…
Чемодан оставили на станции и пошли в деревню.
На возглас Муси: «Папа приехал!» все выбежали на крыльцо. Глафира Платоновна заплакала.
– Петр Варфоломеевич, вы – герой! Раненый герой. Страдалец за нашу несчастную родину!
– Почему вы не писали нам о ранении? Зачем эта скрытность? – спрашивал Владимир Викторович.
– Что там слыхать? Почему и до сих пор не наведут порядка в Петербурге?
– Успеете о политике! Чайку с дороги. Варенье есть свеженькое, сегодня варила, – суетилась Нина Дмитриевна.
Петр Варфоломеевич обещал позже все рассказать, а сейчас хотел искупаться и сбросить этот осточертевший ему военный костюм. Вышла Татьяна Платоновна с корзинкой, в которой лежало белье.
Они пошли к реке.
Спустившись с горы, Татьяна Платоновна сказала, заглядывая мужу в глаза:
– Петя, может быть, на лугу будем купаться?
Пошли через луг к Глубокой луке. По дороге Татьяна Платоновна рассказывала о жизни семьи, о приезде Муси. Офицер был невесел.
– Чего ты такой, Петя, будто не рад нам.
– Война убила мою веселость.
– Худой ты, Петя.
– На казенных харчах жить приходилось… Рана болит. Будьте вы прокляты!
– Кто?
– Те, кто миллионы людей уничтожил.
– Немцы?
– Которые на царском престоле сидели и министерские портфели носят!
Татьяна Платоновна испуганно раскрыла глаза.
– Ты что-то страшное говоришь, Петя…
Бровченко усмехнулся и стал раздеваться.
…Часа через два все собрались на веранде. Платон Антонович достал из погреба пару бутылок вина. Нина Дмитриевна позаботилась о завтраке. Когда все сели за стол, Платон Антонович поднял бокал:
– За защитников земли русской! – и внимательно посмотрел на зятей-офицеров, сидевших на разных концах стола. Платон Антонович задержал взгляд на грустном Бровченко, который был теперь в белом штатском костюме.
Раненая рука висела на чистой перевязи. В висках вилась первая седина. Длинный нос заострился. Чисто выбритые щеки запали. В его умных серых глазах тесть уловил скрытое возмущение. Соболевский насторожился, не спускал с зятя глаз.
Выпили… Ели молча – такой порядок любил Платон Антонович. Когда подали чай, Соболевский повторил свой вопрос:
– Почему до сих пор не наведут порядка в Петербурге? Почему не чувствуется твердой власти?








