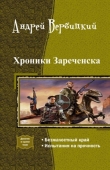Текст книги "Переплавка (СИ)"
Автор книги: Алексей Шепелев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Я вижу, вы взяли на себя на тяжелое бремя дворянского долга. Я вижу, что вы понимаете, что то значит. А раз так, то будем действовать вместе. Я рассчитываю на вас, Мурманцев. Сами видите, сейчас мне дорог каждый человек, особенно такой, который, как вы, умеет и может вести за собой. Подкреплений, как вы понимаете, нам ждать теперь не приходится.
– Это окончательное решение? – на всякий случай уточнил Игорь.
– Ещё пока нет, но навряд ли оно изменится. Мы можем рассчитывать только на себя, – констатировал полковник.
– На себя, значит – на себя. Мы – русские.
– Оставьте у адъютанта номер своего комбраса. В какой гостинице вас искать, если вдруг не сработает визирование?
– Не в какой. Присылайте вестового в восьмую городскую школу.
– Неужели не осталось свободных номеров? – удивился Городов.
– Не знаю. Но это сейчас меня не интересует. Я пришел в Беловодск не один, а с отрядом. Я отвечаю за этих ребят и не оставлю их одних, пока ситуация не нормализуется.
– Понятно. Что ж, буду знать, где в случае чего вас искать.
Полковник поднялся из кресла, Игорь сделал то же самое.
– До свидания, Мурманцев, – произнес Городов, протягивая юноше руку. – До скорой встречи.
Глава 5
«Тагэре для Арции, а не Арция для Тагэре!»
Герцог Шарль Тагэре, регент Арции.
(В.Камша. "Кровь заката")
«Добытчики» вернулись в школу где-то через полчаса – шумные, довольные и с большим свертком, который тащили вместе в две руки: один справа, другой слева. В свертке оказался болотный плащ-дождевик, под которым могло укрыться, наверное, с полдюжины Никит и не меньше четырех Валерок. Фигуру Робика при накинутом капюшоне он скрывал от макушки до пят, причем разглядеть вокабулятор можно было только при очень большом старании. Заставив андроида слегка ссутулиться, ребята добились того, что он стал выглядеть совершенно неподозрительно по причине своего откровенно комичного вида. Можно было не сомневаться, что каждый встречный обратит на него внимание, подумает про себя: «вот чудак-то», и двинется дальше по своим делам.
К дождевику прилагались резиновые сапоги, тоже болотные, в развернутом виде доходившие Робику чуть ли не до середины бёдер, но их полагалось носить подвернутыми до колен. Покупка была совсем не лишней, поскольку прежняя институтская обувь андроида за время похода по лесу изрядно пострадала.
Валерку, правда, кольнула совесть.
– Сильно потретился? – спросил он у Серёжки.
– Фигня, – беззаботно махнул рукой мальчишка. Беззаботность эта показалась Валерке несколько наигранной, но заняться «потрошением» малолетнего сорванца он не посмел. Одно дело младшему брату в голове "гайки подворачивать" – хоть и двоюродный, но всё-таки братишка, родственник. А Серёжка на попытки его повоспитывать вполне может обидеться, ощетиниться: "ты мне кто такой" и будет на это в полном праве. И толку никакого, и друга потерять можно запросто, а очень не хотелось: за эти несколько дней Валерка крепко привязался к никогда неунывающему шкету. Не так, конечно, как Никита, но все равно – крепко.
– Ну что, идем? – разрешил все сомнения вопрос Паоло.
– Пошли. Серега, дорогу показывай.
Стараясь делать вид, что их ничуть не занимают удивленные и ироничные взгляды встречных прохожих, ребята быстро добрались до городской больницы. Больничный комплекс занимал целый квартал и, по давней традиции, лечебные и хозяйственные корпуса окружал парк, в котором преобладали самые что ни на есть земные берёзы. Попадались так же дубы и клёны с крупными резными листьями и ещё несколько пород, которых Никита не опознал, а уж Валерка с Паоло и подавно. То ли местные, то ли произраставшие в их мире вдали от Рязанщины и других мест вроде Бурятии или Онтарио, с которыми Никита успел познакомиться поближе. Зато центральные аллеи обрамляли зеленой стеной хорошо известные ребятам туи.
Модерновые корпуса больницы с внешним обилием стекла и пластика резко контрастировали с нарочито патриархальным окружающим ландшафтом, который словно нарочно копировали со старинных фотографий двадцатого века. А может и с даггеротипов девятнадцатого.
Большинство дорожек в парке было засыпано мелким речным песком, незнакомое пришельцам твердое покрытие (не привычный карамелит, но и не допотопный асфальт, а что-то третье) использовалось только на центральных аллеях. Крашеные в густо-зелёный цвет деревянные скамейки с изогнутыми спинками и металлическими ножками. Увитые плющем деревянные беседки. Аккуратно подстриженный кустарник и изумрудно-зеленый ровный газон. На глаза попался даже небольшой круглый бассейн с гипсовыми фигурами рыб, из раскрытых ртов которых вырывались тугие пенные струи воды.
На перекрестках то и дело попадались указатели: двухметровые мачты с гроздями деревянных стрелок на верхушке. На каждой стрелке красной краской крупными печатными буквами были выведены конечные точки указанного маршрута: «Хирургия», "Столовая", "Лабораторный корпус" и так далее.
Картину добавляли спешащие по делам медработники в белых халатах и неторопливо гуляющие больные в синих пижамах.
– И где будем искать этого Стригалёва? – почесал в затылке Никита.
– Хирурга нужно искать в хирургии, – поучающим тоном произнес Паоло.
– Точно. Ой, а вдруг у него операция.
– Там увидим, – решил Валерка. – В крайнем случае, попробуем договориться, чтобы он назначил время, когда сможет с нами поговорить. Только сначала Робика пристроим. Не тащить же его с собой
– А куда ты его денешь? – недоверчиво спросил Паоло.
– Пусть в беседке посидит, где-нибудь где поглуше.
Подходящая беседка обнаружилась довольно быстро: в глухом углу возле больничной ограды, надежно скрытая почти со всех сторон разросшимся и буйно зеленеющим кустарником. В неё и усадили задрапированного в дождевик андроида, строго наказав немедленно выходить на связь в случае если кто-то пристанет с разговором.
– А как далеко у него связь работает? – полюбопытствовал Серёжка.
– В обычном режиме до трёхсот метров. А направленным лучом километра на два километра дотянет, – ответил Паоло.
– На два? Ха. На десять не хочешь? – заявил Никита.
– Да ладно, не дотянет он на десять. Наши на станции были той же модели.
– А им режим направленного ответа включали? Коммуникаторы на них настраивали?
– Чёрт, забыл совершенно, – признался Паоло. – А у тебя настроен?
– А то…
– У нас комбрасы видят друг друга примерно на таком же расстоянии, метров триста-триста пятьдесят, если без ретрансляции. Дальше уже не могут.
– Понимаешь, вообще-то никто не использует андроидов как ретрансляторы или вещательные установки. Они не для этого предназначены, – пояснял Никита по дороге к хирургическому корпусу. – Но дальняя связь у них бывает нужна, если они обслуживают территориально распределенные комплексы.
– Какие комплексы?
– Э… Ну, большие очень. В смысле, занимающие много пространства. Например, металлургические заводы. Там от одного цеха до другого запросто может быть несколько километров.
– Я знаю, – кивнул Серёжка.
– Ну вот. Для этого у них есть специальный режим направленной передачи. Когда сигнал идет не во все стороны, а направленным лучом. За счет этого мощность сигнала увеличивается при неизменной мощности передатчика. А раз увеличивается мощность сигнала, то и дальность его приема тоже.
– А откуда он знает, куда ему этот луч направить?
– Я ему задам направление. В наших коммуникаторах ведь тоже есть передатчик, способный выдать мощный сигнал. Робик его получит, запеленгует и, если потребуется, будет вести передачу в том направлении.
– Ха… А если ты уйдешь куда-нибудь в сторону?
– Надо будет послать ему новый сигнал для ориентировки. А кто забыл, тот сам дурак, – шутливо подвел итог небольшого урока Никита. Расхохотались все четверо.
Так весело улыбаясь, они и вошли в фойе хирургического корпуса. О том, что их не сразу пропустят к врачу, а сначала будут расспрашивать "кто, откуда. зачем", ребята старались не думать, и, как оказалось, правильно сделали. Дежурная – совсем пожилая морщинистая старушка, не задавая лишних вопросов, охотно объяснила им, что кабинет доктора Стригалёва находится на третьем этаже и выдала каждому по изрядно помятому белому халату. Было похоже, что с момента последней стирки они послужили никак не меньше чем доброму десятку посетителей.
По неширокой лестнице мальчишки поднялись на третий этаж, осторожно прошли в двери с большой табличкой "Травматологическое отделение". Улыбки и задорное настроение исчезли как-то сами собой. В стенах больничного корпуса ребята ощущали какое-то непонятное беспокойство и тревогу, хотя никаких поводов для этого пока что не случилось.
– Вам кого нужно, ребята? Посещение скоро заканчивается.
Прямо напротив входа в отделение, за стеклянными дверями находилось рабочее место медсестры, а на нём и сама медсестра: молодая невысокая женщина в сиреневом халате и высоком колпаке такого же сиреневого цвета. Из-под колпака на лоб выбилась прядка темных волос, а на левом нагрудном кармане халата была вышита большая медицинская эмблема: обвившаяся вокруг чаши змея с широко раскрытой пастью.
– Мы к Виктору Андреевичу… к доктору Стригалёву, – ответил Валерка, старательно унимая некстати появившуюся дрожь в голосе.
Женщина окинула ребят критическим взглядом, манула рукой вправо и ответила:
– Он у себя в кабинете.
– Спасибо, – поблагодарил Валерка, и ребята направились в указанном направлении по широкому и совершено пустому коридору. Похоже, все ходячие больные выбрались в парк, а лежачие остались в палатах. Двери в них были глухие, без стеклянных вставок-окошек, так что посмотреть, что творится внутри, было невозможно. Оно и к лучшему: только вида замотанных в бинты и обездвиженных пациентов (а какими её они должны быть в травматологии после хирургического вмешательства) сейчас мальчишкам и не хватало.
Наконец они дошли до больших двустворчатых дверей, выкрашенных белой краской. На правой створке была привинчена довольно скромная табличка: "Виктор Андреевич Стригалёв". И всё. Никаких званий и регалий, хотя Колька Шаров уверенно утверждал, что хозяин кабинета состоял в РИАМН – Русской Имперской Академии Медицинских Наук.
Валерка постучал, а потом слегка приоткрыл дверь.
– Извините, – голос у него снова предательски дрогнул. И ещё появилась противная слабость в локтях и коленях. – Мы ищем Виктора Андреевича Стригалёва.
За дверью Валерка увидел длинную и пустую полукомнату – только в дальнем левом углу у стены стояла прозаическая кушетка, застеленная простыней поверх клеёнки. Примерно половина правой стены отсутствовала, очевидно, там находилась остальная часть кабинета.
– Проходите, – донеслось откуда-то из глубины той самой остальной части. – Мы? Сколько вас там?
– Четверо, – облегченно выдохнул Валерка, входя в комнату. Паоло, Никита и Серёжка проследовали за ним.
– На что жалуетесь?
Доктор Стригалёв оказался невысоким пожилым уже человеком с изрезанным глубокими морщинами лицом и сильно поседевшими светло-русыми волосами. Одет он был в широкие пижамные штаны зелёного цвета и такую же майку с коротким рукавом и треугольным вырезом на груди. Врач встретил ребят в той самой остальной части, где находился его рабочий стол и вторая кушетка, обтянутая тонкой плёнкой полиэтилена или какого-то другого, но внешне очень похожего на него полимера. В стене напротив окна оказалась приоткрытая дверь во вторую комнату, через которую виднелся стоявший в углу кожаный диванчик, на нём бело-синим комом громоздился тёплый шерстяной плед.
– Мы не жалуемся, – за всех ответил Валерка.
– Уже хорошо, – Стригалёв улыбнулся. Улыбка у него получилась какая-то застенчивая, но в то же время очень добрая. – Но в таком случае, позвольте узнать, что вас, молодые люди, ко мне привело.
– Мы хотим с вами посоветоваться, Виктор Андреевич.
– Проконсультироваться? – по своему понял врач. – У вас болен кт-то из родных? Ну так в поликлинику нашу пусть приходит. Здесь у нас больница не для избранных, принимаем всех. Особенно – сейчас.
– Нет, мы вообще о другом… – Валерка определенно чувствовал себя не в своей тарелке. Внутри все сковала проклятая робость. С каким бы удовольствием он уступил ведение переговоров кому-то другому, но ни Паоло, ни, тем более, Никита никаких попыток взять инициативу в разговоре на себя не предпринимали. Приходилось говорить самому.
– О другом? – врач хрустнул пальцами и неожиданно поднялся с дивана. Шагнул к окну, оперся ладонями на подоконник, а потом неожиданно развернулся к ребятам. – Посоветоваться… О другом… А вам известно, молодые люди, что я есть оппозиционер. Сиречь – враг сего государственного режима.
– Известно, – коротко подтвердил мальчишка.
– И вы приходите ко мне советоваться? К оппозиционеру? А вы подумали о том, что я вам могу насоветовать?
"Говорил же я, не надо к нему идти", – Серёжкиному огорчению не было предела. Ведь он предупреждал Никиту, что ничего путного из этого не выйдет. Предупреждал, а тот не послушался. Ну и что теперь? Серёжка не знал, зачем ребята идут к Стригалёву, но видел, что эта встреча для них важна, очень важна. Но ничего не вышло…
– Как можно идти за советом к оппозиционеру? – продолжал ронять, словно камни, упрёки Стригалёв. – Вы что, не понимаете, каких страшных, недопустимых, недостойных советов я вам могу надавать?
– Не можете, – неожиданно спокойно произнес Никита.
Лицо хирурга непроизвольно дернулось.
– Не могу? Почему?
– У вас глаза добрые.
– Оооо… Восхитительная детская наивность, – в голосе врача Валерка уловил горькую иронию. – У законченных мерзавцев, когда они хотят кого-то обмануть, всегда добрые глаза. Очень добрые.
– Нет, – решительно мотнул головой Никита. – У них глаза не добрые, а такие… приторные. Сладенькие такие, но видно, что фальшивые. Добрыми они быть не могут: доброта, это такая вещь, которую подделать невозможно.
К такому ответу Стригалёв оказался не готов. Он удивленно хлопнул глазами, как-то удивительно беспомощно, совсем по-детски. Словно поменялся местами с Никитой и оказался мальчишкой, не с того ни сего бросившимся в спор со взрослым человеком.
– Вот, значит, как… Доброту не подделаешь? Ну, хорошо. Я вас слушаю.
Валерка глубоко вдохнул, словно собирался нырнуть в глубокий бассейн, и решительно произнёс:
– Виктор Андреевич, мы трое – пришельцы из другого мира.
Серёжка от неожиданности чуть не сел на пол там же, где стоял. А вот врач отнесся к новости без особого удивления.
– Интересно, очень интересно, – пробормотал он, по-прежнему опираясь правой рукой на подоконник. – Я бы даже сказал – безумно интересно. Но…
– Не верите? – прямо спросил Валерка.
– Как сказал очень давно один великий ученый: "Ваша теория безумна. Вопрос в том, безумна ли она в достаточной степени, чтобы оказаться верной".
– Нильс Бор, – уточнил Паоло. – И, если я правильно помню, то идея, а не теория.
Удивительно, но именно после этих слов в глазах Стригалёва промелькнул интерес, недоверчивый и уважительный одновременно. Промелькнул и сменился иронией.
– Для пришельцев из другого мира вы слишком хорошо знаете нашу историю. Фамилия Бора упоминается в школьном курсе физики, всё-таки создатель квантовой механики. Но вот про то, что он сказал эту фразу…
– Дело в том, что это не только ваша история, Виктор Андреевич, – пояснил Паоло. – Это ведь и наша история тоже.
– Вот как? Тогда я совсем ничего не понимаю, – признался врач. – Но это становится интересным. Ну-ка проходите и присаживайтесь. Пара стульев есть, двоим придется на диван. И давайте познакомимся, а то вы меня знаете, а я вас – нет.
Мальчишки себя упрашивать не заставили и гурьбой проникли в кабинетик. Валера и Паоло присели у стола: один – на стул, другой на вращающийся медицинский табурет. Всё ещё заторможенного Серёжку Никита за руку увлек на диванчик, туда же присел и сам хозяин.
– А это правда? – жарко шепнул Серёжка в самое ухо Никиты.
– Угу, – подтвердил тот.
– Улёт! – только и смог вымолвить мальчишка, даже не обидевшись на то, что друг до сих пор не поделился с ним этой тайной. Не до обид, когда такое вокруг происходит…
– Валерий Сергеевич Белов, четырнадцать лет, – начал представление Валерка. – Постоянно живу на космической станции «Плутон-16» на орбите системы Плутон-Харон. Там же учусь, перешел в восьмой класс средней школы с углубленным изучением астрономии. заочно-дистанционный компонент – физика низких температур.
– А что значит – "заочно-дистанционный компонент"? – почувствовав, что сейчас можно получить ответ почти на любой вопрос, Серёжка дал волю своему любопытству.
Валерка перевел взгляд на хозяина кабинета. Тот утвердительно кивнул:
– Мне тоже это интересно послушать.
– На самом деле всё очень просто. На станции может быть не так много людей, и потом в первую очередь – научные работники. А детей, наоборот, мало. Если на станции работает один из родителей, то их чаще оставляют у второго. Если оба, то всё равно иногда оставляют поближе к Земле – у родственников или в интернате. Поэтому на станции есть учителя только по базовому и расширенному компоненту, который совпадает с научным профилем станции. Но ведь не все, кто живет среди астрономов, хочет быть астрономом, верно? Кто-то мечтает врачом стать, кто-то заниматься информационными технологиями. Им нужны дополнительные компоненты уже в школе. На Земле или на Марсе вопрос решается проще некуда: переводишься в нужную школу и всё. А у нас перед началом учебного года подаются заявки на дополнительные компоненты. И на станцию передаются записанные лекции и практикумы по нужным предметам. А раз в месяц кто-нибудь из специалистов-преподавателей Юпитерианского Государственного Университета проводит семинары и контрольные опросы. Ну и письменные контрольные принимают тоже они.
– Разумная система, – оценил Стригалёв.
– Паоло Вентола, – возникшая после слов врача пауза подсказала подростку, что пришла его очередь представляться. – Постоянно живу на той же самой станции «Плуто-16». Учусь вместе с Валерио. Только дополнительный компонент у меня другой: нано– и микропроцессорная техника.
– Вы итальянец? – удивился хирург.
– Да, я из Флоренции.
– Флоренции? Гм…
– Что-то не так? – Валерка почувствовал неладное.
– Как вам сказать… Вы имеете ввиду старинный город на Апеннинском полуострове?
Паоло кивнул и дотошно добавил:
– Земля, Европа, Италия. Столица провинции Токсана. Город, в котором родился Данте Алигьери.
Стригалёв вздохнул.
– В нашем мире этого города давно нет.
– Как это – нет? – удивительно, но этот вопрос прозвучал не от опешившего Паоло. Спросили Никита и Серёжка. Не сговариваясь, но в один голос.
– Он исчез с лица Земли во время Третьей Мировой войны. Вместе со всем Апеннинским полуостровом и страной Италией. Такие вот дела.
Врач беспомощно развел руками.
– И никто не выжил? – тихо спросил Паоло.
– В ту войну вообще мало кто выжил, – грустно ответил Стригалёв. – Но итальянцы, конечно, остались. Прежде всего, те, кто жил в Альпах. Те, кто в момент катастрофы находились вне Италии. Ну и кто-то, конечно, сумел выбраться из самого котла. Немногие, но сумели. Ни в одну же секунду, в самом деле, вся Италия исчезла. А человек, знаете ли, на редкость живучее существо. Это я вам как врач говорю. Так что итальянцы у нас встречаются. И отдельные люди, и небольшие самоуправляемые общины. Но вот государства Италии у нас нет. Такие вот дела.
– Да уж, дела… – негромко протянул Никита.
– И ничего не осталось? – Паоло никак не мог поверить в произошедшее.
– Апеннинские острова. Довольно густой архипелаг. Как я понимаю, Италия была гористой страной?
– Ещё какой гористой, – тусклым голосом произнес Паоло.
– Мне жаль, что я тебя расстроил, но в нашем мире дело обстоит именно так. И исправить это, увы, невозможно. Результаты прошлых войн, в отличие от их итогов изменить невозможно. На них можно только учиться… Правда, у нас и этого не получается.
– У нас после Третьей Мировой была ещё Четвертая, – сказал Валерка. – Но Апеннинский полуостров никуда не делся. И вообще география Земли почти не изменилась. Ядерное оружие на Земле практически не применялось.
– Хватило ума, – констатировал Стригалёв. – А вот у нас, увы, не хватило. Правда, на Земле у нас давно уже никто не воюет. Хоть что-то сумели понять. Только, боюсь, улты скоро до Земли доберутся. Им-то её щадить нет никакого резона.
– Не доберутся! – не выдержал Серёжка.
– Хорошо бы, – вздохнул врач. Было видно, что мальчишкиного энтузиазма он не разделяет. – Ни один нормальный человек не хочет увидеть родную планету обгорелой радиоактивной пустыней. Как бы сильно он не ненавидел то, что в какой-то момент на ней творится. Всё равно не хочет. А если хочет, то он уже перестал быть нормальным, сошел с ума от своей ненависти.
– Разумеется, – кивнул Валерка. Ему казалось несколько странным, что нужно говорить о таких очевидных вещах. Хотя, он уже чувствовал, что в этом мире – надо. Здесь они очевидными, похоже, не были.
– После каждой войны, как бы она не закончилась, пусть даже самой славной победой, всё равно остается горечь утраты. Прежде всего и главное – о людях, которые могли бы жить, если бы не было войны. А потом ещё и о разрушениях, которые всегда войну сопровождают. Мне попадались старые слайды с видами Италии. Судя по ним, это была удивительно красивая страна. Вы говорите – Флоренция… Если не ошибаюсь, там был удивительно красивый собор Богоматери.
– Санта Мария дель фьёре, – тусклым голосом произнес Паоло. Подросток никак не мог оправиться от страшной новости о гибели родной страны.
– Наверное да. К сожалению, это было давно, я забыл название. Вообще о том, что было до Третьей Мировой, у нас осталось очень мало информации, почти все фонды погибли во время войны. А из того, что осталось, больше всего уцелело собственно про Россию. Довольно много про тогдашние ведущие мировые державы. А про остальные – очень мало из очень малого. Поэтому про Италию сегодня практически ничего не знают. Разве что в итальянских общинах… Но на Сипе, насколько мне известно, ни одной такой нет. Такие вот дела.
– Плохо, – грустно констатировал Никита.
– Плохо, – согласился Стригалёв. – Знаете, вот так иногда представишь себе какой-нибудь старый город. Ту же Флоренцию, например. Как там живут люди. Ходят по улицам. Заходят в магазины, в кафе. Какую-нибудь мелочь покупают, кофе пьют… Проходят мимо того же собора. Заходят туда помолиться… В общем, просто живут нормальной повседневной жизнью. Думаешь, вот бы походить среди них, посмотреть на всё своими глазами. А потом понимаешь, что это невозможно: нет этих людей, нет ни улиц, ни собора, ни города… Да и вообще страны такой уже нет.
– Возможно! – решительно возразил Валерка. – У нас такая страна. И город. И люди. хотите посмотреть – пожалуйста.
Он достал из кармана коммуникатор, пальцы проворно забегали по кнопкам.
– Это у вас что за прибор? Аналог комбраса?
– Да, вроде того. Только у него ещё много функций. Например, показ видеоинформации. Вот, смотрите.
Он протянул коммуникатор врачу.
– Нажимайте вот эту кнопку.
Серёжка совершенно некультурно придвинулся к врачу, чтобы получше видеть экран. Про себя сразу отметив преимущество «плашки» перед комбрасом: смотреть вдвоем на маленький экранчик наручного прибора было бы совсем неудобно. Конечно, никто никогда этого и не делал: комбрас всегда можно было подключить к инфоцентру и просматривать изображение на его большом экране. Да и не таскали на нем видеозаписей, для этого существовали карты памяти. Но будь бы у Валерки с собой только карта, посмотреть на таинственную Флоренцию они бы не смогли: у кабинете Стригалёва инфоцентра не было.
А на экране уже побежало изображение: набережная неширокой речки, трёх-четырёхэтажные домики на дальнем берегу. Серёжки они живо напомнили Нуэр-Позен: там точно так же домишки лепились один к другому. В русских городах дома строили совсем иначе: при той же высоте они отличались большей шириной – на три четыре подъезда минимум. И гораздо чаще дом стоял особняком. А здесь каждый подъезд – отдельный дом, но плотно втиснутый между двух соседей. Так, что между ни малейшей щелочки. Разве что иногда попадается не по-русски узенькая улица. Даже улицей это трудно назвать. Улочка. В русском-то городе иной переулок шире будет.
Камера повернула вправо, показав мост через реку. Удивительно, но прямо на нём были построены дома. Ладно бы у оснований, а то всей протяженности.
– Старый мост, – пояснил Паоло.
– Это настоящие дома на нём? – спросил Серёжка.
– Конечно настоящие.
– А зачем?
Ответить Паоло не успел: его изображение появилось в кадре.
– Это же вы, – изумился Стригалёв.
– Конечно, а кто же ещё? Это я снимал, чтобы потом на станции пересматривать, Землю вспоминать, – пояснил Валерка. – Сейчас и меня увидите.
И действительно несколько мгновений спустя он на экране присоединился к другу.
– Попросил прохожего немножко камеру подержать.
– А как остановить просмотр? – спросил Стригалёв.
Валерка молча ткнул тоненькой, похожей на исхудавший карандаш, палочкой в изображенную на экране кнопку. Изображение застыло.
– Да, кажется, я столкнулся с той правдой, которая невероятна до невозможности, – задумчиво произнёс врач. – Если бы я знал, что этот мост существовал именно во Флоренции, я бы поверил.
– А я и сейчас верю, – вставил своё слово Серёжка.
– Старый мост – известнейший памятник, – ответил Стригалёву Валерка. – Не может быть, чтобы о нём не осталось вообще никакой информации. Ведь у вас же есть глобальная информационная сеть. Нам рассказывали.
– Да есть, конечно, – снова встрял нетерпеливый Серёжка.
– Есть такая сеть, – подтвердил Стригалёв. – В ординаторской имеется терминал доступа. Прекращаем просмотр, и я иду искать что сохранилось про этот мост?
– Не надо. Вы же собор хотели? Он дальше будет, – сообщил Паоло.
– Не надо, давайте дальше смотреть, – поддержал Серёжка. – И всё-таки, дома на мосту зачем?
Понятно было бы, если укрепления на концах моста: для защиты от врагов. А по сторонам-то зачем? Вместо перил, что ли, чтобы с моста не падали?
Оказалось, совсем для другого. Паоло объяснил:
– В Средние Века в них были лавки. Мост – место людное, торговля хорошо шла.
– Улёт, – блеснул глазами Серёжка. – А чем торговали?
– Всяким разным. Сначала кожевники поселились. Им ведь для выделки кожи много воды нужно была, а тут она в двух шагах. Потом мясники. А потом великий герцог Фернандо Первый всех их выгнал, потому что ему запахи не нравились. И лавки заняли ювелиры: их ремесло не пахнет.
– Ишь какой нежный…
– Да уж… Герцоги – они такие…
– У нас не такие, – возразил Серёжка. – Вот у немцев в Нуэр-Позене главный – герцог. Точнее – херрцог, так они говорят. Любую тушу разделает не хуже профессионального мясника.
Собственно, у херрцога Альфреда-Густова прозвище было как раз «Мясник». Правда получил он его не за умелую разделку туш, а за скорый и беспощадный херрцогский суд, после которого он зачастую самолично творил над виновными расправу.
– А это что такое наверху моста? – задал вопрос Стригалёв. – На галерею какую-то похоже. Такое впечатление, что мост двухъярусный.
– Он действительно двухъярусный. Это коридор Вазари, он ведет из двоца Питти в галерею Уффици.
– Потайной ход. Классно! – откомментировал Серёжка.
– Какой же он потайной, если его отовсюду видно. Просто дополнительный ход сообщения. Вот в Старом дворе, там да. Там настоящие потайные ходы, – решил блеснуть знаниями Никита.
– И ты в них бывал?
– Немного. Думаю, что не во всех, – честно признался мальчишка.
– Все ходы там знают только гиды, – с чувством легкого превосходства заявил Паоло. – Да и то не все, а только самые опытные. Ну что, смотрим дальше?
– Давайте.
Валерка снова ткнул электопером в экран. Показ возобновился. С набережной реки съемки перенеслись в какой-то двор П-образного здания.
– Галерея Уффици, – пояснил Паоло.
Ни у врача, ни у пионера его слова не вызвали никаких эмоций. Похоже, об одном из знаменитейших музеев Земли в этом мире памяти не осталось.
Зато когда в объектив попала площадь Сеньории, зрители оживились.
– Ой, я эту скульптуру помню, – заявил Серёжка. – У нас в учебнике по истории такая картинка была.
– Не может быть, – тихо ахнул Стригалёв. – Это же «Давид» Микеланджело.
– Это копия, – разъяснил Паоло. – Оригинал находится в Старом дворце.
– А где этот Старый дворец?
– В кадре, – усмехнулся подросток.
На экране очень подробно демонстрировалось четырехэтажное каменное здание, больше похожее на замок, чем на дворец. Крепкая кладка явно не тонких стен, сравнительно маленькие оконца, зубцы на крыше, за которыми наверняка удобно прятаться стрелкам. С другой стороны, небольшая изящная башенка с часами и многочисленные штандарты, украшавшие фасад замка, настраивали на мирный лад.
– Значит, там внутри музей? – спросил Серёжка.
– Сейчас да, – ответил Паоло.
– А раньше что было?
– Много чего. Сначала там находилось городское самоуправление. Потом жили великие герцоги Токсанские. Потом снова самоуправление. Парламент итальянский заседал, когда Флоренция была столицей Италии.
– Столицей? – удивился Никита. – А как же Рим?
– Рим тогда в Итальянское королевство не входил.
– Как это не входил? Куда же он входил?
В сознании Никиты Рим был так же крепко привязан к Италии, как Париж к Франции или Москва к России. Бывали в истории всякие извращения, за пределами России оказывались русские города Колывань (тогда он даже назывался иначе – Таллин), Киев, Чернигов… Даже Севастополь одно время находился за пределами того, что тогда называлось «Россия». Всё это мальчишка знал. Но чтобы представить себе раздельно Россию и Москву, его воображения не хватало.
– Рим тогда находился под управлением Римского Папы. И даже государство такое было – Папская область, – разъяснил Валерка.
– Вон оно как… Понятно.
Между тем киношные Валерка и Паоло немного попозировали на фоне Старого дворца, потом некоторое время в кадре были только узкие улочки города. На это смотрели молча, лишь Серёжка слегка вздохнул:
– Красиво.
Нуэр Позену до Флоренции, конечно, было далеко, чего уж тут скрывать.
А потом на экране возникла Соборная площадь, огромный величавый храм, и рядом с ним высокая, устремленная к небу башня, облицованная разноцветным мрамором: белым, зелёным и розовым.
– Красотища… – прошептал потрясенный Серёжка.
– Да, это он, тот самый собор, – произнес Стригалёв. – А что за башня рядом?
– Колокольня, – ответил Паоло. – Её строительство начинал Джотто.
– Джотто? Тот самый знаменитый художник? – переспросил врач.
– Да, тот самый, – подтвердил подросток.
– Надо же, он был ещё и архитектор…