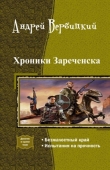Текст книги "Переплавка (СИ)"
Автор книги: Алексей Шепелев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
– Случайно не пацифист. Война – это война, у неё свои законы. И исполнителей смертного приговора тоже не осуждаю. Раз есть закон, устанавливающий смертную казнь, то кто-то должен этот закон исполнять. Раз я согласен с этим законом, то и права осуждать этого человека у меня нет.
– А вы с ним согласны? – спросил Валерка.
– По сути – согласен. Как исключительная мера наказания смертная казнь обязательно должна существовать. Я не вижу причины, по которой должен жить, к примеру, убийца-рецидивист. Или у вас не так?
– У нас так, – заверил подросток. – Есть преступления, за которые полагается смертная казнь. И приговоры исполняются. Я просто хотел уточнить. Извините.
– Да ничего. Можно спорить о том, какие именно преступления должны наказываться смертной казнью. Я не зря сказал – исключительная мера.
– У нас она тоже исключительная, – заверил Паоло.
– Как я понимаю, страны у вас разные.
– Зато подход один, – улыбнулся Валерка.
– Понятно, – кивнул Стригалёв. – А как у вас поступают с умственно отсталыми?
– Лечат. Уж точно не… эвтаназируют. Попробовал бы кто это предложить…
– И что бы с ним стало? – заинтересовался врач.
– Не знаю точно, – задумался Валерка. – Наверное, сперва бы попробовали объяснить, какую гадость он предложил.
– А он бы настаивал…
– Не знаю… – сокрушенно вздохнул подросток. – Понимаете, мы никогда с таким не сталкивались. Если бы у нас на станции такой человек завелся… Руки бы ему никто бы после этого точно не подал. И работать бы с ним отказались. Пришлось бы ему улетать и искать другую работу.
– Но что тут такого неправильного? – воспользовался паузой, чтобы задать рвущийся наружу вопрос Серёжка. – Они же неизлечимы. Они мучаются сами и мучают других. Нормальными они никогда не станут. Почему они должны нормальным людям мешать жить?
– А чем они тебе жить мешают? – изумился Никита.
– Мне они ни чем не мешают. Сейчас. А раньше, до Третьей Мировой войны мешали. Их же приравнивали к нормальным, даже это… в выборах участвовать позволяли. Прикиньте, что они там навыбирать могли.
– Э… Слушай, а тебе не кажется, что между "приравнивать к нормальным" и «эвтаназией» ба-альшая дистанция? – спросил Валерка. – Они больные, просто больные. Их надо наблюдать и лечить. И давать работу, которую они в состоянии выполнить. Только и всего.
– Так разве они могут какую-то работу выполнять?
– Зависит от тяжести болезни, – ответил Стригалёв. – В большинстве случаев – могут. А насчет неизлечимости я скажу: если речь идёт о хронических болезнях, то торопиться с вердиктом «неизлечимо» никогда не следует. Неизлечимо сегодня, возможно, будет излечимо завтра. Не завтра – так послезавтра. Сколько раз в истории медицины «вылечить» означало именно «затянуть». Взять ту же бубонную чуму. В Средние Века люди умирали от неё почти поголовно: болезнь уничтожала человека раньше, чем организм успевал мобилизоваться на отпор. Но стоило врачам научиться замедлять течение болезни… нет, не излечивать от нее, а именно замедлять… как количество смертельных случаев резко сократилось: теперь организм успевал настроиться на борьбу, и уже вместе, вдвоем, организм и врач побеждали болезнь.
– Вообще-то не очень корректный пример, – спорить с врачом Валерке очень не хотелось, но чувство справедливости решительно сопротивлялось молчаливому согласию. – Болезнь Дауна, в отличие от чумы, со временем ведь не проходит.
– Согласен, пример, не совсем точный: действительно не проходит. Но он корректный: затянуть ведь можно не только до реакции организма, но и до новых успехов в медицине. Та же самая вакцина Кругловой, практически излечивает легкие формы умственной неполноценности. А в случае более тяжелых поражений головного мозга достигается стойкий компенсирующий эффект. И это касается не только болезни Дауна, но и, например, болезни Альтцгеймера и других патологий.
– Здорово! – оценил Никита.
– Но на этом эффект вакцины не исчерпывается, – продолжал Стригалёв. – Она вообще резко повышает функциональность всех систем и органов. Ученые давно знали, что человек устроен, так сказать, с большим запасом прочности. К сожалению, использовать этот запас по своему усмотрению он не мог. На протяжении столетий большинство людей так и проживало всю свою жизнь на тех нескольких процентах возможностей, что доступны каждому. А если кому-то удавалось выжать из себя большее, то это рассматривалось как чудо. Теперь же мы подняли начальный уровень способностей человека.
– А почему на разные ступени? – поинтересовался Валерка.
– В каком смысле?
– Вы сказали, что для дворян вакцина вводится каким-то специальным курсом…
– А, это… Да, тут дело в том, что она предсказуемо влияет исключительно на физический потенциал человека. Что касается умственных способностей, то тут ничего определенного утверждать нельзя. Статистические данные не позволяют сделать сколько-нибудь достоверных выводов. Лично я считаю, что повышение интеллектуального потенциала человека в результате применения вакцины крайне незначительно. Это всё равно, что увеличивать мощность двигателя транспортного средства, но при этом держать постоянную скорость движения.
– А почему не прибавить скорости? – немедленно спросил Никита.
– А как? – развёл руками Стригалёв. – К сожалению, тайну процесса мышления мы не разгадали. Мы почти до конца разобрались в механизме, но никак не можем выявить то, что его запускает. Технически несложно заставить человека испытать любые эмоции, но точно сформулировать мысль, хотя бы самую банальную – для нас это сегодня всё ещё фантастика. Не говоря уж о том, чтобы попытаться синтезировать озарение.
– В смысле гениальное открытие? – уточнил Валерка.
– Нет, в смысле просто творческую мысль. Любое творчество на самом деле – это цепь маленьких личных открытий. Если даже до тебя это открывалось сто раз, а ты – всего лишь сто первый, для самого человека это открытия не обесценивает. Так вот, об искусственном, если так можно выразиться, синтезе творческого процесса, пока что и речи идти не может.
– А какое отношение это имеет к дворянам и к вакцине? – спросил Паоло.
– Самое прямое. В нашей Империи физическому здоровью и физическим способностям придается особое значение. Естественно, дворяне, как лучшие люди, должны физически превосходить не дворян. Таким образом, рядовые граждане всегда имеют перед глазами наглядный ответ на вопрос: "почему они руководят нами". Да потому, что более развиты физически.
– Разве это основание для того, чтобы руководить? – изумился Валерка.
– Здесь – да. И ещё какое. Спросите у своего друга.
Стригалёв кивнул на Серёжку.
– Конечно да. Ведь руководить это значит уметь защитить тех, кто идет за тобой. Иначе получается, что командир будет прятаться за чужими спинами. Я же объяснял, что Игорь командовал нашим отрядом потому, что в бою намного лучше любого из нас.
Как всегда, детализация чуждой логики пришлась на долю Никиты.
– Когда нужно вывести отряд из окружения, это понятно. Тут Игорь лучший, спора нет. А почему он должен командовать в мирное время? Когда нет никакой войны.
– Если завтра война, то к ней надо быть готовым сегодня.
– Так ты что, всю жизнь к войне готовился?
– Я – пионер, – гордо ответил Серёжка. – И если нужно России, то я готов в любой момент сражаться за неё в любой точке галактики.
– Это понятно, – нетерпеливо прервал Никита. – Я тоже готов, хоть я и не пионер. Но если России то не нужно?
– Как это – не нужно?
– Да вот так. Нет войны. Мирная жизнь. Ты вот в то мирное время можешь ведь что-то полезное для России делать, правильно. Вот ты говорил, что пока эта заварушка не началась, отцу по хозяйству помогал и в школе учился. От того же есть России польза?
– Ну, есть, – озадаченно подтвердил Серёжка. На его лице было ясно написано, что он не понимает, куда клонит его друг.
– И вот зачем в этом нужны дворяне-командиры с физическим превосходством? Что, Игорь то ли за счет этого лучше тебя сможет картошку выращивать? Или астрономии научит, которую сам-то еле-еле знает?
Серёжка нахмурился.
– Во-первых, это вы говорите, что он её еле-еле знает. А может…
– Хорошо-хорошо… – поспешно прервал Никита. – Может он её ууу как знает. И заодно лекцию по квантовой физике может мне прочитать. Только, согласись, знания эти у него не в бицепсах хранятся.
– Ясно, что в голове, – хмыкнул пионер.
– Ну вот. Так если они в голове, то какая разница, здоровый он или хилый?
– Да ты не о том вообще говоришь, – досадливо махнул рукой Серёжка.
– Почему не о том?
– Да потому. Картошка, астрономия… При чем тут руководство? Если хочешь знать, как растить картошку батьке никто не указывает. И не картошку тоже. И в школе преподавать это тоже не руководство. Руководство – это война, экспедиции там всякие, ну и вообще в таком духе.
– Нет, погоди. Ну вот представь себе, что нет на планете сипов. А русские колонисты есть.
– И?
– Губернатор на ней будет?
– Конечно будет. И генерал-губернатор планеты, и губернаторы провинций.
– А зачем? Что они будут делать?
– Как зачем? Руководить!
– Да понимаю я что руководить. Но что он конкретно делает, если войны нет?
– Да я-то откуда знаю? – возмутился Серёжка. – Я тебе что, генерал-губернатор, что-ли? Организовывает, направляет, координирует… Это называется делократия, вот. Умение наладить дело, выполнение работы.
– Вот я и спрашиваю, как они это делают. Вот ты от государства что получаешь? Школу, транспорт, который тебя из поселка в школу возит, верно? Кружки, секции. Медпункт бесплатный, так? Что ещё?
– Клуб
– Клуб. Вот то всё ведь под руководством губернатора делается?
– Ну да.
На лице у Серёжки снова красовалось удивление: он в который раз не понимал, куда клонит Никита.
– Так вот, чтобы всё это устроить, зачем накачанные мышцы? От того, что губернатор может пять минут под водой просидеть не дыша, а после этого пробежать стометровку, что, клуб лучше работать станет?
– Ну как ты не понимаешь?! – удивление на лице Серёжки сменилось искренним огорчением. – Клубы, больницы… Это же само собой… Это каждый может… А во по-настоящему руководить…
– Сам собой растет только бурьян, – твердо ответил Валерка. – Для всего остального работать надо. Если твой батька решит, что на поле у него само вырастет – бурьян и вырастет. Если его полем займусь я, который всю жизнь в космосе, у меня тоже бурьян вырастет.
– Ты гортензию однажды в горшочке вырастил, – с серьезным видом напомнил Паоло. Все рассмеялись.
– Ага. И несколько кактусов, – подтвердил Валерка. – Только толку… А поля у твоего отца и вообще в деревне, наверное, не для удовольствия, правда? Вы урожай куда деваете?
– Большую часть продаем по госзакупке, – рассудительно ответил Серёжка. – Потом на ярмаркам продаем. Ну и сами, естественно, живем с него.
– Ну вот. Справедливую цену для госзакупки поставить – это руководство. Обеспечить, чтобы урожай в зернохранилище не погиб – это руководство. Распределить его куда надо – это тоже руководство. Я уж не говорю про то, чтобы побуждать колонистов больше выращивать те продукты, которые стране нужнее. Скажем, не пшеницу, а рожь. Это я так, для примера…
Последняя фраза объяснялась тем, что подросток заметил, как Серёжка явно собрался прочитать маленькую лекцию на тему того, в каких сельхозпродуктах нуждается Русская Империя.
– И вот для всего этого физическое превосходство никак не нужно. И все эти смертельные испытания, которые в Лицеях проводятся, тоже не нужны.
Серёжка только рукой махнул:
– Вы меня не слушаете. Говорю же: настоящее руководство это другое. А следить, чтобы зерно на элеваторе не сгнило… Конечно, для этого дворянином быть не нужно.
– А знаете что мне вспомнилось, глядя на этот разговор? – вмешался Стригалёв. – Старая шутка про оптимиста и пессимиста. Оптимист убежден, что мы живём в лучшем из возможных миров, а пессимист опасается, что так оно и есть на самом деле.
– Оптимист – это, конечно, Серёжка, – определил Валерка. – А пессимист кто? Неужели я?
– Нет, пессимист – это я, – ответил врач. – Вот сижу, слушаю ваш разговор, и понимаю, что лучше, чем ваш друг, я бы вам объяснить ничего не смог. Наша жизнь построена именно так, как он рассказывает. И то, что вам это кажется странным, убеждает в том, что вы действительно пришельцы из другого мира даже больше, чем эта запись из Флоренции.
– А вам разве это странным не кажется? – спросил Паоло.
– Нет. Мне то кажется неправильным, но никак нестранным. Всё логично. Вот как ваш мир сумел избежать этой ловушки, я очень хотел бы знать.
– А какой ловушки? Вы ведь так и не рассказали, как ваш мир пришел к такому состоянию.
– Да, как-то мы незаметно в сторону ушли. Попробуем больше не отвлекаться. Итак, война окончилась. Она была страшной, почти все города на Земле лежали в руинах. Огромные зоны радиоактивного заражения. Исчезновение с лица земли части территорий. Миллиардные потери. Фактически уничтожены были не то, что целые народы, а целые расы. Негры, китайцы, латиноамериканцы…
– Совсем вымерли? – не удержался от вопроса Никита.
– Совсем.
– Ни одного негра не осталось? – никак не мог взять в толк мальчишка.
– Думаю, это всё не в один момент произошло. Но я в своей жизни негров и китайцев видел только на старых снимках и записях. А поработать успел во многих местах. Может, у англо-саксов они сохранились небольшими общинами… не знаю. Во всяком случае, никогда об этом ничего не слышал.
– Ник, хорош уже перебивать, – недовольно заметил Валерка, испугавшись, что сейчас разговор перейдет на обсуждение исчезнувших народов. Вопрос, конечно, важный и серьезный, но сейчас никак не первостепенный.
– Всё-всё, молчу, – Никита сначала шутливо поднял руки вверх, а потом зажал обеими ладошками рот.
– Так вот, последствия войны были ужасными, но не такими, как их представляли себе люди перед её началом, – продолжал Стригалёв. – Тогда многие думали, что после применения ядерного оружия на Земле исчезнет всё живое, но этого, как видите, не случилось. Другие полагали, что уцелеют только простейшие организмы, но вымрут все высокоорганизованные. Третьи предрекали кардинальное изменение земного климата и сохранение человечества только в подземных убежищах. Всего этого тоже удалось избежать. Может быть, потому что был использован не весь ядерный арсенал, может, по какой-то иной причине. Не знаю. Но факт остается фактом: на Земле осталось немало мест, в которых можно жить относительно безопасно. Но я уже говорил, что уцелевшие и собравшиеся в этих местах столкнулись с новой проблемой – цивилизационным откатом. Многие знания потерялись. Квалифицированных специалистов не хватало. И вот тут-то проявилось два подхода к дальнейшей жизни. Одни люди принялись восстанавливать знания, изучать, работать. Вторые, основываясь на своих заслугах во время войны, принялись укреплять свои руководящие позиции. Заслуги у них действительно были и не малые. К тому же, их лидерство первые не оспаривали: на это у них просто не было времени. И времени было жалко тратить.
Серёжка недовольно засопел: похоже, врач излагал ребятам свои выдумки. В школе ни о чем подобном ребятам не рассказывали. Да и трудно было поверить в то, что после войны бы кто-то позволил этим вторым устраивать борьбу за власть.
– Ну и зря, – с типично детским максимализмом заявил Никита. – Не надо было их к власти пускать, раз они ничего делать не хотели.
– Они хотели. Хотели командовать. И считали, что имели на это полное право, ведь это были люди, которые в войну проявили себя с самой лучшей стороны. Многие были самыми настоящими героями. Вот только в новой, послевоенной жизни им не нравилось то место, которое они могли получить. Знаний у них практически не было. Учиться они не хотели, да и самолюбие мешало. Как это так, вчера они командиры и начальники, а сегодня в подчинении непонятно у кого. Простой работой заниматься им казалось унизительно. Вот и рвались в руководители.
– Я не про них, я про нормальных…
– Ещё раз говорю: нормальным некогда было на это отвлекаться. Когда у человека есть работа, он занят, прежде всего, ею. И ни в какую там борьбу за власть не полезет: просто не захочет терять время и распылять силы. Максимум, можно согласиться на формальное членство где-нибудь в каком-нибудь собрании. Иногда даже его посещать. Может вы не поверите, то порой даже у самых закоренелых трудоголиков возникает желания забросить дела и заняться чем-нибудь очень далеким от своей основной профессии.
– Поверим, – за всех ответил Паоло.
– Вот и хорошо… А от власти работающему человеку нужно прежде всего, чтобы она ему работать не мешала. Помогает – хорошо, просто замечательно. Не помогает, но и не мешает – ну так что ж, ничего страшного. Сами как-нибудь справимся. Вообще, любая творческая работа, это расчет прежде всего на себя, на свои силы. Мне кажется, вы меня понимаете.
– Нам тоже так кажется, – согласился Валерка. В отношении творческой работы врач был прав на все сто процентов.
– А ещё к этому нужно добавить психологическое состояние тех людей. Победа в тяжелейшей войне. По-настоящему их мог бы понять только тот, кто сам пережил такое. Это колоссальный выброс надежды на лучшее будущее. Даже не знаю с чем сравнить… Вы слышали про марафонский бег?
Паоло, Валерка и Никита дружно кивнули, Серёжка мотнул головой.
– Понятно. Если очень коротко, то дело было в древнейшую эпоху. Персы напали на Грецию, греческое войско выступило им навстречу. Бой состоялся в Марафонской долине, победили греки. Их командующий немедленно направил в Афины гонца, чтобы сообщить о победе. Тут всю дорогу до города бежал, а когда достиг цели, смог только вымолвить: "Радуйтесь, афиняне, мы победили", и упал мертвым.
– А далеко бежал? – на всякий случай уточнил Серёжка.
– Больше тридцати километров.
– Сорок с лишним, – уточнил Никита. – По горам и в боевом панцире. Не отдохнув после боя.
Серёжка уважительно кивнул. Даже с точки зрения его времени это было нерядовым поступком.
– Война – тяжелейшее испытание для организма. И на физическом и на психологическом уровне, – продолжал врач. – Главная поддержка в этом испытании – вера в победу. Она действительно придает силы. Причем это вера не в отдельную победу, в какое-то малое достижение, а в Победу с большой буквы. В Победу, которая поставит окончательную точку в войне, подведет под ней черту. И вот Победа достигнута, точка поставлена, черта подведена. Всё. В такой ситуации человек испытывает колоссальный эмоциональный всплеск, после которого возникает сильнейшее желание к смене деятельности. Это не значит, что он хочет бездельничать, нет. Но он очень не хочет возвращения войны. Если вспомнить, что Третья Мировая для России была так же и очередной гражданской войной, то к любому расколу в стане победителей у людей было очень сильное подсознательное отвращение. Тем более, что практически все участники войны доказали свою верность России своей кровью. И сама постановка вопроса о том, что такой человек может приносить России вред, казалась им не просто недопустимой, а кощунственной. Опять-таки, прежде всего на уровне подсознания. Тяжело было бросить подобное обвинение вчерашним боевым товарищам, вместе с которыми только вчера вместе смотрели в глаза смерти. Ну и ещё был один важный момент…
Стригалёв замолчал, переводя дыхание после длинного монолога.
– Какой момент? – нетерпеливо спросил Никита.
– Люди не видели в происходящем опасности. В конце концов, руководство – это тоже работа, причем работа нужная, важная и сложная. Плюс ещё и ответственная. Не в бездельники же человек рвется, не сидеть на чужом горбу, а трудиться. Причем так или иначе, но делать эту работу кто-то должен. Так если я не берусь за неё, то почему я должен кого-то останавливать? Человек хочет попробовать, надо дать ему шанс. Ну а уж если не получится, тогда…
Врач сделал рукой неопределенный жест.
– А когда поняли, что не получилось? – настаивал на своем Паоло.
– В том-то и дело, что у них получилось. Правда совсем не то и не так, как виделось в начале, но получилось. Сложилась система. Система власти, которая дальше уже формировала исполнителей под себя. Знает такую болезнь – рак?
– Плохая болезнь, – нахмурился Валерка.
– Да, болезнь очень противная. Хотя по сути своей довольно простая: в каком-нибудь органе вместо его тканей начинают массово развиваться другие клетки. Такие, что не способны выполнять функции клеток этого органа. И орган перестает работать, потому что в нем чем дальше, тем меньше работоспособных клеток. А те, что неработоспособны, захватывают другие органы. В итоге, если это не лечить, то человек умирает.
– А к чему вы сейчас это? – спросил Серёжка.
– К чему… А вот попробуйте себе представить, что вместо клеток рака, которые практически не функциональны, то есть из них невозможно, скажем так, «собрать» никакой орган, в организме начинают разрастаться и мигрировать клетки, например, печени. Да, именно печени. Вы знаете, какие у неё функции?
– Очистка организма от вредных веществ, – ответил Валерка.
– Именно. Конечно, это не единственная функция, но она самая главная. Полезны ли клетки печени? Не просто полезны, а очень полезны. Но что получится, если они начнут подменять собой клетки почек, сердца, мозга? Все эти органы не смогут работать, потому что их клетки устроены иначе. И организм гибнет. Вот так же произошло и с послевоенной Россией. Когда люди разглядели что к чему, то было уже поздно. У власти прочно утвердились те, которые создали эту систему. И сменщиков себе они воспитывали по своему образу и подобию.
– Императорские Лицеи… – негромко произнес Валерка.
– Не сразу. Не сразу сложилась Империя, не сразу появились Лицеи. Но суть была именно та самая. Дело в том, что новые правители в массе своей чувствовали, что они необразованны. И что тянут страну назад. Но искушение властвовать было слишком велико. А для того, чтобы остаться у власти, нужно было, чтобы их необразованности не поняли другие. Отсюда и такое настойчивое убеждение, что дворяне – это лучшие люди, что они особым образом обучены для командования и управления. Хотя в массе своей они не более чем…
Взгляд Стригалёва упал на Серёжку.
– В общем, управлять эти люди не умели, не умеют и вряд ли когда-то научатся.
– Неправда! – вскинулся Серёжка. – Они построили огромную галактическую Империю.
– Что значит – построили? Объявить найденную планету принадлежащей России большого ума не надо. Кто ведет поисковые космолёты? Отнюдь не дворяне. Выпускник Императорского Лицея, как правило, имеет диплом штурмана, вот только корабля ему не довести от Земли до Проксимы Центавра. Вообще, если смотреть по дипломам, так все наши правители – потрясающие специалисты. А на практике они…
Стригалёв махнул рукой.
– Неправда! Вы это нарочно говорите… У них открытия.
– Да нет у них никаких открытий. Потому что открытия не приходят просто так. Точно так же, как не растет сам собой урожай. Ты ведь деревенский житель, верно?
– Верно.
– Скажи, если поле не сеять, если за ним не ухаживать, что вырастет?
– Бурьян вырастет, – с вызовом ответил Серёжка.
– Вот так же и везде. Сначала учеба, потом работа, а потом уж и открытие. А так чтобы знаний нет, времени потрачено с гулькин нос, а открытие в кармане – не бывает. Даже у гениев. Да. Менделееву периодическая таблица приснилась во сне. Вот только не надо забывать, сколько времени он перед этим над ней бился наяву.
– Они и бьются.
– Да ничего твой Игорь не бьется. И не знает он ничего, сколько раз уж тебе доказывали, – с неудовольствием произнес Никита.
Для Серёжки это стало последней каплей.
– Вы это нарочно! – выкрикнул он. – Это всё неправда! Игорь – он для России на всё готов. А вы, вы… вам бы только как хуже!
Последние слова мальчишка произнёс уже стоя на ногах. А потом развернулся и выбежал прочь из комнаты.
– Мы потом найдем, – пообещал Никита. срываясь следом за другом.
Хлопнула дверь кабинета: раз и почти тут же второй.
– Вот такие у нас дела… – медленно и немного виновато произнёс Стригалёв. – Извините.
– Вы не виноваты, – ответил Паоло. – Вы и так старались сдерживаться.
– Заметно было?
– Я заметил.
– Старался… Не хотел говорить при нём. Хороший мальчишка. Доверчивый… Верит во всё, что ему сказали… А эти мерзавцы вот на таком доверии и выезжают. А вам это знать необходимо. Потому что иначе здесь жить не нельзя. За такие вопросы, которые вы задаете, особенно Никита, можно быстро с жизнью расстаться.
– За это тоже полагается смертная казнь? – удивился Валерка.
– Нет-нет, ни в коем случае. Это вообще не преступление, за это государство не наказывает.
– Тогда в чем проблема?
– В дворянской чести. Видите ли, любой дворянин имеет полное право считать сомнение в своей компетентности унижением своей чести. У него диплом есть? Есть. значит, он специалист. А то, что знаний и умений нет, выполнять работу он не способен, и даже как правило просто не понимает, в чем именно работа заключается, это злостная клевета, оскорбляющая достоинство и унижающая честь. А посему дворянин имеет полное право защитить свое достоинство в честном поединке – один на один, со шпагой в руке. Не знаю, насколько хорошо вы владеете фехтованием, но даже у большого мастера с обычными человеческими возможностями шансы против того, кто прошел курс вакцины Кругловой почти нулевые. Выносливость, скорость движения, скорость реакции – всё это у дворянина значительно выше, чем у обычного человека.
– Ну и при чем тут честь? – хмуро спросил Паоло. – Это же всё равно, как выйти стреляться на дуэль с одинаковыми пистолетами, вот только одного из противников одеть в бронежилет.
– Для нас с вами – да. А вот для них всё иначе. Тут главное, что у противников было "равное оружие". Победить за счет технического перевеса для них позор. "Не смог справиться равным оружием – отойди с почётом и вырази противнику восхищение".
– Хорошенькое дело, – хмыкнул Валерка. – А если тот, кого не можешь победить равным оружием, беззащитных уничтожает?
– А вот тут предсказывать не возьмусь, – неожиданно ответил Стригалёв. – Принцип у них такой, это знаю. Но между принципом и жизнью всегда есть зазор, и порой довольно большой зазор. В этом плане мне всегда вспоминается эпизод из "Хижины дяди Тома". У вас известна такая книга?
– Конечно. Это же классика, – Валерка опередил так же собравшегося ответить Паоло, тому пришлось ограничиться кивком.
– У нас она практически неизвестна. Но у моих родителей была великолепная библиотека, её собирали многие поколения моих предков, ещё до Серых Войн. Каким-то чудом уцелела. Два десятка раритетов изданы ещё до Третьей Мировой. Разумеется, их из капсул почти не вынимаем, если хочется просто перечитать, так всё это давно переиздано в «Домиздате». Только вот иногда внукам даю в руках подержать: чтобы почувствовали себя настоящими Стригалёвыми. Наверное, знаете, что это такое: держать в руках вещь, которую использовали твои предки. Не вообще предки, а именно те самые люди, прямым потомком которых ты являешься.
– Знаем, конечно, – кивнул Валерка. – У меня родители взяли с собой на станцию чайные ложечки, которые ещё мамина прапрабабка когда-то покупала. А у Паоло и вовсе есть мраморный ночник девятнадцатого века.
– Ночник мраморный? – недоуменно переспросил Стригалёв. – Что у вас значит «ночник»?
– Маленький светильник, – пояснил подросток. – Обычно его ставят на тумбочку рядом с кроватью, чтобы ночью, если что, сразу свет зажечь. Поэтому так и называют – «ночник».
– А, понятно. Да, вот именно такие вещи я и имел ввиду. Сумасшедшая энергетика. Если подходить строго материалистически, то объяснить это невозможно. Подумаешь, какие-то там ложечки, светильники, подстаканники, полотенчики, книжечки ветхие… Казалось бы выкинуть рухлядь, купить новое, качественное, функциональное. Ан нет. Новое это – ни уму, ни сердцу. А старую вещь в руки возьмешь – и до самой глубины души пробирает.
– Точно.
– Так о чем я говорил? Да… есть в "Хижине дяди Тома" такой эпизод: негритянка с маленьким ребенком убегает на Север, её преследуют нанятые работорговцем охотники. И вот она случайно оказывается в поместье отставного сенатора. Не знаю, какой аналог вам подобрать. Важного государственного чиновника, проще говоря.
– Мы понимаем, – заверил Паоло. – Проходили по истории.
– Тем проще. Короче говоря, этот человек был убежденным сторонником рабства, на государственной службе работал над его укреплениям. А тут вдруг увидел перед собой несчастную загнанную мать с маленьким ребенком… Не только не попытался задержать, но и, напротив, помог ей в дорогу едой и вещами. И сказал такую замечательную фразу: "Кажется, я поступаю против своих принципов. Тем лучше". Так что, одно дело за рабство в сенате голосовать и совсем другое – угнетать конкретного раба. Рабовладельцы ведь то же разные были люди. Одни – мерзавцы, на которых пробы ставить негде, другие порядочность старались сохранить, с рабами поступали по-человечески. Только рабство как явление от этого менее гнусным не становится. Потому что его легализация всегда в пользу худших. Лучшим оно не нужно, они человеческие отношения и без всякого рабства выстоят.
– Разумеется, – поддержал Валерка.
– Так что, не знаю я, как поступят наши дворяне в том или ином случае. А гадать тут бессмысленно. Они тоже разные, и зависит всё от конкретного человека. Но во всяком случае принцип этот есть. А вот если оружие равное, то в их понимании это автоматически уравнивает шансы. Хотя логики в этом никакой нет. Но для их понимания чести считается вполне нормальным убить на таком дуэльном поединке какого-нибудь инопланетянина… Вы вообще знаете про вассалов Империи?
– Практически ничего не знаем, – сознался Паоло.
– Да, вам многое нужно усвоить и как можно быстрее… Если очень кратко, то выйдя в Дальний Космос Русская Империя столкнулась с довольно значительным количеством иномирных цивилизаций. Большинство из них находились на более низкой стадии цивилизационного развития. В лучшем случае – выход в околопланетное пространство. А как правило – технологии уровня земных Средних Веков.
– Как сипы?
– Нет, сипы в этом отношении технологически более развитый народ. Насколько я ориентируюсь в земной истории, они соответствуют середине девятнадцатого века. Паровые двигатели они освоили, хотя железные дороги для них пока что скорее занимательная игрушка, чем средство перемещения грузов. Вот пароходы получили большое распространение. Но это в принципе не так важно. Важнее то, что большинство иномирян в значительной степени антропоморфны, то есть человекоподобны. Поэтому холодное оружие у них широко распространено. У сипов, кстати, тоже. Огнестрельное оружие у них довольно примитивное и сделать бесполезными клинки пока что не сумело. Плюс, сипы в принципе очень большие традиционалисты, да к тому же кочевники. Поэтому к своей кавалерии у них отношение почти священное.