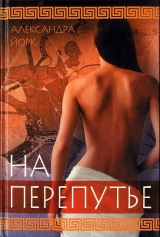
Текст книги "На перепутье"
Автор книги: Александра Йорк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Глава двенадцатая
Ники постучал ручкой от метлы по трубе, подающей пар в студию Дорины. «Сволочь этот управляющий», – подумал он. Всегда выключал подачу тепла, когда знал, что их в студии нет. И когда кто-то из них приходил, нужно было стучать по трубе, чтобы он снова включил отопление. В студии стоял дикий холод, да и картинам такая резкая смена температуры не шла на пользу. Подлец!
Ники поставил чайник с водой на плитку и аккуратно насыпал заварку в прелестный заварочный чайник Дорины. Достал пару антикварных чашек и блюдец из буфета и осторожно поставил их на лакированный поднос. Сам он предпочел бы грубые кружки, но студия принадлежала Дорине, как и все остальное в ней, и это все было очень хрупким. «Кроме ее души, – с симпатией подумал Ники, – душа у нее была стальная». Дожидаясь, пока закипит чайник, он остановился перед картиной, которую в данный момент рисовал, собираясь обдумать дальнейшие шаги, но на самом деле принялся размышлять о старшей сестре.
Тара сказала, что придет в студию примерно в четыре часа, когда закончится дневная конференция в музее. Но было уже двадцать минут пятого, и Ники беспокоился, что скоро стемнеет и она не увидит его полотна в естественном свете. Разумеется, Тара очень хотела увидеть его работы. Интересно, что она скажет? И действительно ли для него так важно ее мнение? Свою сестру он почти не знал, но она ему нравилась. «Не будь она моей сестрой и познакомься я с ней где-нибудь на вечеринке, она бы сразу мне понравилась, – подумал он. – В ней чувствуется естественная искренность и доброта, и в то же время она всегда имеет собственное мнение. Как папа. Тара вообще похожа на папу. Кэлли, например, изо всех сил старается не быть на него похожей. А как насчет меня?» Ники повернул мольберт так, чтобы свет (то, что от него осталось) падал из окна прямо на холст, и затем намеренно поставил резную алебастровую фигуру на угол стола, где сестра не могла ее не заметить. А вдруг она разделит с ним его художественную двойственность – дихотомию, как говорила Дорина.
Когда Тара в первый вечер после приезда призналась отцу, что встречается с Леоном Скиллменом, для отца это был всего лишь мужчина, с которым его дочь провела ночь. Но Ники был в отпаде. Разумеется, он знал работы Скиллмена. Каждый, кто пролистал хоть пару журналов по искусству, знал его. Но он не мог представить себе, как женщина, посвятившая себя изучению и сохранению греческой истории, могла каким-то образом быть связана с Леоном Скиллменом, который, как считалось, мощно продолжал американскую традицию внутренне противоречивого абстрактного искусства. Дорина неоднократно приводила его работы как пример современного воплощения нигилистского искусства. С другой стороны, профессора в колледже Ники считали Скиллмена последним «золотым мальчиком» авангардизма. Разумеется, все они соглашались, что никакого авангардизма в сегодняшнем мире искусства не осталось, потому что не осталось ничего такого, против чего надо было восставать. Но все считали, что Леон Скиллмен был одним из последних великих революционеров. Газеты отслеживали каждое его движение, постоянно печатали его фотографии с выдающимися личностями. Один журнал мод даже опубликовал его фотографии в компании группы молодых моделей на шестиполосном развороте. Он был «модным» скульптором, почти «звездой» в мире искусства, наподобие рок-певца в мире музыки. Он был богат, и, похоже, все, до чего он дотрагивался, превращалось в деньги. Ники просто не мог представить Тару рядом с Леоном Скиллменом.
Он налил горячей воды в заварочный чайник. Куда она пропала? Внезапно в нем появилась волна раздражения. Эта история со Скиллменом и Тарой только усугубила его недовольство своими работами. Однако все его раздражение испарилось, стоило Таре ворваться в комнату и, даже не расцеловав его, пройти прямо к холсту.
– Ты извини, – тяжело дыша, проговорила она, – я могу привести три причины, почему я опоздала, но давай не будем зря тратить время. Просто прости меня, хорошо? Это от меня не зависело.
Ники расплылся в улыбке.
– Ты прощена.
Она взяла из его рук чашку и остановилась перед холстом, даже не сняв пальто. Постепенно на ее лице появилась теплая улыбка. Ники напрягся: к чему относится эта улыбка – к картине или к чаю? Черт бы все побрал! Наконец Тара молча поставила чашку и повернулась к двум картинам, висящим рядом на стене. Уже законченным. Она долго смотрела на них. Затем села на стул и принялась плакать.
– Послушай, вовсе необязательно, чтобы они тебе нравились! – Ники упал перед ней на колени. – Ты вовсе не должна ими восхищаться!
Тара вытерла лицо салфеткой, скомкала ее в руке и в притворном ужасе посмотрела на брата.
– Не должны нравиться? – Она засмеялась и снова заплакала. – Ты мой милый дурачок!Я от них в восторге!Ох, Ники, мой маленький братик, мне так больно, что я недостаточно хорошо тебя знаю! Я горжусь, что я твоя сестра, но я ведь почти тебя не знаю.
Он взял у нее салфетку и молча, не доверяя своему голосу, заботливо вытер ей слезы.
– Ты меня знаешь, – наконец выговорил он.
– Как так вышло, что ты нарисовал именно эти места? – спросила она, разглядывая картины. – Ты всю жизнь жил в городе с неоновой рекламой и мусорными баками вдоль улиц. Ты разве бывал в этих местах?
– Конечно, я был на море. Ты ведь знаешь, папа иногда куда-нибудь нас вывозит. Последние два лета я по несколько недель проводил со своим преподавателем, Дориной, когда она отправлялась в свои ежегодные «погружения в природу», как она это называет.
– Господи, Ники, мне никогда не приходилось видеть таких алых, оранжевых и бирюзовых цветов… чистых, но переходящих один в другой. Твоя страстная манера немного напоминает мне Тернера, но как тебе удалось передать одновременно необузданность и естественность стихии? Я теперь никогда не смогу смотреть на море, не вспоминая твои картины. – Тара с изумлением смотрела на полотна и тихо бормотала, почти про себя: – Такой покой и мир. Масса энергии. Мир, с какой позиции на него не смотри, жизнеутверждающий и надежный. И красота. Обновленная красота.
– Спасибо. – Ники почувствовал, что его глаза тоже пощипывает, но Дорина учила его все принимать спокойно и говорить только простое «спасибо», если кто-нибудь, хоть один из сотни, скажет все, что должно быть сказано… или попытается сказать то, что нельзя выразить.
Тара ходила от одной картины к другой, разглядывая их под разными углами.
– Перспектива у тебя совершенно уникальная. Плоскость в некоторых картинах такая неглубокая, что я не понимаю, как тебе удалось сохранить перспективу. А наложение красок! Я никогда не видела раньше таких решительных мазков. Ты не накладываешь краску слой за слоем, а делаешь один страстный мазок. А что ты делаешь, если мазок не удался?
– Соскабливаю и делаю снова, пока не получается так, как надо.
Тара с уважением склонила голову.
– Как ты назвал эту серию?
– «Морские чары».
Все три картины были большими. На каждой из них существовала точка обзора – какой-то предмет, сделанный человеческими руками. Таре казалось, что она – буквально и фигурально – видит море с разных точек одновременно. На первой картине Ники изобразил на переднем плане край балкона. Ей казалось, что она в сумерках стоит на этом балконе. Обнаженной. Обязательно обнаженной, возможно, после душа, чистая и свежая, в согласии с проведенным днем, собой и всем миром.
На второй картине частично присутствовал зонтик и яркий мячик, привлекая внимание к теплому песку и игривому прибою, но затем взгляд замечал сверкание ослепительного моря. Тема, трогающая до глубины души: слияние – гармония сотворенного человеком и метафизического. Тара чувствовала, что подпадает под «чары» и этой картины. На незаконченном полотне точка обзора находилась на корме парусной лодки, виднелась часть наполненного ветром паруса – кусочек застывшего времени: человек и природа; вечное и временное.
– «Морские чары»! Ники, здесь столько уровней!
– Спасибо, – сказал Ники. – Я думаю, что я еще учусь. То, что мне нравится в работах других художников, заставляет меня переходить на другие, более глубокие уровни оценки. Вроде как снимать слой за слоем, как на луковице. – Он сам рассмеялся, уж слишком неуклюжая получилась метафора. – Я думаю об этом, когда смотрю на другие работы, что-то пишу или работаю в музее. Но когда я пишу картину, уже обозначив себе цель, я только пишу. Я стараюсь работать в соответствии с высказыванием Коро [4]4
Коро Камиль (1796–1875) – французский художник.
[Закрыть], которое процитировала мне Дорина: «Никогда не забывай первого впечатления, которое тебя зацепило». Вот я иногда и думаю: я рисую эти картины, потому что, пока я их создаю, я могу в них жить, в этом ощущении «первого впечатления». Хотя я еще очень многого не понимаю.
– Наоборот, ты понимаешь слишком много. А в каком музее ты работаешь, Ники?
– Часть дня в Бруклинском музее в отделе искусства и музыки. А когда у меня есть время, помогаю в отделе справок. Ужасно нравится. Так много интересного.
– А я-то считала, что обслуживание столиков у папы и есть твоя работа.
– Верно, но это неглавная работа. Я делаю ее, чтобы помочь папе. А другую работу я по-настоящему люблю.
– А как насчет денег?
– О, мне платят и там, и там.
– Что же ты делаешь в свободное время? – пошутила Тара.
Теперь она впервые оглядела студию Дорины Свинг. Странно, но первым делом она вспомнила статью Димитриоса. Как он там писал? Равновесие и порядок?Более того, сама студия каким-то неуловимым образом напомнила ей о доме Димитриоса. Студия Дорины размещалась всего в одной комнате старого здания в Вест-Сайде на улице, вдоль которой выстроились мусорные баки. Дом Димитриоса, большой, строгий, располагался на холме с видом на океан. Но ни в этом доме, ни в доме на мысе Союнон не было ничего случайного. Тара заметила антикварную шаль, небрежно брошенную на маленькое кресло, и аккуратные стопки пленок с концертной музыкой и джазом, которые явно часто бывали в употреблении. На полу остались следы от краски (все-таки рабочая студия), но окна были без единого пятнышка. На небольшом буфете – не полностью заполненная подставка для бутылок, на полочке над ней – кружевная салфетка.
Димитриосу здесь бы понравилось. Даже после приезда в Нью-Йорк она часто вот так неожиданно вспоминала о нем. Ничего удивительного, уверила себя Тара, ведь в Греции они проводили почти все свое время вместе. И теперь, когда его не было рядом, временами у нее появлялось ощущение, что ей не хватает, например, руки или еще какой-то части тела.
– Сколько лет Дорине? – спросила она.
– В этом году ей исполнится пятьдесят. Я устраиваю для нее праздничный ужин у папы, – сказал Ники.
Тара прошла мимо дымчатых розоватых горных пейзажей, покрытых глубокой таинственностью, и обнаженных мужских фигур, не прикрытых ничем, кроме собственной гордости. Что-то в этих картинах заставило ее остановиться.
– Похоже, Дорина любопытная женщина, – задумчиво проговорила она.
– Так оно и есть. А как учитель Дорина настоящий тиран. И абсолютно не согласна с моими профессорами.
– В чем же?
– О, да почти во всем. Дорина и мои профессора не могут прийти к согласию даже относительно того, что такое искусство. Дорина утверждает, что искусство должно быть объективным, они же настаивают, что главное в искусстве – субъективное начало. И их спорам нет конца.
– Субъективное против объективного. Платон против Аристотеля. Снова и снова… – заметила Тара.
– Вернее, все еще, – поправил Ники. – Спор так и не разрешен.
– И возможно, никогда не будет разрешен. Ты уже пытаешься продавать свои работы или считаешь это преждевременным?
– Я продал одну картину. – Ники включил свет и показал ей слайд.
Десятки птиц, подобно стрелам, прорезали розовое небо. Тара видела потрясающие цвета и птиц, ощущая одновременно свободу и радость полета. И это только на слайде!
– Ники! Потрясающе! Куда ты ее продал?
– Одной малоизвестной галерее. И за очень скромную сумму, должен добавить.
Тара оглядела студию.
– А как Дорина зарабатывает себе на жизнь: продажей картин или преподаванием?
– Ни тем ни другим. Она продает свои работы той же галерее, но зарабатывает в основном как реставратор. – Ники расстроился: день закончился, а она так и не заметила того, что ему хотелось ей показать. Он поднял алебастровое изделие со стола и поставил ближе к свету.
– Что ты думаешь насчет этого? – спросил он.
– Насчет чего? – не поняла Тара.
– Это тоже я сделал. – Он увидел смятение в ее глазах. Она недоуменно смотрела на алебастр.
– Ты еще и ваяешь? – осторожно поинтересовалась она. – Это не похоже на остальные твои работы.
– Ну, Дорина говорит, что это вообще совершенно другая категория. Но вот, что я тебе скажу. Продатьэтот алебастр проще простого, а сделать ничего не стоит. Меня учат в колледже, что именно конструкции такого рода должны быть в центре моего внимания, – не следует искать глубокого смысла, не требуется содержание. Этот предмет – всего лишь форма, нечто такое, на что приятно смотреть. Кстати, мне и лепить его было приятно. Дорина называет это декоративным искусством, которое действует на уровне ощущений… А ты что об этом думаешь?
– Не знаю. – Тара задумчиво смотрела на серую спираль длиною почти в два фута, отличающуюся чувственной гладкостью. Вот и все.
– Она очень лирична, – осторожно проговорила она. – Но я ничего не знаю о современном искусстве. Странно, не правда ли? Мы ведь живем, значит, мы современны, но мне почему-то кажется, что и в сегодняшнем мире искусства твои полотна будут считаться современными, верно? Ну а твоя спираль… Она прекрасна, в ней есть гармония дизайна. Думаю, что скульптура, которая вызывает приятные ощущения, может цениться не меньше, чем все остальное.
– Вот теперь ты рассуждаешь, что хорошо, а что плохо. Теперь тебя волнуют эстетические проблемы. Все не так просто, верно?
Тара серьезно посмотрела на брата, которого за последний час безумно полюбила.
– Какой же ты глубокий человек, – с искренним удивлением и уважением произнесла она.
– Да нет. – Ники осторожно вымыл чашки в раковине, вытер их и поставил на полочку с кружевной салфеткой. – Я такой, какой есть. Папа научил меня спрашивать: «почему?» Именно этим я и занимаюсь. Мне не важно, в чем истина, какова она. Я всего лишь хочу понять ее и выразить по-своему.
Где она уже это слышала? Разумеется, от Димитриоса. Именно он говорил: неважно, в чем истина, потому что ее поиск так же важен, как и сама истина. «Возможно, – вдруг подумала она, – Леон сможет помочь Ники». Ну конечно. Он умеет продать свои работы, и, хотя сама она их не видела, Перри Готард назвал их «героическими». Нужно будет познакомить Ники с Леоном. Ведь ясно, об искусстве он слышал только от Дорины и своих профессоров. А Леон не был преподавателем. Он – работающий скульптор, живет в реальном мире, не только создает предметы искусства, но и продает их.
– Ты слышал о Леоне Скиллмене до того, как я упомянула о нем вчера? – спросила она.
– Разумеется. – Ники схватил куртку и выключил свет. – Он очень известен.
– Что ты думаешь о его работах?
Ники явно изумился.
– Лучше спросить, что тыоб этом думаешь.
Они спустились вниз с пятого этажа.
– Я пока ничего не видела. Не забывай, я только что приехала.
– Ну… – Они присоединились к толпе на улице, которая, подобно вечернему приливу, катилась домой после работы.
– Что ну? – спросила Тара, беря брата под руку.
– Ну, мне кажется, тебе лучше самой увидеть его работы, – сказал Ники.
Глава тринадцатая
Чтобы избавиться от трескотни Блэр и ее компании, Кронан Хаген вышел на балкон, нависающий над небольшим садиком, и достал сигареты. Неожиданно он почувствовал себя как бы подвешенным в пространстве и времени, но внутренняя тревога не утихала. «Я заполнял это новое крыло, – с беспокойством думал он. – На мне лежит ответственность. Но мне не дали подойти к этому делу ответственно». Его глаза остановились на изгибе бронзового бедра и поднялись повыше к округлым ягодицам огромной женской фигуры, стоящей в центре сада. Он почувствовал шевеление в паху и поспешил перевести взор с выгнутой спины статуи на протянутые вверх руки. Бронзовые виноградные лозы спускались из рук статуи вниз, смешиваясь с живой растительностью, а живые лозы тянулись вверх, обвивая ствол дерева, и заканчивались экзотическим взрывом многоцветных орхидей. Кронан ощутил острое чувство вины, затмившее его сексуальные позывы, но тут все милосердно заглушил голос Блэр, призывающий его назад.
Его нанимательница привлекла его поближе, чтобы фотограф мог запечатлеть их беседу.
– Что за цитату из Библии вы использовали, которая заставила ваших спонсоров сделать такие большие взносы на ваш проект церкви?
Кронан постарался убрать с лица всякое выражение.
– Это было Второзаконие, глава пятнадцатая, стих одиннадцатый, – ответил он. – «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; поэтому я и повелеваю тебе; отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему…»
– А да. – Блэр ослепительно улыбнулась в камеру. – Вы удивитесь, как много денег Кронан собрал для своей церкви, – поделилась она с окружающими. – Поэтому я хочу воспользоваться тем же способом для моего рождественского приема в Палм-Бич. Кронан такой умный! Он просит не деньги, он просит вещи,которые потом можно превратить в деньги. – Блэр восхищенно улыбнулась. Камеры продолжали щелкать. – Но это идет на пользу и спонсорам, потому что, жертвуя какую-то собственность – недвижимость, акции, драгоценности, машины, а не наличные, – они могут получить большие налоговые скидки.
– Было бы куда лучше, если бы собранные фонды поступали в общественный или университетский музей, – резко заметила Дениз Соммерс.
– К сожалению, – елейным голосом продолжила Блэр (Вэн Варен предупредил ее, что девчонка Соммерс – член художественного совета), – моя мать против перераспределения денег государством, и особенно резко она выступает против государственной поддержки искусства, потому что считает это формой цензуры. Поэтому, – она покачала головой, давая знак Вэн Варену, что эти слова не для публикации, – хотя я и помогала Кронану приобретать предметы искусства для нового крыла музея, архитектуру и финансирование одобряла моя мать. Так что, – она виновато пожала плечами, – мы остаемся частным музеем.
Критик Роберт Вэн Варен повернулся к Кронану, пытаясь помочь ему. Он уже давно занимался этими делами и знал: как только речь заходит о матушке – конец разговору.
– А что вы думаете об архитектуре, Кронан? Вы не думаете, что здание музея само по себе может быть предметом обзора? Ведь это один из пятидесяти американских музеев, которые обновляются или пристраивают «новое крыло» ценой в несколько миллионов, привлекая к этому выскочек-архитекторов. Как вы их выбирали?
– Как Блэр уже сказала, выбирала ее мать. А вы знаете, что Маргарет совершенно безразлично, что делают другие, а Даньела Фредсон к тому же вовсе не выскочка, а глубоко уважаемый специалист, – ответил Кронан. – Но большинство других музеев выставляют коллекции класса Б, поэтому они попытаются привлечь посетителей конструкцией самого здания. Наша же коллекция считается классом А+, она сама по себе привлекает посетителей, так что это вполне достойное здание может обойтись без показухи. Что касается меня, то я не только приветствую скромную архитектуру, которая не отвлекает от лицезрения искусства, но и обожаю ее, поскольку она является мечтой консерватора. – Кронану хотелось добавить, что он не пожалел бы ничего, чтобы эта коллекция и настоящие сокровища основного музея поменялись местами, дабы последние хранились бы в нормальных условиях, но Вэн делал заметки в блокноте, и он промолчал. – Температура и влажность здесь контролируются компьютером, – продолжил он осторожно. – Огромные оконные полотна искусно затенены, чтобы защитить предметы искусства от солнечных лучей, а фильтры в потолке убирают всякие следы ультрафиолетового излучения. К тому же по всему зданию размещены устройства для ликвидации любого загрязнения. Они настолько чувствительны, что, если женщина воспользуется лаком для волос в туалетной комнате, скорее всего, он будет втянут в систему.
Вэн проигнорировал хилую попытку Кронана пошутить и шагнул на балкон.
– Этот странный маленький садик кажется одновременно и неуместным и совершенно идеальным. Что он здесь делает?
– Это пожертвование моей матери, – вмешалась Блэр. – Она ненавидит все то искусство, которое мы выбрали для нового крыла, и настояла на небольшой «передышке», как она выразилась, для тех, кто разделяет ее мнение.
– Что делают там, в углу, эти доспехи? Они похожи на призрака, пялящегося из другого века на голых баб.
– Стоит вспомнить, что мой дед – не отец – начинал со сталелитейного бизнеса. У дедушки было хобби – собирать старинное оружие, с его коллекции и начался музей. Полагаю, таким образом моя бабушка избавилась от всего этого железа в доме. Не пишите в статье о садике, Вэн, – предупредила Блэр. – Вы знаете, моя мать терпеть не может, когда о ее личных проектах упоминается в газетах. Давайте считать, что это милое подглядывание современного искусства в мир искусства прошлого века. И прекрасное hortus conclusus [5]5
Hortus conclusus ( лат.) – зд.: зеленое завершение.
[Закрыть]с изобилием природных чудес среди творений рук человеческих. Подойдет?
– Ну, зелень и цветы в самом деле дают возможность оттянуться, – заметил Вэн. – Даже тем, кто в самом делеценит представленное здесь искусство. – Он повернулся к Кронану, снова изготовившись записывать. – Насколько я знаю, искусство двадцатого века и современное искусство – не ваша епархия.
«Можно подумать, я сам об этом не знаю», – едва не выпалил Кронан.
– И как вы подбирали выставленные здесь предметы искусства?
Кронан улыбнулся дипломатичности вопроса.
– В основном я пытался представить себе, что через сотню лет останется от нашей эпохи в истории искусства. Я также придаю большое значение популярности мастеров. Понимаете, учитывая финансовые трудности и конкуренцию со стороны больших музейных экспозиций, нам необходимо привлекать к себе как можно большее число посетителей. Поэтому, к сожалению, само искусство порой не так важно, как популярность авторов. – Кронан внезапно сменил тему, сообразив, что сказал больше, чем его спрашивали. – Я также обращаю внимание на размещение, размер, масштаб, цвет, материал и все такое прочее, – добавил он.
Эйдриа Касс потянула фотографа к одной из ее больших картин, занимавшей почти четвертую часть стены.
– Но, Кронан, детка, зрелищность и есть искусство. Именно это привлекает посетителей в любой музей. Взгляните! Здесь я создала новый предмет, новый организм, дотоле не существовавший в природе. – Она встала у картины, чтобы дать возможность фотографу сделать хороший снимок. – Это зрелищно. И это магия! Я просто отключаю разум и доверяю астральной руке, которая водит моей рукой. Именно это сбивает зрителей с толку и стимулирует внутренние ощущения, потому что они не в состоянии понять это разумом. – Касс подняла глаза на гигантское полотно и искоса взглянула, записывает ли ее высказывания Вэн. – Эту картину я рисовала с помощью маленьких воздушных шариков. Я наполнила сотни таких шариков краской разных цветов и разместила их на поверхности холста. Затем я швыряла в них маленькие дротики, краска разбрызгивалась и стекала так, как повелевала ей ее карма. В результате получилось то, что человеку не дано создать намеренно, по велению разума. Зрители могут понимать картину так, как им заблагорассудится. Но это – новшество! И это самое занимательное. Однако, – Эйдриа оглушительно расхохоталась, – на самом деле я довольно старомодна. Если бы я действительно была «в струе», я бы обязательно нассала, плюнула или насрала на холст, прежде чем счесть его законченным. Что вы по этому поводу думаете, ребята?
Кронан заставил себя взглянуть на творение Эйдрии и постарался, чтобы ничего не отразилось на его лице. Но заставить себя взглянуть на саму Эйдрию он не мог. У нее был тот еще вид. Как и у ее картины – липкая смесь кровавых красок, напоминающая поле битвы в мозгу какого-нибудь бедняги-дегенерата. «Это общество по-настоящему больно, – грустно подумал он. – В нем нет места красоте, морали, ценностям. И нет места искусству. Господь не мертв, это люди мертвы. Если человек душевно болен, ему безразлично, что лицезреть: лицо смерти или блеск жизни».
Эйдриа встала в позу у другого полотна, одной рукой обняв Вэна, другой – Дениз Соммерс.
– Вэн много разорялся по поводу этой картины, а Денни дала деньги, – говорила она, а фотограф все продолжал щелкать затвором. Она повернулась к Дениз: – Помнишь, Денни, это была часть гранта, который я получила восемь лет назад, когда ты еще была интерном?
– Почему ты назвала ее «Огни города»? – спросила Блэр. – Не знаю, почему я не спросила раньше. Она у меня уже пять лет.
Эйдриа фыркнула. Кронан постарался скрыть свое отвращение.
– Это Фло придумала, – пояснила Эйдрию. – Я сама назвала ее «Траханье», но Фло решила, что для Мэдисон-авеню не подойдет.
Блэр немного растерялась.
– «Траханье»? – Затем лицо ее прояснилось, она сообразила. – А, это часть моей серии «Молоток и гвоздь».
Эйдрию снова понесло. Кронан подумал, что его непременно стошнит, если она не заткнется.
– Главный фокус в том, – продолжала Эйдриа, – как она была создана. Мы с Леоном достали особую краску, которой можно было полностью вымазаться и не задохнуться. Вот мы и покатались в этих красках и затем трахнулись на холсте. Так что это истинная правда. Леон был весь белым, коричневым и золотым, а я черной и голубой, символизируя депрессию нашего возраста, а все остальные цвета символизировали искусство. Понятно?
– Мама родная! Вэн, не вздумайте об этом упомянуть. И это делалось на государственные деньги! Когда и так столько шума насчет сомнительности грантов и непристойности искусства в целом. Мы не хотим давать этим фанатикам в Конгрессе новых поводов для разговоров!
– Да какая разница, как делалась эта картина, Денни? – Эйдриа вдруг стала серьезной. – Важен результат. Посмотри, как сверкает толченое стекло, которое я бросила на полотно, когда оно еще было влажным. Именно это подсказало Фло название – «Городские огни». – Она повернулась к Вэну: – Жаль, что Леон не смог прийти. Он бы тебе получше рассказал об этой картине, можешь не сомневаться. – Она показала на один участок полотна. – Вообще, я считаю, что вон то пятно – не что иное, как отпечаток его великолепного зада.
Дениз отошла на шаг и присмотрелась к полотну.
– Интересно. Композиция явно интересна. И цвета, они так замечательно перемешались. И стекло действительно придает всему некий провокационный, агрессивный смысл. – Она повернулась к Эйдрии. – Но знаешь, подруга, многие молодые художники, которые сегодня сюда придут, уже далеко ушли от всех этих игр или чистой эстетики. – Она повернулась к фотографу, чтобы тот смог запечатлеть ее жест. – Они создают свое искусство с определенным намерением, не импульсивно.
– Не верь всему, что слышишь, – хмыкнула Эйдриа.
– Тем не менее, – перебил Вэн Варен, – куча художников и скульпторов всех мастей делают блестящие карьеры, выполняя заказы правлений, которые желают видеть произведения искусства в общественных местах, в частных зданиях и около зданий. Даже общественные школы в Нью-Йорке, которые день ото дня становятся все хуже и где полно безграмотных детей, не умеющих считать, получают деньги на занятия искусством.
– Точно, – согласилась Дениз. – Искусство должно принадлежать народу. Она должно быть доступно всем людям всех возрастов, а не только избранным и богатым. – Она взглянула на Эйдрию, подняв брови. – И твой последний шедевр – эта похожая на амебу фреска для средней школы в Южном Бронксе принесла тебе сто восемьдесят семь тысяч долларов, если не ошибаюсь?
– Хочу задать вопрос, – заговорил до этого молча работавший фотограф. – Вы, кажется, сказали, что являетесь членом Художественного совета, так? – Дениз кивнула. – Тогда как насчет налогоплательщиков, которых даже не спрашивают, на какое искусство стоит тратить их налоги или каким художникам давать гранты? Что, если некоторые налогоплательщики вообще не интересуются искусством?
Дениз явно удивилась.
– Но это в интересах публики, – резко сказала она.
– Пра-виль-но, – протянул фотограф. – Улыбнитесь-ка в объектив камеры налогоплательщиков, мисс Соммерс.
– Постойте, – вмешалась Блэр, пытаясь сгладить неловкую ситуацию. – Мы уже сказали, что этот музей создан на добровольные пожертвования. Хотя способ, каким моя мать заставляет «жертвовать», не всегда приличен. Она, знаете ли, пользуется «тестом на вздрагивание». – Заметив, что на нее обращено всеобщее внимание, Блэр заторопилась. – Если жертвователь предлагает сумму без вздрагивания, она спрашивает, как долго он собирается вносить эту ежегоднуюсумму. Так она и продолжает, пока не замечает, что он вздрагивает.– Блэр повернулась к Кронану. – Но твойспособ мне нравится больше. Кроме того, я следую «правилу третей». Я рассчитываю получить треть от десяти крупных пожертвований, еще треть от следующей сотни пожертвований и треть от всех пожертвований. Первые две трети я получила от людей, с которыми всю жизнь ужинаю. Последняя треть поступит от гостей на большом мероприятии для прессы, которое мы устраиваем в Палм-Бич, то есть от людей, которым хочется увидеть первые две трети и быть замеченными с ними. – Она довольно улыбнулась. – Будет здорово! Я засыплю весь участок настоящим снегом. Пресса не сможет устоять! Я превзойду тебя, Кронан. – Она подмигнула и послала ему воздушный поцелуй.
Кронан улыбнулся. Он уже привык, что Блэр постоянно флиртует.
– Однажды Энгр [6]6
Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) – французский живописец и рисовальщик.
[Закрыть]сказал, – прошептал он в ответ: – «Говорят, я не принадлежу этому веку. Если мне не нравится мой век с точки зрения его искусства, должен ли я принадлежать ему?»
– Можно процитировать? – спросил Вэн.
– Не стоит. – Кронан боролся с усталостью, боясь, что все это заметят. – Взгляды Маргарет Харрингтон Крейн на искусство значительно ближе мне, чем взгляды ее дочери, но она занималась этим крылом потому, что это искусство доставляет радость Блэр, так что я не скажу ни слова против, и неважно, насколько я сам далек от понимания его. Сегодня многими музеями руководят администраторы, которые открыто признаются, что не очень-то разбираются в искусстве. Некоторым образом я теперь вошел в их ряды, вот и все. И мне еще лучше, чем другим. По крайней мере я могу перейти через мост и почувствовать себя дома – в старом крыле. Разумеется, это тоже не для печати.
Блэр передала Вэну большой конверт.








