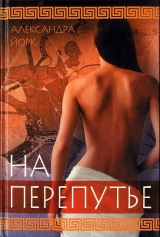
Текст книги "На перепутье"
Автор книги: Александра Йорк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Глава девятнадцатая
Ники постучал по трубе, требуя тепла, и принялся тряпкой подтирать принесенную с улицы грязь. Тара в это время ставила чайник на электроплитку.
– Наверное, нам лучше снять обувь, а то принесли с улицы много грязи. Дорина краску на полу обожает, грязь не выносит.
«И еще она ненавидит работы Леона Скиллмена», – возбужденно подумал он. Ники понимал, что эти два человека не смогут долго находиться в одной комнате. Леон, любимец мира современного искусства, и Дорина, одна из небольшой группы художников Америки, которая несет традиции Ренессанса в технике изобразительного искусства и передает их своим ученикам. Учитель учителя Дорины занимался вместе с Джеромом, который учился с Деларошем, а тот, в свою очередь, – с Давидом, от него шла прямая линия через Рафаэля к Леонардо и Микеланджело. От художника к ученику, снова и снова, пока очередь не дошла и до него, Ники.
Ники еще раз постучал по трубе и принялся разбирать сумку с хлебом, фруктами и сырами. «Леон богат, – подумал Ники. – Он пользуется успехом, он не следует ни за кем, подчиняется только своим собственным импульсам. Каким же взрывоопасным будет сегодняшнее утро!»
– Что конкретно ты ждешь от этого сборища, Ники? – Тара разглядывала рисунки обнаженных натур, сделанные Дориной. Мужчины отчасти напоминали ей о ее греческом атлете, но выражали что-то большее. Надо будет спросить о них у Димитриоса. На стене появились два рисунка обнаженных женщин, их не было, когда она приезжала сюда в первый раз.
– Ясно, что Дорина пригласила всех ради тебя, – продолжала Тара. – У меня создалось впечатление во время Дня благодарения, что, если бы не забота о твоих интересах, она по какой-то причине вообще предпочла бы не разговаривать с Леоном.
– Ну ты ведь до сих пор не видела работ Леона, и это ставит тебя в невыгодное положение. Дело в том, что они… как бы это сказать, полностью двадцатый век. И кто может догадаться, что будет в двадцать первом? А Дорина продолжает, не повторяет, а развивает, традиции прошлых веков, она постарается донести это и до тебя. Так что они абсолютно на разной волне.
Тара с отсутствующим видом взглянула в окно. Какой странный вечер она провела с Димитриосом. Прекрасный, но странный. Не следовало ей так много пить. Здесь, в Нью-Йорке, он показался ей совсем другим, не таким, как дома, в Афинах. Прошлой ночью дождь снова перешел в легкий снег, который теперь покрывал легким, хрупким покрывалом обочины дорог.
– Что ты конкретно имеешь в виду под двадцатым веком, Ники? В твоих устах это звучит скорее как клеймо, а не временной отрезок.
– Ну во многих отношениях, я думаю, так оно и есть. И вообще, – он задумался, – может быть, все к лучшему. После сегодняшнего дня ты будешь лучше подготовлена к пониманию работ Леона, когда тебе наконец доведется их увидеть. Его искусство нуждается в определенной акклиматизации, чтобы его оценить. Дело в том, – небрежно заметил он, – что по характеру своей работы ты слишком погружена в прошлое.
Тара промолчала, думая о том, что она увидит работы Леона быстрее, чем кто-либо, включая его самого. Она улыбнулась брату и обняла его за плечи.
– Ты полагаешь, если я слишком быстро выйду на яркий свет двадцать первого века, то могу испортить глаза?
* * *
Леон небрежно шлепал по растаявшему снегу, не обращая внимания на тонкие ледяные кружева, покрывшие деревья, окружающие белизну парковой лужайки, подобно тонким кружевам на белом носовом платке. Все его мысли были заняты собственными переживаниями. Он сам виноват, что вынужден теперь идти на эту встречу. Зачем он накануне стал спорить с Дориной? Как будто какая-то часть его, которую он до того крепко держал в узде, вырвалась и заставила его противоречить ей, Таре и матери – всем троим одновременно.
Черт побери! Подумаешь! Он повернет это сборище себе на пользу. Ему не привыкать. Наверное, придется поубавить нахальства, потому что с Дориной этот номер не пройдет. Но перед Тарой хотелось бы хорошо выглядеть. Впрочем, не должно быть никаких проблем. Он уже многие годы умудрялся успешно морочить головы журналистам. Сюда еще следует добавить бизнес с кураторами, лекции в университетах, общение с коллекционерами и дилерами… Черт! Да у него все всегда получалось! И все же с Дориной Свинг ему придется нелегко. Она будет сражаться за своего щенка. Но это не имеет значения. Как не имеет значения и их искусство. Самое важное сегодня – это неожиданная возможность открыть для Тары двери в свое собственное искусство.
– Ладно, ребята, вы этого хотели? Получайте! – Он произнес эти слова вслух, чтобы иметь возможность услышать самого себя.
От его ботинок на снегу оставались следы, как от шин. Но Леон их не видел. Какими бы ни были ее картины, Дорина наверняка так же устарела, как и его матушка. Удивительно. Стоит только подумать, что все реликвии прошлого умерли и забыты, как тут же появляются новые. Леон пнул большой кусок льда, попавшийся на пути, и тот отлетел далеко вперед. Внезапно он ощутил прилив энергии и готовность принять вызов, ожидающий его впереди. Великое утро! Подходящее для свержения икон!
* * *
Ему в плечо попал снежок. Димитриос круто обернулся и тут же улыбнулся.
– Как вам нравится наша погодка? – С ним поравнялась Дорина. На голове у нее до ушей была натянута лыжная шапочка. Она улыбнулась, глядя ему в глаза.
– Могла бы быть и лучше, – признался Димитриос, вспоминая вчерашний дождь, испортивший ему так тщательно планируемый вечер.
– Так на чьей вы сегодня стороне?
– Если честно, я предпочитаю собственную сторону.
– А Тара?
Димитриос придержал дверь, чтобы пропустить Дорину, и потопал ногами, стряхивая с них снег.
– Если честно, то не знаю, – признался он, в десятый раз сожалея об этом.
– Я надеюсь, что она поддержит меня. Тара способна оказать очень сильное влияние на Ники. – Дорина молча поднималась впереди него на пятый этаж, размышляя о том, насколько важным может оказаться сегодняшний день для будущего Ники. Если бы у нее в его возрасте был кто-то, кто боролся бы за нее! Профессора Ники – точные копии преподавателей искусства в колледже, где она училась, которые пытались сделать из нее клона. Как один вынуждали ее стесняться своей любви к рисованию и красоте!
Она выросла в маленьком городке в штате Миннесота. Ее отец был торговцем, а мать домохозяйкой, но, когда она уехала из этого защищенного мира и пошла в школу в Чикаго, ее профессорам удалось довольно быстро поколебать ее уверенность в своих художественных способностях, хотя все ее детство эти способности вдохновляли ее: другие дети не могли делать того, что делала она, не задумываясь, уже в пять-шесть лет. Дома ею гордились, ее природные таланты были всегда востребованы – начиная от оформления школьных постановок и кончая годовыми альманахами. Единственной, кто немного учил ее рисованию, была жена владельца мебельного магазина, причем случалось это только во время летних каникул. Уроки всегда прерывались, если в магазин входил покупатель. В колледже на ее умение рисовать никто не обращал внимания. С упорством, достойным лучшего применения, ей внушали, что «ее» вид искусства – в далеком прошлом. Она ужасно расстроилась, что слишком поздно родилась, и переключилась на изучение истории искусства, защитила диплом и стала работать помощником реставратора, чтобы иметь возможность платить за обучение. Обе эти профессии не позволили ей оторваться от искусства, которое она обожала, но стать художницей она не решилась. После окончания колледжа она отправилась в Миннеаполис, чтобы найти работу. Ей «повезло»: как раз в это время случился небольшой пожар в художественном ателье и им потребовался реставратор; так она познакомилась с преподавателем изобразительного искусства, который жил на втором этаже этого ателье. Сложись обстоятельства по-иному, она бы так навсегда и отказалась от мечты самой делать искусство.
А как же Ники? Разве то, что она сочла лучшим для себя, годится и для него? Если он уйдет в абстрактное искусство, то, вероятно, сможет зарабатывать на жизнь, чего она так и не сумела сделать даже после того, как обрела уверенность в себе и начала карьеру художницы. Скульптура Ники из алебастра радовала глаз. А серьезным искусством он будет заниматься ради удовольствия.
Нет, не будет. Когда они с Димитриосом добрались до последнего этажа, Дорина почувствовала, как ее обычная спокойная уверенность превращается в упрямство. Если Ники прыгнет в экономическое море, его настоящие работы, без сомнения, в этом море утонут. Она не могла допустить этого без борьбы. Тратить свой талант и умение на абстрактные работы означает снова и снова повторять всего несколько нот из обширного репертуара. Нет, нельзя допустить, чтобы такое произошло с Ники.
У дверей своей студии Дорина глубоко вздохнула.
– Ну вот, мы пришли. Пусть победит лучший! – Только поворачивая ручку двери, она заметила обеспокоенное выражение на лице Димитриоса. – Я имела в виду Леона и себя, – улыбнулась Дорина, хотя ничего смешного в происходящем не видела.
* * *
Леон был готов ко всему, но только не к чувству боли, захлестнувшей его. Она навалилась на него сразу, как будто его ударили.
Он старался взять себя в руки, сохранить безразличное выражение лица. В чем дело?
Он заставил себя ходить от картины к картине, и его внутреннее смятение нарастало: пульс учащался, виски сжимало болью. Но именно эта боль, как ни странно, помогала не развалиться на части окончательно.
Почему? Почему эти работы так на него действуют? Он смотрел и смотрел, никак не мог оторваться.
Пейзажи Ники – противопоставление вечного и временного. Какая композиция! Какие краски! Какая выразительность! Горные пейзажи Дорины – громкий гимн торжеству физического мира. Глаз у нее зоркий, рука твердая. Свет такой смелый, он держит горную гряду как бы в прожекторе красоты, настолько захватывающей, что смотрящий уверенно знает, – нет, уверенно чувствует, – что и вся вселенная гармонична… Да, пейзажи Дорины далеко ушли от великолепной красоты и спокойствия Гудзонской речной школы – они наполнены движением, полны энергии и, казалось, праздновали земное, а не духовное великолепие. Эта женщина была сумасшедшим романтиком.
Достаточно! Леон мужественно просмотрел рисунки, надеясь, что его внутреннее смятение и пот под рубашкой не будут никем замечены. Рисунки Дорины были выполнены карандашом, требующим четкого представления о задаче. Он не мог долго смотреть на них. Формы были очень близки к скульптурным формам. Против воли его руки – черт бы побрал эти руки! – начали ощущать их в твердой форме. Он медленно вернулся к картинам Ники, все еще пытаясь загнать поглубже свои эмоции.
– Вам это не продать, вы ведь знаете? – сказал он Дорине голосом столь же холодным, как льдинки его зеленых глаз. Он снова стоял перед пейзажами, на этот раз справившись со своими чувствами, заморозив их. – Они слишком красивы на современный вкус. Они не получат хорошей прессы, и вы это знаете, – добавил он.
Таре казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Как может что-то в жизни быть «слишком красивым»? Леон за последнее время несколько раз говорил о красоте, но в его словах не чувствовалось последовательности.
– Ники уже продал одну свою работу, – спокойно возразила Дорина.
Ники показал Леону слайд со своими птицами.
– Я получил за это восемьсот долларов. Разумеется, это не очень много, – нерешительно добавил он.
Теперь Леон испытал шок другого свойства – автоматический шок возмущения.
Впрочем, почему он должен возмущаться тем, как обошлись с мальчишкой? Он же его почти не знает. И почему он испытывает такую душевную боль от пребывания в этой студии? Это была боль беспомощности, именно она заставила его заплакать после того, как он в первый раз любил Тару. Боль пронзительная и глубокая.
Он уставился на Дорину холодным взглядом.
– Так вы хотите, чтобы он продавал свои работы за восемьсот долларов? Или даже за восемь тысяч? Если учесть, сколько времени требуется на такие работы, ясно, что Ники никогда не сможет прокормить себя своим искусством. И вы это знаете, – повторил он.
Дорина коснулась алебастровой скульптуры.
– Вы хотите, чтобы он делал такое?
Леон пожал плечами.
– Не я устанавливаю правила. Я просто играю по правилам. Мы с вами оба знаем, что реализм не умер окончательно, что за последние годы он в какой-то степени вернулся, но большинство этих работ не продаются за настоящие деньги, как продавались когда-то картины мастеров прошлых веков, потому что картины, написанные в реалистической манере сегодня, неуместны в нынешнем вывихнутом мире. Такие картины, даже отлично выполненные, в своем большинстве банальны. Хорошенькие картинки. Вот и все.
Дорина старалась сохранить спокойствие.
– Неуместны – для кого?
Ники разносил чашки по комнате. В голове у него все перепуталось. Леон не сказал ни единого конкретного слова про его работы, только заметил, что их нельзя продать, что они неуместны. Он с трудом проглотил глоток чая.
– А что, по-вашему, уместно, Леон? – спросил он, крепко сжимая в руках чашку. – Кроме продажи, разумеется.
– Правильно! – Дорина положила большой альбом на свой мольберт. – Давайте разложим все по полочкам. – Она схватила мелок и приготовилась писать. – Начнем с вас, Леон. Что главное сегодня в искусстве? Давайте по порядку.
– Ой, да будет вам! – простонал Леон, поворачиваясь к Таре.
– Это же ради Ники, – шепнула Тара.
– Я сделаю это для тебя, – прошептал он в ответ. Он подошел в мольберту, взял у Дорины мелок и написал: «ЭСТЕТИКА». – Это главное почти целый век, то есть процесс искусства как искусства. Это общепринято, банально и признано. Любой, не понимающий этого, просто невежда, потерявший связь с двадцатым веком и современным искусством. Даже в изобразительном искусстве те, кто добился успеха, используют тему только в абстрактной форме. И если в ней есть содержание, оно касается политики, или окружающей среды, или какой-то формы общественного сознания. Это не личный праздник жизни, как здесь у Ники, – он встретился взглядом с Дориной, – как у вас. Искусство предназначено для того, чтобы изменить взгляд других людей на мир.
Димитриос подошел к рисункам Дорины.
– И все же я отдаю свой голос за эти великолепные обнаженные натуры, – заявил он.
Тара повернулась к Леону.
– Подожди минутку! Насчет обнаженной натуры. Разве то, чем ты занимаешься сегодня, отличается от того, что ты делал в юности? Твой «Весенний цветок», изображающий обнаженную девушку, куда больше, чем просто эстетика. Та скульптура глубоко человечна.
– «Весенний цветок»? – удивилась Дорина. – Обнаженная фигура? Неужели Леон грешил реализмом?
– Она просто замечательная. – Тара не удержалась и улыбнулась Леону. Возможно, его теперешние работы более модерновые, но не могут же они так сильно отличаться от того, что он делал раньше? – И, честно говоря, она выполнена в духе твоих рисунков, Дорина. Это фигура молодой девушки, поднимающейся из цветов, как будто она сама является бутоном…
Леон перебил ее.
– Эта работа очень незрелая и чересчур буквальная, – сказал он, надеясь покончить с этой темой.
Дорина смотрела на Леона с неподдельным интересом.
– Вы хотите сказать, что когда-то делали не только реалистические вещи, но и идеализированные?
– Я был тогда очень молод.
– Как любопытно, – тихо проговорила Дорина и одарила Леона долгим, оценивающим взглядом. Затем направилась к плитке, чтобы заняться чаем.
Тара потрогала пальцем алебастровую скульптуру.
– Как тебе вообще пришло в голову сделать такое, Ники? Она так отличается от всех твоих других, серьезных работ.
– Прежде всего, – Ники положил на хлеб кусок сыра и откусил, – многим, в том числе большинству моих учителей, эта алебастровая скульптура не кажется несерьезной. И вообще, разве ты забыла, как отец возился с деревом и делал для дома всякие симпатичные штучки? Мне нравится их форма и поверхность. Потом некоторые ребята в школе начали экспериментировать с алебастром, и я обнаружил, что мне тоже нравится с ним работать. Так вот, я наблюдал за папой и за ними, и мне захотелось сделать нечто подобное. Теперь мне хочется сделать что-нибудь из дерева.
Дорина пододвинула стул и подула на свой чай.
– Ладно, Леон, давайте поговорим об этом ради Ники. Потому что единственная причина, почему я готова говорить об абстракции, так это то, что она интересует Ники. Хорошо. Абстрактное искусство – это эстетика. Согласимся с этим. Я не утверждаю, что абстрактное искусство не имеет цены, в своих лучших вариантах оно может быть хорошо выполнено и даже красиво. Только этого недостаточно для талантливого художника с развитыми техническими навыками, потому что форма сама по себе очень ограничена. Она мало требует от художника. Вот почему западная художественная техника утратила достижения двух с половиной тысячелетий. Этой технике на протяжении жизни трех или четырех последних поколений практически не обучают. Вот и выходит, что многие современные художники, как абстракционисты, так и реалисты, к примеру, не умеют рисовать.
Леон перевернул лист в альбоме и начал быстро что-то рисовать.
– Иногда невероятно важно сконцентрироваться на одном элементе, чтобы выделить его, – сказал он. – Как скульптор, я имею дело с формой. Объемом. И пространством. Темой работы является ее форма, и игра света, и пространство вокруг этой формы. Таким образом, искусство действует на чувства, не на разум. – Он поднял глаза на Тару и снова вернулся к альбому. – Ну и что? – Затем взглянул на Ники и сосредоточенно принялся рисовать.
Дорина завороженно наблюдала за ним.
– А то, что это равносильно предложению – всю оставшуюся жизнь водить машину со скоростью миля в час, вот что. Потому что искусство способно радовать чувства, стимулировать эмоции и бросать вызов разуму. Если мы концентрируемся только на частях, как вы предлагаете, то что вы делаете с целым? Даже если это помогает – в чем я сильно сомневаюсь – разобрать целое на части и разложить вокруг, подобно ребенку, разбирающему часы, остается главный вопрос: кто сейчас способен собрать все детали вместе, чтобы часы снова смогли функционировать и показывать время?
Леон положил альбом на пустой мольберт.
– Вот! Это должно разбить в прах вашу теорию насчет неумения рисовать! – Его зеленые глаза на мгновение остановились на наброске головы Тары и затем с насмешкой оглядели присутствующих.
Дорина с удивлением смотрела на образец великолепной техники, дивясь поразительной способности Леона передать настроение. Потрясенная тем, что Леон Скиллмен, как выяснилось, обладает такими способностями, она вдруг вспомнила, как Тара описывала «Весенний цветок». И ее охватила огромная печаль: среди всех предательств, которые можно совершить в отношении этого мира, Леон Скиллмен совершил самое страшное. Она не знала, что сказать.
Ники смотрел на рисунок, на арабеску линии, на чувственный ритм, поражался удивительному сходству с сестрой и припоминал огромные бесформенные глыбы, которые корячились то здесь, то там по всей стране. Он с трудом сдерживался, чтобы не высказаться. Непонятно, почему ему хотелось крикнуть: «НЕТ!»
Димитриос смотрел на рисунок издалека, страстно желая, чтобы то, что он видит, не существовало. В нем было все, чего можно ожидать от быстрого наброска, сделанного рукой мастера, но даже в самых мрачных своих кошмарах он не предполагал, что у Леона – рука мастера. Кроме того, рисунок был закончен в таких деталях, какие трудно ожидать от наброска. Хуже того, он точно уловил сходство с Тарой. С помощью нескольких линий он изобразил ее душу, ее прямоту, ее открытость. Теперь на передний план выступила мысль, которую он настойчиво отодвигал вглубь: что, если Тара сразу разглядела настоящего Леона? Потому что этот мужчина, если это и был настоящий Леон, представлял для него куда более серьезную опасность.
Тара подбежала к наброску.
– Как похоже! – воскликнула она и тут же с облегчением подумала: «Слава Богу».
– Я здорово заржавел, – усмехнулся Леон и, взглянув на Дорину, подмигнул. Дорина продолжала рассматривать рисунок.
Молчание смущало всех, кроме Леона.
Он наконец громко рассмеялся.
– Видите, Дорина, я делаю свои работы потому, что мне это нравится.
– Да, – тихо сказала она, – теперь вижу. Вот только удивляюсь, почему вам это нравится.
– Очень мило, – сухо заметил Димитриос, понимая, что следует сменить тему. – Но, кстати, о рисунках, Дорина. Мне немного хотелось бы поговорить о ваших, если вы не возражаете.
Дорина пододвинула стул и села рядом с ним.
– А как насчет нашего спора? – озабоченно спросил Ники. – Мы ведь только начали.
Дорина через плечо улыбнулась ему. Улыбка, к ее собственному удивлению, включала и Леона. Теперь было просто невозможно относиться к этому человеку резко отрицательно.
– Не волнуйся, мы с Леоном никуда не денемся. Обсудим все в другое время, а Димитриос скоро уезжает, так что позволь мне на некоторое время сосредоточиться на себе и послушать, что он скажет.
– А скажу я вот что: мне думается, вы блестяще изобразили квинтэссенцию обнаженной натуры двадцать первого века. В этих работах реальное сливается с идеализированным, так же, как делали греки, но ваши работы абсолютно современны, они наполнены своей собственной независимостью. Особенно женские фигуры. Такие современные и одновременно вне времени. Очень здорово, Дорина. У вас есть рисунки парных обнаженных натур?
Дорина благодарно кивнула и подвинула свой стул поближе к нему.
– Нет. Поместив в одном рисунке мужчину и женщину, я автоматически привнесу в тему секс. В своих рисунках я исследую человеческую индивидуальность. Это проще выразить в скульптуре, но… – она пожала плечами и бросила быстрый взгляд на Леона, – я не умею ваять.
Леон, теперь полностью ощущающий себя в своей тарелке, с горящими глазами, довольный, поглядывал в окно, вытирая чашки, которые мыл Ники. Он знал, что своим наброском положил всех на лопатки.
Тара сидела перед картинами Ники и думала о море и о том, увидит ли она снова Грецию. Я нужна своему брату. Леон говорит, что любит меня. И хотя он все еще для меня загадка, меня тянет к нему, как магнитом, с первого момента, как я его увидела. Безусловно, я люблю Нью-Йорк. Будущее мира и, соответственно, будущее искусства находится здесь, в Америке. Даже Димитриос так говорит. Она взглянула на Дорину и нахмурилась. «Как открыто она с ним флиртует», – подумала Тара, почему-то испытывая раздражение. Димитриос казался полностью очарованным.
– Вы не разрешите мне купить два рисунка? – спросил он, его темные глаза горели страстью. – Вы сделали невероятную вещь. Мне трудно будет жить, не видя их в своем доме.
Дорина сидела не шевелясь.
– Спасибо, Димитриос. Разумеется, вы можете купить все, что хотите. – Как бы мне хотелось иметь возможность подарить тебе хотя бы один рисунок, подумала она.
– Тара! – окликнул Димитриос. – Иди сюда, взгляни на эти рисунки. Тебе наверняка понравятся эти обнаженные мужские фигуры.
Дорина оцепенела.
Но Тара показала на женские фигуры.
– Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда я увидела их впервые, то не смогла сразу определиться. Однако женские фигуры кажутся мне более сильными. Они такие американские. И более того: на них изображена женщина по-настоящему свободная. Гордая, умная и… независимая! Именно так! И не только физически, юридически или морально независимая, она независима по-человечески!
Тара взяла Димитриоса под руку и склонила голову к его плечу.
– Знаешь, здесь так много всего, включая эти рисунки и проблемы Ники, что я невольно задумалась, а не слишком ли мы с тобой утонули в античности? Здесь и сейчас существует столько всякого и разного.
– Всякое и разное есть в обеих цивилизациях, – улыбнулся Димитриос, радостно ощущая ее близость, но огорчаясь тому, что она сказала. У него была тайная надежда, что она попросит его остаться, пойти с ней завтра в музей и разобраться с экспонатами. Но если он так поступит, то нарушит всю идею своей поездки, предпринятую только ради того, чтобы отпраздновать ее день рождения с ней вместе. Но как же ему хотелось остаться! И все-таки, чтобы его путешествие осталось романтически эффективным, следует распрощаться с ней сегодня. Он, к примеру, отвезет ее домой и по дороге скажет, что проблемы с музеем они обсудят по телефону, если ей действительно нужна его помощь. Сейчас он прилетел, только чтобы побыть с ней. И оставит ее в недоумении у дверей. Поцеловать ее на прощание или не поцеловать? Нет, это будет чересчур. Вот что он сделает: быстро распрощается, никаких поцелуев, Ну, может быть… Нет, никаких поцелуев.
Леон напряженно наблюдал за ними. Ему было неприятно смотреть на Тару, положившую голову на плечо Димитриоса. Хотя какого черта? Они ведь близкие друзья. И если Димитриос не интересовал Тару раньше, не заинтересует и сейчас. Он уже забыл свою первую, болезненную реакцию на работы в этой студии. Он достиг своей цели, его набросок помог ему победить Дорину. Он снял альбом с мольберта и протянул его Ники.
– Хочешь оставить это себе? Мы можем закончить наш спор в другое время. – Он понизил голос так, чтобы его мог слышать Ники. – Думаю, если мы будем работать вместе, то убедим твою сестру остаться здесь, с нами. Как ты думаешь?
Ники с отвисшей челюстью переводил взгляд с Димитриоса и Тары, обсуждающих рисунки, на Дорину, убирающую грязную посуду.
– Мне кажется, я ничего не понял из того, что сегодня здесь произошло, – медленно проговорил он.








