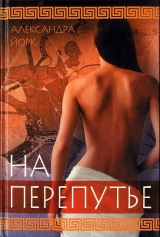
Текст книги "На перепутье"
Автор книги: Александра Йорк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Кронан тихо сидел в одном из рядов. Он казался потерянным. Что-то в его согбенной позе вызывало сочувствие. Он сказал, что не понимает такое искусство. Тогда ему приходится тяжело, ведь он вынужден руководить всем музеем. Таре захотелось, чтобы поскорее пришла Блэр и просветила ее насчет этих темных полотен. Она села рядом с Кронаном. Пожалуй, им стоит отдохнуть – он уже пожилой человек, а ходит с ней битый час.
– Просто не знаю, что обо всем этом думать, – призналась Тара. – И вообще, зачем в музее комната для медитации?
– Когда-то я бы задал тот же вопрос, но сегодня меня уже ничто не удивляет. Более того, мне это представляется логическим продолжением того направления, каким уже некоторое время следуют музеи, – боюсь, они вмешиваются в традиционную роль религии. Как будто люди могут думать, что, глядя на предметы этого искусства, они впитывают в себя заключенную в них религиозную составляющую. В последние годы сильно увеличилось число посетителей музеев, но это не значит, что большее количество людей осознали важность искусства. Лично я не думаю, что они приходят, чтобы посмотреть на искусство, – они приходят найти Бога.Раз так, то комната для медитации в музее вполне в порядке вещей, не находите?
Тара сидела и молча смотрела на Кронана. Он поставил локти на колени, пристроил подбородок на сложенных ладонях и был явно погружен в собственные мысли. «Возможно, эта комната и в самом деле выполняет свою функцию», – подумала она.
При всплеске красного и белого в дверях они оба вздрогнули: красные сапоги, белое манто из рыси, красная шляпа, оченькрасные щеки и красные губы. Блэр весело рассмеялась.
– Поймала вас на медитации, верно? – Она остановилась на пороге. На лице широкая улыбка, в руке небольшой пакет. Запыхавшаяся, сияющая, Блэр обняла Тару, а пакет протянула Кронану.
– Сигнальный экземпляр «Уорлд Арт».Мы открываем журнал. – Затем ее глаза несколько потускнели. Почему она теперь так быстро теряет душевный подъем после секса? Обычно его хватало на несколько часов. Она снова обратила внимание на то, насколько Кронан похож на Уильяма.
– Простите, простите, простите, – пробормотала она. – Но мне не слишком жаль, что я пропустила ваш тур до этого места. – Блэр снова заставила себя воодушевиться. – Самые ценные экспонаты – в конце, там только те художники, которые попадают в новости. Пойдемте, – она повернулась, не входя в комнату. – Здесь мне трудно дышать. Давайте же развлечемся. А потом я приглашаю вас обоих на обед!
Кронан сразу запросил пощады.
– Заходите ко мне в офис, когда закончите осмотр, – сказал он. – Ваше «развлекательное» искусство испортит мне аппетит. Вы же знаете, что я думаю о последней части вашей экспозиции. Ведь, помещая в музей работы художников, которые попадают в новости, вы пропагандируете их творчество раньше, чем пройдет достаточно времени, чтобы можно было оценить их творчество. С моей точки зрения, им место в галереях, но не в музее.
– Ладно, идите в свое убежище. Мы с Тарой побродим одни.
Блэр начала рассказывать о том, что они увидят, еще до того, как они дошли до последнего зала.
– Большинство американских модернистов, слава Богу, не отягощены тяжелым багажом старых европейских мастеров, их философией и манифестами. Они больше заняты искусством «создания», вот почему их работы так меня вдохновляют.
– Вам они нравятся, потому что вы не представляете, чего от них можно ожидать?
– Вот именно. Моя приятельница Фло, агент Леона, говорит, что искусство сегодня просто ходовой товар. Но она ошибается. Эта моя любимая секция нового крыла, с одной стороны – святилище, с другой – игровая комната, одновременно и церковь и карусель. Несмотря на то что на дворе двадцатый век, от комнаты для медитаций у меня мурашки бегут по коже. Но здесь по-другому. Работы написаны прямо на стенах музея, потом они будут закрашены, чтобы продемонстрировать текучесть жизни, так что смотрите хорошенько сегодня. В будущем году их здесь не будет. Ну, – она обвела зал рукой, – что вы об этом думаете?
«Я думаю, что у меня крыша поехала», – подумала Тара. Она принялась медленно обходить огромный зал. Почему эмоциональное содержание внутренней жизни художника должно представлять интерес для кого-нибудь, кроме него, тех, кто его любит, и, возможно, его психиатра? Что же, вероятно, кого-то это глубоко интересует, иначе бы картины здесь не висели. Некоторые из них показались ей весьма декоративными – напомнили ткани или рисунки на керамических плитках. Одно гигантское полотно представляло собой смесь металлических и грязных красок, соединенных чем-то липким, какой-то резиной. Воздушными шариками? Другое – смесь белой, золотой, черной, голубой и других красок, блестело чем-то непонятным… толченым стеклом?
Блэр внимательно наблюдала за Тарой. Это зрелище ее захватило! Казалось, она забыла о присутствии Блэр. Ее круглые серые глаза рассматривали все внимательно, с любопытством ребенка.
Тара тупо смотрела на большой прямоугольник с потеками оранжевой краски. Затем повернулась к Блэр.
– У вас столько возможностей, – сказала она. – Ведь, экспонируя современные работы, вы сразу же устанавливаете культурные стандарты. В будущем люди будут судить по выбранным вами предметам искусства, какими мы были, какой была наша жизнь, что мы ценили и что мы считали достойным сохранить для потомков. Мне кажется, это огромная ответственность.
Блэр покровительственно улыбнулась. Тара говорила слишком уж серьезно.
– Покровители искусства всегда устанавливали культурные стандарты, только сегодня у нас нет власти диктовать их. Сейчас именно художникирешают, что будет следующим на повестке дня. Мы даже не можем предсказать, что они создадут.
Но Тару занимала только одна мысль: как им удалось пройти почти по всему музею и не увидеть ни одной работы Леона?
Краем глаза она заметила балкон, нависающий над небольшим двориком. Когда она увидела бронзовую фигуру в центре, она чуть не расплакалась от облегчения.
– О, это наверняка работа Леона! – воскликнула она радостно. – Блэр, это действительно его работа? Мне отсюда не видно таблички. Она так напоминает обнаженную скульптуру, которую он сделал, когда ему было пятнадцать лет. «Весенний цветок» – так он ее назвал. Разумеется, эта более стилизована, но… – «Но эта бронзовая фигура все еще олицетворяет человеческий дух, – думала Тара. – Конечно, скульптура не так романтична, как «Весенний цветок», но все равно это Леон!»
– Леона? – Блэр тоже вышла на балкон. – Да нет, Тара, никакой это не Леон. Это стилизованная работа одного американского скульптора, который работал в то время, когда в Европе возникал модернизм, но учился он в Италии. Здесь уже сказывается влияние модернизма, но все равно эта скульптура – сущий пустяк. Вы же сами видите, этот скульптор – никак не могу вспомнить его фамилию – явно традиционен и декоративен. Скульптура находится здесь только по настоянию моей матери. Она не имеет ничего общего с другими предметами искусства в музее. Знаете, Тара, Леон никогда не сделал бы ничего такого сентиментального.
Блэр улыбалась ей снисходительной улыбкой.
– Разве может один и тот же художник быть автором «Вечности» со всей ее героической силой и такой ерунды? – продолжала Блэр.
Тара не знала, что сказать.
– «Вечность»? Не думаю, что я ее видела. А может быть, видела?
Блэр взяла Тару за руку и быстро повела назад через залы.
– Уверяю вас, вы эту работу видели, поскольку сидели рядом с ней, когда я вошла. Наверное, вы не узнали имя. Леон не разрешает устанавливать таблички с его именем, он просто гравирует свои инициалы в самом неожиданном месте. На «Вечности» они стоят на одном конце работы. – Она махнула рукой в сторону большого полотна, мимо которого они проходили, того самого, которое было покрыто стеклянной крошкой. – Называется «Огни города», автор Эйдриа Касс. Я недавно узнала, что Леон принимал самое непосредственное участие в ее создании. Обязательно когда-нибудь спросите его об этой картине. – Она провела Тару назад, в комнату для медитаций. – Здесь находится одна из самых известных его работ. Она принадлежит мне. Эта работа занимает такое важное место в творчестве Леона, что я всего лишь одолжила ее музею. Вы наверняка не могли не заметить еще одну его работу – при входе. Безусловно, Леон сегодня один из самых известных скульпторов, чьи произведения выставлены в нашем музее. Кроме того, – Блэр многозначительно сжала локоть Тары, – мы с Перри лично очень много в него вложили. – Она порхнула к стулу, устроившись на нем наподобие яркой бабочки.
Тара с недоумением оглядела восьмиугольную комнату. Темные полотна, церковные скамьи… Хоть она и чувствовала себя идиоткой, но вынуждена была спросить, заикаясь:
– Где же эта работа?
Блэр удивленно посмотрела на нее.
– Тара, радость моя, вы что, ослепли? – Она прошла в центр комнаты и пнула железный брус красным сапогом. – Господи, да тут никуда не пройдешь, не переступив через нее. – Она прошла вдоль бруса до конца. – Видите, тут его инициалы: Л.С. Обязательно расскажу Леону, что вы сидели рядом с его скульптурой и не узнали ее! Хотя вы с Кронаном так глубоко погрузились в медитацию… – Блэр добродушно рассмеялась, обняла Тару за талию и повела по комнате, чтобы показать ей скульптуру с разных сторон.
Тара послушно шла рядом. Наверное, я и вправду иду, думала она, мои ноги переступают одна за другой, и глаза мои видят, потому что я не спотыкаюсь ни обо что. Она шла в ногу с Блэр и смотрела на то, что вполне могло быть какой-то частью руин, частью когда-то великолепного здания, осколком скелета, некогда поднимавшегося к небу города, а теперь упавшего, мертвого и валяющегося посреди комнаты, подобно дереву, сраженному молнией.
Ее душу разрывал безмолвный крик. Так вот, что представляют собой героические работы Леона!
Она потуже завязала пояс пальто и начала натягивать перчатки, наблюдая за своими действиями как бы со стороны. Ты справляешься, похвалила она себя, ты даже улыбаешься. Теперь следует сказать несколько прощальных слов. Взгляни на часы, покажи Блэр, что опаздываешь. Что ты с удовольствием пообедала бы с ней, но даже не представляла, как уже поздно. Поблагодари за уделенное тебе время, показанные картины и скульптуры. Пожалуйста, попроси поблагодарить за тебя Кронана. Он был так добр. Тара как бы издалека видела свою руку, протянутую Блэр, приблизившееся к ее лицу лицо Блэр и ее губы, поцеловавшие воздух. «Наверное, я продолжаю что-то говорить», – подумала Тара, потому что Блэр кивает светлой головой. Теперь, вероятно, она снова идет, потому что слышит звук своих шагов по полу в холле.
Она уже осторожно спустила свое тело по лестнице, когда услышала за спиной шаги Блэр.
– Тара! – крикнула та с верхней ступеньки лестницы. – Когда приедете в Палм-Бич, пожалуйста, наденьте то потрясающее манто, которое подарил вам Леон. Я хочу, чтобы вы сфотографировались с нами в санях. Посмотрите! Вот еще одна работа Леона. Прямо перед вами. «Коврик с манией величия», я так это называю. Вы можете найти его инициалы вон в том конце.
Тара спускалась по гранитным ступеням с такой осторожностью, будто они были сделаны изо льда. Внизу она, как парализованная, остановилась около «коврика». Плитки были сложены произвольно, как детские кубики, из которых решили ничего не строить. Можно идти прямо по ним, можно обойти кругом. Она могла выбирать, но раздражало одно: эта «штука» лежала на ее пути. Сама идея почему-то казалась злобной. И она принадлежала Леону! Выкрашенные в яркий цвет металлические проволочки как будто указывали на нее обвиняющим пальцем: «Какой дурой можно быть?» – и блямкали в дружном согласии. Ей стало нечем дышать. Она пробежала по металлическим плиткам Леона и выскочила через вращающиеся двери на улицу. Порыв холодного ветра ударил ей в лицо. Она свернула на улицу, ведущую к парку.
Скульптура, которая заменила старую скамейку, на этот раз была пуста. Тара опустилась на огромный квадратный монолит и в изумлении уставилась на новое крыло музея в конце улицы. Она просидела так очень долго, не двигаясь, схватившись одной рукой в перчатке за конец «скамьи», как будто боялась, что если не будет держаться, то упадет. Сквозь тонкую кожу перчаток она ощущала инициалы, выгравленные на бронзовом монстре: Л.С. Когда наконец ей удалось встать, она их увидела.
Когда раздался звук поворачивающегося в замке ключа, Костас даже не взглянул на часы. После того как ресторан опустел и все прибрали, он почти на час задержал семейный ужин, но Тара не появилась, и они молча и быстро поели на кухне. Теперь вся семья спала на втором этаже. Один Костас сидел у большой печи на кухне, смотрел на часы, следил за огнем и методично вырезал круглый браслет, который он собирался подарить Кэлли на Рождество. Он слышал шаги по лестнице, ровные и неторопливые. Значит, ничего не случилось. Но он даже не вздохнул с облегчением – на это уже не осталось сил: ожидание опустошило его. Сначала пришел гнев – могла бы позвонить и предупредить, а затем навалился страх – что-то случилось и помешало ей позвонить. Теперь он только наслаждался звуком ее неторопливых шагов. Его первенец, его девочка, пришла поздно, но с ней все в порядке.
Но с ней далеко не все было в порядке. Костас понял это сразу, едва увидел ее. Он встал с кресла и подошел к печке.
– Я хотел сделать себе попкорн, – сообщил он. – Ты не присоединишься ко мне? – Он видел, как она медленно кивнула головой, осторожно, будто чужая, села за кухонный стол.
– Помнишь, ты любила есть попкорн в кино, когда была маленькая? – Голова Тары снова качнулась. – И тратила на попкорн все свои карманные деньги?
Никакой реакции.
Костас высыпал кукурузные зерна из мешочка на уже видавшее виды специальное приспособление и поставил его на маленький огонь. Через несколько минут зерна стали лопаться и появились первые белые цветы. Он весь сосредоточился на своем занятии.
– Знаешь, – сказал Костас, – многие спорят, из каких зерен лучше делать попкорн – из белых или желтых. Но все, у кого есть вкус, знают, что белые зерна лучше всего.
Тара подошла к его креслу и молча взяла в руки браслет.
– Это рождественский подарок для Кэлли. – Костас высыпал попкорн в миску и положил на сковороду масло, чтобы разогреть. – Когда я закончу черновую работу, я буду вырезать букву «К» по всей окружности и выделять ее бронзовыми гвоздиками. – Он вылил масло в попкорн и разделил его по двум посудинам. – Это хорошая комбинация, ореховое дерево и бронза, как ты думаешь?
И снова увидел, как качнулась голова Тары вниз и вверх.
– Ты же археолог, так вот я читал где-то, что твои коллеги нашли в Мексике окаменевший попкорн, они думают, он из каменного века. Ты об этом слышала?
Тара отрицательно качнула головой.
Костас протянул ей миску с попкорном.
– В моем попкорне ты не найдешь «старых дев». Эти электрические машинки оставляют нелопнувшие зерна на дне сковороды. – Он сел в свое кресло и снова принялся вырезать. – Где ты была, Тара?
– Гуляла.
– Где?
– Повсюду.
– Ты знаешь, сколько сейчас времени?
Еще одно качание головой.
– Ты ела?
Никакой реакции.
Нож Костаса срезал тонкую деревянную стружку. К попкорну никто не прикоснулся.
– Тара? Где ты? Девочка моя?
И она оказалась там, где и была с самого первого момента своей жизни, – у него на коленях, уткнувшись головой ему в грудь и поливая слезами его рубашку. Ее хрупкое тело сотрясалось от рыданий.
Костас долго держал свое любимое дитя в объятиях – пока она не успокоилась, надеясь всем сердцем, что ему никогда больше не придется держать ее вот так, в горести и печали – пусть они минуют его дитя.
– Я заблудилась, папа. Я заблудилась, – услышал он ее шепот.
Глава двадцать вторая
– Знаешь, я вовсе не рвусь колотить по тебе что есть мочи, но ты должна стать кожей вон того парня, так что хочешь не хочешь, а придется.
Леон поднял молоток, потешаясь над своей неохотой колотить по прекрасному листу меди. Он застыл, подняв молоток, изучая лежащий перед ним материал. Медь. Она пульсирует цветом и светом. Но она подает и более мягкие сигналы: можно добиться чувственных поверхностей, изящных изгибов, тонких рисунков. Ему так не хотелось выколачивать эту красоту к чертям собачьим. В эти дни он чувствовал себя слишком счастливым, чтобы выколачивать что-либо к чертям собачьим.
Леон всегда чувствовал себя ожившим после физических усилий, которых требовало его искусство, как будто какая-то движущая сила, заложенная в нем и использованная до конца, приносила ему облегчение. Но за последние несколько недель он опустошил свой внутренний резервуар энергии. Леон не знал, да и не хотел знать: то, что он потерял, был его гнев. Он только понимал, что в последнее время не может собраться с силами для тех физических усилий, которые требуются для выполнения заказа, и что каждую ночь он внутренне сопротивляется этим усилиям. Металл и железо – не глина, они требуют специальных инструментов и агрессивности: молотков, огня и мускульной силы, чтобы придать им форму. Некоторые из его современников просто собирают свои творения, но Леон придавал форму, резал, сваривал и травил металл кислотой; он сражался со своими материалами, менял их форму против их воли. И всегда побеждал. Когда он заканчивал работу, они оказывались абсолютно преображенными, потому что полностью поддавались его воле. Уже больше десяти лет он наслаждался этой битвой. Самые престижные учреждения в стране и самые выдающиеся люди платили миллионы за результаты этих битв с неодушевленным материалом. Решив, что стоит выпить пива, Леон пошел к холодильнику, так и не нанеся первого удара.
С медью он работал впервые, и, совершенно непонятно почему, ему захотелось сделать эту скульптуру одному. Он позвонил своим постоянным помощникам и объявил, что с сегодняшнего дня предоставляет им оплаченный отпуск на две недели – рождественская премия, так он сказал. На самом же деле ему хотелось разобраться с этим очаровательным металлом один на один. Для всей своей предыдущей работы он использовал металлы попроще, так что тяжелые удары и визг резки, сопутствующие процессу трансформации, а также звуки тяжелого рока вполне соответствовали оглушительной битве, происходящей в его мастерской. Но даже если он работал с нержавеющей сталью, он и его рабочие выбивали из нее жизнь и покрывали поверхность ржавчиной. Его искусство не могло быть декоративным.
Но вчера, когда он отправился подыскивать материал для работы, заказанной корпоративным клиентом в Калифорнии, этот лист меди привлек его внимание. Не зная почему, он решил придать листу извилистую форму, а не резко угловатую, что было ему свойственно. Кроме того, он решил усилить его естественный цвет и свечение, превратив их в сияние. Он только знал, что ему захотелось заставить эти листы металла дышать и что добиться этого он хотел в одиночестве. Еще он знал, что, когда вещь будет закончена, он обработает ее так, что она не будет ржаветь. Она будет сиять вечно. Установленная около корпоративного горного озера, расположенного высоко над Тихим океаном, она будет напоминать планету, спустившуюся с небес, этакая космическая игрушка из далекой, сверкающей галактики – подарок бедной Земле.
Леон поставил пиво и снова поднял молоток. Первый удар должен быть нанесен сегодня. Так что незачем тянуть…
– Привет, Леон.
– Тара! – Радостно изумленный, он так и остался стоять с поднятым молотком. Положив молоток и сняв рукавицы, он быстро направился к двери, где она так внезапно появилась, и сгреб ее в объятия. – Что ты здесь делаешь? Ведь уже… – Он взглянул на часы на стене, – два часа ночи. Разве ты не должна быть в постели? – Его глаза потеплели. Он ввел ее в огромное складское помещение, которое служило ему мастерской. – Или ты пришла сюда, чтобы затащить меняв постель? Как ты сюда попала?
– Папа привез меня на такси.
Леон шагнул к двери.
– Так надо пригласить его войти!
– Он уже уехал. Когда мы увидели в окнах свет, мы поняли, что ты здесь. Вот я и попросила его уехать.
Наконец он заметил ее неподвижное лицо и распухшие глаза и снова обнял ее.
– Что случилось? Скажи мне! Дорогая! В чем дело?
Тара смотрела на него так, будто видела впервые.
– Ты понимаешь, что я явилась в твою студию без приглашения?
– Ах, – усмехнулся он, – пришла так пришла. Добро пожаловать в мою студию.
– Ты помнишь, что просил меня подождать до открытия нового крыла музея Харрингтона, чтобы показать свои работы?
Уголки рта Леона опустились, лицо стало мрачным и озабоченным.
– Да, конечно, я помню, но, если что-то произошло, я хотел бы, чтобы ты отыскала меня, где бы я ни был.
Тара начала ходить по студии. Помещение было завалено металлом, железом, проволокой, сварочными аппаратами, клещами… Отец убедил ее, что необходимо немедленно поговорить с Леоном о его работе, узнать обо всем в подробностях. Иначе, сказал он, ее выводы будут слишком эмоциональными и могут оказаться скороспелыми и несправедливыми. Если Леон ей дорог, она не должна этого допустить. Прежде всего нужно узнать, почемуон занимается именно таким искусством.
По стенам двухэтажного помещения были развешаны фотографии и газетные вырезки. На одном журнальном развороте Леон был изображен в компании ухмыляющейся манекенщицы в купальнике, стоящей на куске железа, который, как Тара теперь знала, величается «Вечность». Она никак не могла понять, почему Перри Готард назвал такое творчество героическим. Именно такое описание работы Леона ее изначально запутало. Другие манекенщицы, все в купальниках, выстроились вдоль бруса. Они явно использовали его в качестве подиума для показа моделей. Среди других фотографий ей попалась на глаза фотография руин храма Афины в Дельфах. Текст под фотографией гласил: «Я определяю красоту как гармонию всех частей, о чем бы ни шла речь, соединенных вместе в такой пропорции, что ничего не может быть добавлено, уменьшено или изменено, чтобы не навредить. Леон Батиста Альберта, Италия, 1480». Внизу, тем же почерком, что и заметки на полях статьи Димитриоса, стояла подпись: «МоемуЛеону с любовью. Мама». Тара повернулась к нему лицом.
Леон молча наблюдал за ней и ждал.
Горло Тары свела судорога, поэтому она с трудом могла говорить.
– Сегодня в музее я видела эту вещь под названием «Вечность», – прошептала она. – И я знаю, что надпись под фотографией Храма Афины сделана тем же самым почерком, что и заметки на полях журнала со статьей Димитриоса.
– Понятно.
– Ты обманул и свою мать, и меня. Не могу понять, зачем тебе понадобилось это вранье. Но в данный момент меня больше интересует, не обманываешь ли ты сам себя. В Греции, когда мы с тобой познакомились, мы говорили о классическом искусстве и искусстве эпохи Возрождения. В студии Дорины, как я теперь поняла, ты говорил о своем собственном абстрактном искусстве. Где же твое сердце?
– Мое сердце отдано тебе. Я же уже говорил. – Он взял бутылку с пивом и начал пить.
– Но мое сердце с этим. – Она показала на фотографию храма Афины в Дельфах. – Ты не можешь любить нас одинаково! Или ты любишь это искусство и меня, или ты любишь свой вариант искусства, но не меня. Разве не так?
– Это правда, Тара. Я не люблю всего того, что делаю. Я люблю только тебя.
– Тогда зачем ты делаешь эти вещи?
– Они продаются.
– Ох, Леон. Туфли тоже продаются. Зачем ты тратишь время на такое искусство?
– Я трачу время как раз потому, что оно абсолютно ничего для меня не значит. Я его не люблю.
Чем больше Таре хотелось закричать, тем тише она говорила.
– Тогда почему ты не занимаешься искусством, которое любишь?
– Потому что оно не продается! – Леон расхохотался. – Разве не ясно? – Он почувствовал, что что-то внутри него оживает. Гнев. Все вернулось. Теперь он сможет работать. Он схватил молоток и начал выколачивать из листа меди красоту к чертям собачьим, выбивать слова, смех и движение – все сразу. – А еще важнее, что работа, которую я люблю, пардон, которую я любил, не продается, потому что она нереальна. Тот вид искусства, который любишь ты, Ники, Дорина, моя мать, который любил и я, он не реален. Для него нет места на этой Земле. Оно слишком хорошее, слишком красивое и слишком… Оно невозможно здесь.
Тара схватила его за руку, чтобы остановить.
– Леон, ты ведь не хочешь сказать, что такое искусство невозможно.Ты хочешь сказать, что оно не идеально.И если не здесь, на земле, тогда где же, Леон?
Он покачал головой и продолжил стучать молотком.
– Если не здесь, то где оно возможно? – настаивала она.
– Оно невозможно нигде. Идеал – всего лишь детская романтическая фантазия. В теории все хорошо, но практически…
– Скажи, счастье возможно?
Острая боль пронзила его виски. Он бросил молоток на рабочий стол и закрыл глаза, ожидая, когда боль пройдет. Затем взял Тару за руку и заставил сесть рядом с собой на пол. Посмотрел на нее уверенным взглядом.
– Я думал, что невозможно, – пока не встретил тебя.
– Леон, я бы не ощущала себя такой обманутой, если бы не видела твоей ранней работы или того наброска, который ты сделал в студии Дорины. Или если бы я не бывала в твоей квартире, если бы не спала с тобой, если бы по-настоящему не была с тобой. Ты никогда не сумел бы сделать «Весенний цветок» даже подростком, если бы не был в сердце своем глубоко положительным человеком. Я это знаю! Я видела выражение твоего лица в Национальном музее в Афинах, когда ты смотрел на «Посейдона» и другие греческие скульптуры. Я поверила не только твоим словам, я по твоим глазам видела, что твое восхищение ими подлинное. И ты так хорошо знаешь Древний мир: человек не может обрести такие знания случайно. В смысле, такое не подцепишь из телевизионных передач! Что должно было произойти, чтобы ты отверг свои идеалы, свои надежды, свои мечты, все, что так сильно любил?
– Когда мне было шестнадцать лет, я влюбился в девушку, она позировала мне. Так вот, она оказалась школьной потаскушкой.
– Не годится, Леон. Каким бы тяжелым испытанием для тебя это ни было, одного этого мало, чтобы заставить тебя бросить такие работы, как «Весенний цветок», и производить на свет эти мертворожденные куски металла. Меня огорчает, что твое искусство абстрактно, но некоторые абстрактные полотна и скульптуры, которые я видела в музее, по крайней мере могут похвастать гармонией и дизайном. В них есть жизнь, во всяком случае, в композиции, если не в содержании. Ты же просто придаешь мертвому материалу другую форму. Не заметить твои работы нельзя, они слишком большие. Требуется обойти их или пройти по ним. Они всегда на пути.
Леон рассмеялся. Безобразный смех раздвинул его губы в такой угрожающей гримасе, что Тара вскочила на ноги и в ужасе уставилась на него сверху вниз. Он потянулся к бутылке с пивом, допил его и отправился к холодильнику за другой бутылкой.
– Ты ошибаешься, – сказал он. – Можно не обращать на них внимания. И нужно не обращать. Но все на них смотрят. Мое искусство для меня – шутка, для них – товар. Это они дураки,не я. Онилазят по лестницам, чтобы их увидеть, ониже обходят их кругом, чтобы не запачкать грязной обувью. Им не нужно искусство, они жаждут театрализованного представления, чего-то, о чем можно написать, о чем можно посплетничать на вечеринках. Я даю им такое искусство. Один критик годами называл меня Infant Terrible [8]8
Infant Terrible (франц.)– ужасный ребенок.
[Закрыть]искусства. Ему глубоко плевать на то, чем я занимаюсь. Он обожал меня, потому что я был тем хулиганом, который обеспечивал ему крупные заголовки и создал репутацию. Но что они дали мне взамен? Их независимое суждение. Почему бы это? Да потому, что того стандарта, в соответствии с которым можно было судить, уже не существует. Кто такой художник в наше время, позвольте спросить? Да любой, кто утверждает,что он художник, и может заставить нескольких влиятельных персон ему поверить. Курам на смех! Почему бы мне не заработать на таком обществе? Есть люди, которые все еще верят, что искусство что-то значит. Некоторые пустоголовые даже полагают, что куча конского навоза что-то значит, если ее отлакировать и перенести в галерею или музей. Но я по крайней мере честен с собой. Все, что я делаю, – чушь собачья! Шутка!
– Над кем, Леон? – Тара подошла к изображению «Вечности» в журнале. – Ты выбрал себе квартиру, свой дом, чтобы тебя могли вдохновлять твои любимые здания, и тут же делаешь этот брус и называешь его «Вечность». Это смешно?
– Это же метафорическая работа, иронизирующая над правдой, ускользающей каждый день. Наши жизни слишком быстротечны, в них нет подлинного смысла, и, в конце концов, все, что от нас останется, – это детали, отдельные элементы, болты и гайки, вроде этого моего бруса.
– Леон! Как насчет идеи,которая заложена в твоих любимых зданиях? Как насчет человеческого разума, который способен создать такое великолепное произведение, как Эмпайр-Стейт-билдинг или Крайслер-билдинг, на которые ты не устаешь любоваться всю жизнь? Если человеческая жизнь бессмысленна, то как тогда ты можешь ценить меня? Это же все равно, что сказать, будто ты ценишь, любишь только мои кости, поскольку это то, что от меня останется надолго. Ладно, проехали.
Тара снова опустилась на пол.
– Понимаешь, я вообще-то на тебя не злюсь. Я сама виновата, что так поспешно позволила себе эти отношения с тобой. И ты прав. Меня никогда не интересовали археологические находки в Греции сами по себе. Я была влюблена в греческий дух. Греция – страна, где обретается моя душа. Америка – мой политический дом, но мой самый глубокий духовный опыт связан с Грецией. Разумеется, не в мистическом смысле. Я не верю, что духи людей, создавших Древнюю Грецию, все еще среди нас. Но они были настоящими гигантами. Мне нравится бывать там, где когда-то жили они. Я чувствую прилив внутренней энергии, просто когда ступаю по тем же ступеням, смотрю на то же море, пытаюсь относиться к миру и человечеству так, как относились они. Кроме этого, я испытываю восторг еще от одной вещи – любви. Для меня искусство и секс – две самые священные вещи в мире, поскольку каким-то образом они являются квинтэссенцией жизни. Вот почему я не могу смириться с тем, что должна любить человека, чье искусство меня оскорбляет. Разве ты не понимаешь? Наверное, мы оба совершаем какую-то огромную ошибку, но по-разному. Ты считаешь, что идеал невозможен, поэтому ты отказался от борьбы за то, чтобы сделать его реальностью, и вместо этого занялся сатирой на этот идеал. Я же считаю, что идеал возможен, но раз он не является передо мной в готовом виде, я погружаю себя в мертвую цивилизацию, которая тоже верила в его возможность. Но, похоже, мы оба исходим из посылки, что здесь и сейчас идеал невозможен.








