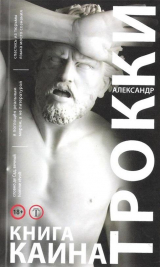
Текст книги "Книга Каина"
Автор книги: Александр Трокки
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
– Джео, ты мне на пять баксов должен. И где это дело? – подал голос Лу от посудной сушилки, где он стоял. Из-за того, что Лу уставился на Джео, лезвие замерло над кучками лежащего на зеркале порошка. Я заметил вспышку раздражения, сверкнувшую в жёлтых глазах Фэй.
– Лу, отсыпь мне ширева в эту ложку. Попозже себе оттуда возьмёшь, – сказала ему она.
– Хули ты творишь! – взбрыкнул Джео на Лу. – Я сгонял. Я подписывался на треть. Сколько я тебя подогревал?
– Хорош пиздеть, – перебила Фэй, толкая Лу локтем. – Вот ложка. Приступай. Джео, ты бы не мог на минутку заглохнуть?
Лу стоял над раковиной, глядя теперь даже не на Джео, а вниз и никуда, улыбаясь фирменной улыбочкой.
– Привет, Гарриет, привет, Джо, – сказала Мона. Мы все скучились в углу помещения (нечто среднее между коридором цокольного этажа и длинным подвалом), которое служило кухней, возле плиты и возле раковины. Потом, поскольку она лично ширяться не собиралась, недоуменно переводила взгляд то на одну, то на другую рекламу, которую Лу пришпилил по стенке. Девочка говорила мамаше: «Мам… ты не могла бы сделать так, чтобы когда Джон придет, папа посидел наверху?»
– Слушай, деточка, – обратился Джео к Фэй. – ты мне так и не отдала фасовку на десять баксов. А что с теми тремя долларами, которые вчера одолжила?
– Что бы он ни говорил, к делу не относится, – произнес Лу из-под своей улыбки.
Фэй хрюкнула, нагревая ложку над газовой горелкой.
– Ох уж ваша арифметика, – сказал, выбирая пластинки, Вилли.
– Дай ещё чуть-чуть, – попросила Фэй, – а то я даже не почувствую.
– Чёрта с два не почувствуешь! Баян грязный! – ответила Джоди.
Мона тихо шаталась из угла в угол комнаты, потом села и развернула журнал. Джео равнодушно проводил её взглядом и обратился ко мне со словами:
– Попроси, чтоб эти гондоны от меня отцепились!
– Мужик, тебе ж было сказано, я не хотел бы чтоб вы все сюда заваливались, – сказал Лу Джео. – Превращаете хату в бардак.
– Ну и что? – оскалился Джео. – Ты говоришь, я не в кассу? А сам сколько раз у меня на хате зажигал?
– Заткнись на минуточку, Джео, – сказал я. – Ради Бога, Лу, если ты следующий ширяться, давай, готовь.
– Точно, – влезла Джоди. – Лу следующий на укол, если Фэй в конце концов перестанет дуплить.
Густая, тёмная пурпурно-красная кровища Фэй поднялась в пипетку и упала вниз, словно столбик кровавой ртути в барометре. Обломавшееся с произнесением словцо брызнуло из угла ее синюшного рта в выпаде нечленораздельного негодования – чего? Обвинять Фэй? – веки закрылись, она залопотала: «по-моему… вроде… не… попала…»
– Ага, фигня получилась, Фэй, ты поранилась, – сказал я.
– Решила устроить Лу переливание крови, – влезла Джоди.
– Какая у тебя группа крови, Фэй? – спросил Лу.
– Кто-нибудь здесь знает, сколько времени? – произнесла из своего угла Мона. Чтоб Джео отвязался, я пообещал ему с ним поделиться. Вдохновленный моим великодушным жестом, он последовал моему примеру и сообщил Моне, что времени десять минут третьего.
– Я поделюсь с Вилли, – сказал Лу.
Гарриет вынула из кастрюли с горячей водой бутылочку для малыша и брызнула струйкой молока себе на запястье попробовать. Ребенок охотно взял соску.
– Опочки! пусть приучается! – заметил Вилли.
Мы все, за исключением Моны, вмазались.
– Почему ж её-то ты не ширнул, Джео?
– Не. Она это не употребляет, – нарочито уважительно отвечал он, вроде как это само собой разумеется.
Прибыл Том Тир с обиженной рожей и начал выяснять: не осталось ли геры. Лишь одна Фэй оставалась счастливой обладательницей, и она отреагировала в непонятной и неповторимой манере, типа того что со вчерашнего дня заначили, а впоследствии нашлось. Мне всегда казалось, что в манере Фэй разговаривать кроется своеобразное беззлобное вероломство, хотя она редко сильно старалась прикрывать своё враньё, компенсируя это своё нахальство дополнительным нахальством и незамедлительным переходом к наездам – чего? Обвиняешь Фэй?
Вспоминаю Мону несколько часов спустя. На её терпеливость трудно было пожаловаться. Или нетрудно. Хотелось сказать ей: «Джео вмазывался час назад? По-твоему, проявлять терпение – это такая великая, чёрт возьми, добродетель?» Но Мона бы улыбнулась в ответ, почти так же (не)двусмысленно, как её тёзка из Лувра, своей кривой улыбочкой, встревожено, нисколько не осуждая. Она, наверно, и сама бы ширнулась, если бы не стояла горой за Джео. Он напоминал мужа, защищающего жену от оскорблений. Тыченевидишьтутжеженщины?
Джео адресовался к Лу в тертуллиановом духе:
– Я к тому, что мне до фонаря, если ты возьмешься доказывать, что я сволочь. Ты врёшь!
И Мона произнесла на всю комнату:
– И разве он не сумасшедший?
Гарриет сохраняла спокойствие.
– Я так понял, ты говорила, у тебя по нулям, – говорил Том Фэй.
Фэй промолчала. Колдуя по тихому над раковиной, словно замешивающий свои снадобья д-р Джекилл, она несомненно надеялась незаметно уколоться по второму разу. Поднесённая к ложке её рука со спичкой дрожала.
– Ё-моё! – произнес Том, взывая к союзникам.
Фэй продолжала молчать. Она набрала раствор в пипетку.
– Фэй, не жмись, дай хоть немножко!
– Оставлю тебе чуток в ложке! – буркнула Фэй.
Том оживился, как это с ним иногда случалось.
– Чувак, я знал, у тебя всё получится! – хмыкнул Джео.
– Джео, отвали! – отвечал Том.
– Он прав, Джео, – сказал Лу, и его веки тут же затрепетали, едва он встал, склонившись над раковиной. – Ты – назойливый козлодой.
– Джео, я пошла, – объявила Мона, – доеду на такси, всё нормально, тебе не обязательно подрываться. Если есть желание, оставайся.
Джео, кажется, расстроился:
– Солнышко, тебе что, трудно подождать ещё полчасика?
– Разумеется, – страдальчески кивнула Мона. – Просто в это время вечером поезда раз в час ходят. Да ты и сам знаешь.
– Понятно, – сказал Джео, – но я тебя в любом случае до станции провожу.
– Вместе слезаешь, вместе зависаешь, – непонятно к чему высказался Лу, продолжая раскачиваться.
В дверь постучали.
– Минуту подождите, Господи, посмотрю, кого принесло! – произнес Лу, подходя к двери. Том аккуратно вытащил из вены машинку, промыл её водичкой и закинул к ножам с вилками.
– Кто там? – громко вопросил Лу, навалившись на дверь плечом.
– Считает себя Горацио на страже моста[31], – заметил Джео. – Если это мусора, они его затопчут. Знаешь, когда меня принимали, вломились с пушками, а я стою со своей ебаной ложкой. Мне бы вместо неё огнемёт!
– Заткни свою жирную пасть! – шикнул Лу.
Голос снаружи представился: «Этти!»
– Ништяк, Лу, это Этти, – сказала Фэй.
– Твою мать, Этти! – возмутился Лу. – Не квартира, а «Гранд-Централ». Не хуй сюда толпами шататься.
– Фэй у вас? – попел голос.
– Впусти её, чувак, – сказала Фэй. – У неё, может, ширево при себе.
Этти зашла.
Этти звали худощавую негритянку, проширивавшую в день десять пятибаксовых фасовок. Одно время она звала нас с Джоди перебираться к ней. Этти толкала все подряд: шмотки и прочие пизженные дорогие вещи, торч, собственного производства худосочные отбивные, и в придачу вовсю пользовалась мозгами и телами своих друзей.
– Вчера вечером поцапалась с мусором, – было дело, рассказывала она нам с Джоди, раскрывая на кровати клеенчатый пакет и доставая пол-унции отвратительно разбодяженного героина. – Засранец облапал мне ногу прямо до самого не балуйся. С этим можно иметь дело. Я этому парню покажу!
– И она туда же, – сказала мне Джоди.
– Он же тебя мог за жопу укусить, – заметил я Этти.
Этти звала нас с Джоди перебираться к ней. Джоди пускай опять мужиков снимает, а я буду типа за старшего.
– И весь герыч твой, и никакого блядства.
– Ты про меня? – сухо полюбопытствовала Джоди.
– Куколка, про тебя я молчу. Ты, в конце концов, кто у нас? Идеалистка? Сама прекрасно сечёшь, Джоди, чё те надо делать. Надо выжимать сколько можешь из своих розовеньких жиртрестиков. Прямо как в Греции.
– Прикалываешься? – сказала Джоди.
– Малыш, блядством всяким страдаешь как раз ты, – обратился я к Этти. – Шляешься целыми днями по городу, а всякий стрём дышит тебе в спину.
– Да хоть в вагину, милый, лишь бы не приставал, – ответила Этти.
– Это что? – на сей раз спросила Этти, когда вошла. – Никогда не видала, чтоб в одну комнату набилось столько отстоев. Видела б меня сейчас мамочка! Эй, привет, Джоди! Ты не убилась?
– Джо со мной поделился, – сказала Джоди. – Но у меня с собой нет. У тебя есть при себе торч, Этти?
– По-твоему, я тащилась через полгорода лишь бы перепихнуться? – Этти развернулась к Лу, который запирал за ней дверь. – Не против, если я прям здесь поправлюсь?
Лу колебался. Я понимал его. Ему хоть магазин открывай. Наконец, он решился:
– Давай, только поделишься.
– Организуем, – кивнула Этти, и через несколько секунд неправдоподобно стремительных манипуляций с ложкой и пипеткой она уже ощупывала иглой свое худое чёрное бедро.
Джоди пристроилась к ней.
Вытащив иглу, она взглянула на Джоди, заявив:
– Я понимаю, что сейчас начнётся, и ответ «нет». Для начала верни десятку, которую на прошлой неделе брала. Лу, вот я тебе оставила.
Она показала на кучку порошка в ложке.
Гарриет, пожав плечами при появлении Этти, успела лечь в постель, где теперь и находилась, играя с малышом. Вилли вытянулся рядом с ней.
Фэй бурно дискутировала с Джео. Мона, с чопорным видом устроившись на стуле, неодобрительно осматривалась.
– Слушай, у меня всего один никель из бабок, – втирал Джео Фэй.
– Всем чего-нибудь да надо, вот скажи теперь так, – заметила Этти.
Лу, который вмазался по второму разу, продолжал качаться над раковиной, а пипетка с иглой так и торчали у него в правой руке.
– Ох ты, Господи, Этти! – убеждала Джоди. – Завтра у меня будут бабки, честно!
– Спроси у неё, – говорила Фэй Джео. Она подразумевала Мону.
– Послушай, Мона, не одолжишь мне на сегодня десятку, а я тебе с той тридцатки отдам.
– А мы разве не собирались покупать костюм?
– Не забудь, ты мне никель должен, Джео, – произнес Лу, раскачиваясь с закрытыми глазами.
– Сдался тебе костюм, – сказала Фэй Джео.
Я смотрел на Мону. Она же достала из бумажника десятидолларовую банкноту. Джео взял её и строго сказал Фэй:
– Не понимаю, вообще-то, с чего ты так разошлась. Даже молчу, что я с тобой делился.
– Я притащила её сюда, – ответила Фэй.
Ты притащила её сюда, – передразнил Джео.
– Всё правильно, так и было, – вмешалась Этти и развернулась обратно к Джоди. – Радость моя, не въезжаю, с чего ты решила, что твой орган между ног – такая большая ценность. Просто лежишь пластом, а тем временем у тебя даже десятки нет, на что поправиться.
– Ну да, всё не так просто, – сказала Джоди. – Смотри, Этти, завтра…
– Все, я пошла, Джео, – объявила Мона.
Джео пытался заткнуть Джоди:
– Не могла б на секунду заглохнуть? – Потом к Этти: – Сколько за пятнадцать? Шестнадцатая?
– Не знаю ни про какие шестнадцатые, – отрезала Этти. – На пятнадцать берёшь три фасовки по пять баксов.
– Ой, только не надо тюльку мне вешать! – возмутился Джео. – Я сам могу сгонять в город и взять полную шестнадцатую!
– Я добиралась из центра, – сказала Этти.
– Она права, Джео, она как раз оттуда, – вмешалась Фэй.
– Не собираюсь брать никаких пятибаксовых фасовок, – высказался Джео. – Попозже затарюсь.
Он отвернулся от Этти, и Мона сказала:
– Я ухожу, Джео. Если ты провожаешь меня до станции, пошли сейчас.
Джео подумал и решил:
– Хорошо, малыш, пошли сейчас. До скорого, – попрощался он с остальными.
– Эй, Джео, тормозни на минуту, – сказал Лу, очухиваясь от коматозного состояния. – Только оставь мне десюнчик. Я на него возьму.
– Ты действительно возомнил, что я тебе должен десятку, так что ли, Лу?
– Чувак, кого ты пытаешься наколоть? – поинтересовался Лу.
– Хорош, – сказала Фэй, – ты должен ему десятку. Она нам нужна. Вот и отдай ему.
– Можно побыстрее, и дверь за собой закрыли? – закричала Гариетт из кровати.
Мона уже очистила помещение.
Лу хмыкнул, и внезапно его лицо приобрело дружелюбное выражение:
– Знаешь, Джео, вечно пререкаться – не обязательно. – Один хрен, ты ни разу не вышел победителем.
Сверля Фэй взглядом, Джео вручил Лу пятидолларовую бумажку.
– Не знаю, – произнес он, выходя.
– Вот ублюдок! – сказала после его ухода Фэй.
– Пошла на хуй, Фэй, – с улыбкой посоветовал Лу.
– Она права, – подал голос Том. – Джео иногда что-то слишком залупается.
– Это есть, – ответил Лу, – но он ни разу не зажал тебе ширево.
– А мне часто зажимал, – с презрением вспомнила Фэй.
– А ща моя очередь зажать, деточка, – сказала Этти. – Теперь, никто не возражает, мы займемся делом? Мне надо быть на 125-й через час.
– Поделишься фасовкой, а, Лу? – спросила Фэй, мгновенно переместившись к раковине.
– Договорились, – согласился Лу и отдал Этти денежку. – Не хочешь чуток, милая? – предложил он Гарриет.
– Да, оставь мне чуточку, – сказала она. Она играла с тонкими волосиками ребёнка.
– Чистый шёлк, – сообщила она Вилли.
– Ты берёшь, Джо? – обратилась ко мне Джоди.
– Возьму фасовку, разделим, – пообещал я ей.
– С половины её фасовки ни фига не будет, – кисло буркнула Джоди.
Я не ответил. Я решил заныкать десятку, чтобы не обламываться на барже.
Поделил пакетик надвое и вмазал свою долю. Мы втроём задвинулись одновременно, каждый действовал тихо и целеустремлённо. Каким-то макаром Том выцыганил чуток, Вилли тоже. Едва я вытащил шприц, его перехватила Джоди.
– Ну как, я тебе в пятницу позвоню? – спросила у Лу Этти. – Буду где-то в окрестностях.
– Да не стоит, – сказал Лу.
– Почему бы тебе ко мне не зайти? – предложил Том.
– Примерно во сколько?
– Примерно в девять.
– Всем до скорого, – сказала Этти, – а ты, ребёнок, ты бы слушала, что мама советует, – обратилась она к Джоди, перед тем как сваливать.
Гарриет неслышно появилась у раковины, и Лу ее уколол. Они вместе ушли ложиться.
– Вы, народ, постарайтесь побыстрее рассосаться, хорошо? – сказал Лу остаткам нашей компании.
Джоди резко поднесла руку к губам и уронила баян обратно в стакан с водой.
– Ты сейчас куда, Джо? – спросила она. – Можно с тобой?
– Не стоит, малыш. Я обратно на Перт-Эмбой.
11
На этот раз я знаю, что сделаю. Сегодня уже не давний вечер, не недавний вечер. Сейчас начинается игра, я буду играть. Я никогда не умел играть, теперь умею. Всегда страстно хотел научиться, но знал, что это невозможно. И всё же часто пытался. Зажигал свет, осматривался, начинал играть с тем, что видел. Люди и неживые предметы ни о чём больше не просят, только бы поиграть, как и некоторые животные. Сначала игра шла хорошо, ко мне приходили люди, довольные тем, что кто-то с ними поиграет. Если я говорил: «А теперь мне нужен горбун», – немедленно прибегал заносчивый горбун, гордящийся своей неотъемной ношей, готовый участвовать в представлении. Ему и в голову не приходило, что я могу попросить его раздеться. Но проходило совсем немного времени, и я оставался один, в потёмках. Вот почему я отказался от игр и пристрастился к бесформенности и бессловесности, к безличной заинтересованности, мраку, бесконечным блужданиям с протянутыми в темноту руками, к потаённым местам. Скоро исполнится уже век моей серьёзности, уклониться от которой я был не способен. Но с этой минуты все изменяется. С этой минуты я буду только играть, не буду делать ничего другого. Впрочем, не следует начинать с преувеличений. И всё же: значительную часть времени я буду играть, начиная с этой минуты, большую часть времени, если смогу. Но, возможно, с таким же успехом, как и до сих пор. Вероятно, как и до сих пор, я обнаружу, что покинут и нахожусь в потёмках, без единой игрушки. В таком случае я буду играть с самим собой. То, что я способен придумать всё так отлично, ободряет.
Самуэль Беккет
Интуитивно, я всегда находил странным всеобщее стремление предпочитать мясника Авеля землепашцу Каину.
В то время как Каин возделывал землю, Авель взращивал для заклания тучных и стремительно приумножающихся овец. Каин принес Богу жертву. Авель подмастил своими дрожащими жирными телятами. Спрашивается, кто предпочтёт жидкую похлебку супу с мозговой костью?
И вскоре Авель обзавелся многочисленными стадами и бойнями, оснащенными кондиционерами воздуха, складами с мясом и мясоперерабатывающими заводами, а поля Каина приходили в упадок. И это называлось грехом.
Каин стоял и смотрел, как умирают его поля. И лопата в его руке была бессильна предотвратить это. И надо было случиться: Авель проходил там, куда Каин нёс лопату, по земле, где должно расти зерно, а не пастись овцы.
И Авель узрел брата своего, и был тот худ и умирал с голоду, и бесцельно сжимал лопату в руке. И Авель приблизился к брату, молвив: «Почему б тебе не перестать тормозить и не пойти работать на меня? Мне нужен опытный человек на бойне.»
И Каин убил брата.
Если я скажу вам: «Люди, живущие в стеклянных домах, не должны кидаться камнями», будьте осторожны.
В прошлую ночь я заснул над этим текстом. Когда этим утром около восьми я проснулся, то выяснилось, что я иду последним в караване из четырёх барж, движущемся в тумане, подобно кораблю-призраку. Я говорю «четырёх», потому что столько нас было вчера вечером. На самом деле, я даже не мог разглядеть впереди идущую посудину. О том, что мы плывём, я судил по коричневым морщинам на воде, скользившей за моим мостиком словно кожа. Я вышвырнул за борт пустую банку. Несколько секунд она побултыхалась в брызгах за кормой, а затем, словно унесённая невидимой рукой, пропала из виду. Мне кажется, я мог видеть всё на расстоянии пятнадцати футов от себя в любом направлении. После этого очертания предметов стали неотчётливыми и в то же время зловещими, словно стремительное движение на воде деревяшки, которая несколько минут до этого мирно качалась на волнах.
Всё этим утром пропиталось сыростью: сигареты, бумага, на которой я пишу, дрова, которыми я разжигал огонь, чтобы сварить кофе, и сахар. Я чувствую сырой запах от себя, дров, смолы, джинсов, упорно липнувших к бёдрам.
Где-то прогудела туманная сирена. Трудно было определить, откуда она подает сигналы. Вокруг меня вода и неожиданно возникающие жёлтые хлопья тумана, и где-то там, словно для меня одного, воет туманная сирена. Уже взошло солнце, но дымка на воде ещё не рассеялась, и земли не видать. И вдобавок баржа очень медленно ползёт по реке.
Я три дня простоял у каменоломни, пока меня не загрузили. Цементники бастуют, поэтому подрядчики с неохотой берут запасы камня. Когда подходишь к месту разработок, строения на зелёном холме похожи на скелет гигантского серого насекомого, сумрачно поблескивающего на солнце. От солнца на док ложились тени: конторы, склады, кожух вала длиннющей транспортирной ленты для камня тянулись к котловану одной бесконечной халупой. Дни стояли солнечные. Работа по погрузке шла медленно. Я ждал ежедневный буксир, а лёгкие баржи уже собирались, – в надежде увидеть Джео или Джекелин.
Большую часть времени я абстрагировался от происходящего. Иногда сидел у каюты, наблюдая за народом в доке: грузчиками, плотниками, капитанами, то и дело наведывающимися в фабричную лавку. Я ощущал себя марсианином. Слегка в недоумении, но, по большому счёту, ничем не интересуясь. Бывало, на приходе я наблюдал за всем этим с всепоглощающим чувством снисхождения. За зеленой речной долиной, серебристо-серой водой, её мерцающей поверхностью, уходившей к Ньюбергу, где чинили серьёзно поврежденные баржи, за маленьким серым моторным буксиром, туда-сюда таскавшем баржи, похожим на играющего с плавающими калошами терьера, за грузчиками в белых касках, все как один бывшими загорелыми, жирными, пышущими здоровьем и полностью лишёнными воображения, за снующими у подвижной части желоба для камня, баржами, лёгкими и груженными, выстроенными в линию у дока, грузовиками, кранами, пневматическими дрелями, время от времени принимавшимися жужжать, и редкими взрывами со стороны каменоломни с той или иной стороны холма. Чуть ближе бесформенного вида тётка под полтинник без предупреждения вываливала помойное ведро в водяную воронку, а до этого всё утро орала, что её мужик – сукин-сын-чертов-алкаш, а другая тётка, чуть поддатая, может постарше, может помоложе, возилась с бадьёй у веревки с раскачивающимся шмотьем, и обе они – неухоженные, буйные, невежественные, злобные, – погружаясь в мечты о белокожей заднице, яростно колотящейся о деревянные края кровати. Бля, бля, бля, бля, бля…. Эти некрасивые бабы еще могли стать прекрасными в своей распаленной страсти… или же не могли? Баааабаааахх – я отвлекаюсь на далекий взрыв из каменоломни на холме. Потом обе тётки пропали, а неизвестный грузчик, шести футов ростом, в белой каске, лёгкой синей рубашке, красные ручищи упёрлись в бёдра, встал и пялится на меня. Я кивнул ему. Нельзя сказать, чтоб его морда светилась дружелюбием.
– Вам-то гондонам легко! – сказал он.
– Да, это образ жизни.
Я задумался, пытался ли он преодолеть в себе возмущение. На мне были одни лишь шорты, и я грелся на солнышке с сигаретой и банкой пива. Ноги – грязные. К тому же, я три дня не брился. Я, похоже, злил его. Возможно, он старался не думать о том, что подобные мне существуют в том же мире, что и вафельная, белая, лишенная всяких запахов плоть его молоденькой дочки.
– Ты в курсе, что вам, бомжам, запрещается жрать пиво на борту, в курсе?
– Отъебись, – сказал я.
– Что ты сказал?
– Пиво-бабы-сиськи, – пояснил я.
– Типа, шутник?
Я отпил ещё пива.
– Ты на драку нарываешься, не так ли?
– Очень может быть, – ответил он. Взвесил за и против, сплюнул и отвернулся.
– Вам-то гондонам точно легко! – произнес он на прощанье.
Грузчики по определению терпеть не могут капитанов барж, поскольку последние не работают. То, что время от времени напрягает в работе, – это когда приходится сталкиваться со злобой людей, считающих свой труд добродетелью. Тяжко объяснять человеку, обойденному социальными привилегиями, что потеха гораздо важнее дела.
Так что я обрадовался, когда меня все-таки загрузили, и я снова присоединился к спускающемуся по реке каравану. Продолжало светить солнце, и большую часть времени я проводил, лежа на крыше радиорубки под солнечными лучами, ронявшими свет на двенадцать барж, составляющих наш караван. Берег по обеим сторонам резко поднимался над водой, между и вокруг бурых масс голых скал обильно росли деревья. Эта часть Гудзона, от Манхеттена до Олбани, является исторической частью Америки. Деревья были очень зелёными. Капитаны сидели на кормах своих барж, в основном – на крышах радиорубок, осматриваясь по сторонам, на стульях, словно адмиралы на ютах галеонов. С некоторыми были подруги, устроившиеся в шезлонгах под пляжными зонтами кричащей расцветки. И все были крайне мирные и расслабленные, пока мы не прошли под мостом Джорджа Вашингтона.
На Причале 72 сойти на берег у меня не вышло. Уже стоял буксир, готовый таскать меня. Это произошло вчера вечером. А этим утром, когда я пробудился, стоял туман.
Меня загрузили 112“ щебня. И хорошо, и плохо. Не особо пыльно, поэтому надо не так много воды, так что он поступает на борт в более сухом состоянии, чем всякая мелочь. Камень поступает по склону холма к самому берегу реки из отвала на пристани по узкой брезентовой конвейерной ленте шириной фута в два. Длинный, туннелеобразный вал достаточно высок, чтобы человек смог войти в механизм конвейерной ленты. Издали она напоминает своими очертаниями серую стрелу, направленную острым концом от холма к воде, и, как я уже рассказал, остальные конструкции могли бы быть скелетом серой ящерицы или насекомого. Это наземный железнодорожный состав[33] для щебня. Человек в маленьком домике, возвышающемся над кромкой воды в конце кожуха вала, отслеживает движение щебня, гравия или пыли, поступающих по металлическому желобу на баржу. Чем меньше вал, тем больше требуется воды для пыли. Когда грузится пыль, она врывается на баржу как наводнение. Это может оказаться изрядным гемором. Вода сочится через деревянные планки палубы, стремительно заполняя трюм, в течение многих часов после погрузки, и ты вынужден ее откачивать. Палубная баржа должна везти весь груз на палубе. Дно можно грузить лишь тяжелыми балками для лучшей плавучести. После погрузки оно превращается в темное, сырое, липкое место, более угрюмое, чем под самым тёмным пирсом. Иногда я ныкал там свой баян, в герметичной коробке, ниже уровня воды. Закавыка с 1 1/2 “ в том, что обычно он идёт медленнее, чем более мелкий груз, на разгрузочную площадку всевозможных песочно-щебневых корпораций, так что вполне вероятно, что застрянешь в ожидании разгрузки, причём никаких тебе сверхурочных.
Я размышлял об этом, спускаясь по реке, и размышляю об этом сейчас, где-то на Лонг-Лйленд-Саунд, отрезанный от всего туманом.
– Какого черта я здесь делаю?
Почему я не в Индии или не в Японии, или не на Луне?
Всё меняется – всё остаётся прежним.
– Какого черта я здесь делаю?
Я прибыл в Лондон вечером накануне отплытия в Америку.
Я решил никого не навещать. Это бы значило объясняться… обычные пересечения с людьми на моём пути из ниоткуда в никуда.
Я вышел из здания вокзала и смешался с уличной толпой. Был час пик. Закрывались магазины. В сумерках люди шныряли в сторону метро. Мужчины, низкорослые и скрюченные, торговали газетами. Как обычно, меня наполнило ощущение бодрости, которое, казалось, источали рядовые лондонцы. Временами, оно веселило меня, временами – бесило, а раз-другой во время войны, помню, меня радовало чувство общности, имманентно присущее этому ощущению. Однако, на сей раз, беспричинно покидая Францию, направляясь беспричинно в Америку, остро воспринимая себя как чужака в любом месте, где бы я не очутился, это чувство давило на меня. Я болезненно переживал собственную отчужденность.
И она сопровождала меня, сколько я себя помню, набирая обороты с каждым новым хамским проявлением внешнего мира, с коим я так и не заключил ни единого договора с тех пор как, окровавленный, выскочил из тёплой материнской матки. Во мне рано развился страх перед всеми социальными группами, особенно теми, кто, без дальнейших церемоний, взял на себя право подвергать оценке все мои действия согласно неким нормативным предписаниям, по которым они будут поощрять или же наказывать меня. Я не способен уважать абстрактные вещи типа государства, или метафорические – типа правителя. И меня только злит система, в которой, в силу папашиного имени и размера его состояния, я с самого начала оказался в столь шокирующем непривилегированном положении. Но более всего меня поражало, по мере того как я взрослел, не то, что вещи были тем, чем они были, причем поражало до ужаса, а то, что остальные имеют наглость полагать, что я воздержусь от агрессии по отношению к ним.
В тот момент я очутился в самой гущи дорожного движения, растерявшийся, ни вперёд, ни назад мне нельзя, и стискивал в руках сумку и плащ, пока не сменился сигнал светофора. Я метнулся на противоположную сторону и быстро смешался с толпой на тротуаре. Временами, в похожих ситуациях меня поражала собственная лопоухость. Несмотря на то, что я шагал быстро, я понятия не имел, куда я направляюсь. Я пытался всё продумать, пока плыл от Кале до Дувра, спрашивая себя, что же меня подвигло садиться на корабль в Саутгемптоне, когда вполне мог сделать это в Ле-Авр. По той или иной причине, я бы предпочёл провести вечер перед отъездом в Лондоне. Встречаться с кем-то конкретно желания не было. Я постарался не транслировать о факте своего приезда. Вспоминаю приступ ностальгии по поводу национальной столицы, где мне редко доводилось провести более чем день-другой. Когда я был в Лондоне в семнадцать лет, я, помнится, подумал, что однажды я поселюсь здесь, но после нескольких лет на континенте, я перестал быть в этом так уж уверен. Почему-то у меня с трудом получалось воспринимать англичан всерьёз. Я часто удивлялся той абсурдной разнице между тем, что они говорили, и как они это говорили, между нередким отсутствием таланта и воображения и степенью уважения к себе, которое они пытались снискать просто за счёт благоприобретенного акцента.
Говоря, что я люблю Лондон, я имею в виду, что считал его одним из тех мест, где возможно существование человека, подобного мне, где обитатели, несмотря на множество своих абсурдных привычек, склонны уважать личную жизнь другого. До определенной степени, конечно же, но в большей мере, чем, скажем, в Москве, Нью-Йорке, Пекине. (Я уже чувствовал, что моё возвращение из Америки будет происходить по маршруту Лондон-Париж.) Я не к тому, что лондонцы страдают желанием соваться, куда не просят. Страдают, причём больше, чем русские или америкосы. Насколько я могу судить, но они по природе консервативны, как и основная масса тех, кто не доведён до отчаяния, и основное конституционное положение, определяющее положение индивида в обществе, за одну ночь вряд ли перестанет действовать. Лондонские полисмены на работе не таскают с собой каждый день оружие.
Начал накрапывать дождь. Улицы и серые дома вокруг «Виктории» произвели на меня гнетущее впечатление. Многие мои воспоминания связаны с вокзалом «Виктория». Во время войны я много раз приезжал на «Викторию» и уезжал с неё, рядом расположенные улицы и дома казались вполне знакомыми. Я припомнил, как смотрел на Джилловские Кальварии в Вестминстерском соборе[34], как отказал проститутке, зазывавшей меня на мастурбацию в одно из бомбоубежищ напротив вокзала, как пошёл с другой проституткой в один из соседних переулков, размышляя, что она, пожалуй, старше моей мамы. Вокзальный бар, кафе, наполненные паром из огромных титанов для воды и кофейников, и в то же время грязные, засохшие сэндвичи под стеклом, длинные, отделанные плиткой туалеты со снующим народом, сутолоку пассажиров в шляпах-котелках и при зонтиках с утра пораньше.
Было начало седьмого. Пятнадцать часов в Лондоне до отбытия поезда, после него сразу перескакиваешь на пароход. Есть время надраться и протрезветь, дважды пообедать, затащить кого-нибудь в койку. Времени куча и при этом не хватает, словно полёт пчелы к цветку, и ноль обязательств.
Я поймал такси и попросил водителя отвезти меня на площадь Пиккадилли, которая почти центр, и там, я знал, легко снять комнату в одном из больших отелей, отвечавших моему инкогнито… никаких вопросов, всё необходимое, все постояльцы дефилируют мимо тебя. Пройдя по широкому ковру к лифту и беззвучно поднявшись на энн-ый этаж, пересекши коридор, я узнал, что мне выделили дальнюю комнату с видом на вентиляционную шахту и пожалел, что специально не попросил номер, выходящий на улицу. Ключ в замок, дверь распахивается, включается свет, у комнаты невыразительный вид, как это всегда было и будет, она невосприимчива к приходящему и уходящему человеческому потоку, аккуратно застеленная постель, портье щелкает выключателем ночника, дыбы определить местонахождение последнего, невнятные гостиничные шумы со стороны вентиляционной шахты, улыбающееся лицо… «Всё в порядке, сэр?» – чаевые, уходит, дверь закрывается за ним. Я раздавил окурок в пепельнице, которую поставили у кровати на столике со стеклянной крышкой, чтобы не дай Бог его не сожгли сигаретами. Вытянулся на койке, созерцая белый потолок с едва заметной решёткой в центре. Вдруг подумалось, что там вполне могут разместить камеру или микрофон, а то и смертоносный шарик, чтоб пускать в помещение газ.







